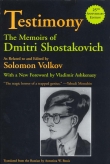Текст книги "Шостакович и Сталин-художник и царь"
Автор книги: Соломон Волков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
Альбина Берга. Как известно, венский мастер прослоил свой предсмертный шедевр музыкальными аллюзиями и цитатами. Для Шостаковича (он прислонялся перед Бергом, а тот, в свою очередь, благосклонно отнесся к Первой симфонии молодого ленинградца) этот прием великого австрийца оказался как нельзя более на руку.
Уже первая часть концерта Шостаковича полна зашифрованных звуковых намеков; ее основное настроение – глубокая грусть, переходящая в благородное негодование. Тут вспоминается знаменитая фраза русского писателя-революционера XVIII века Александра Радищева: «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала».
Во второй части концерта ухо улавливает отчетливый прообраз главнейшего из всех музыкальных символов Шостаковича – его музыкальной подписи D– Es-С– И (немецкие буквенные обозначения нот ре – ми бемоль – до – си, составляющих монограмму композитора в немецком же написании: D.Sch). И вновь – как и в Фортепианном трио – на сверхтрагических, почти истерических тонах врывается еврейский танец («кровавый фрейлехс», но выражению одного писателя).
Третью часть концерта композитор записывал прямо в дни совещания у Жданова: по
514 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
форме это – пассакалья, медленный танец, который за его мрачную торжественность любили Бах и Гендель. Шостакович с помощью этой старинной конструкции возводит нечто вроде ораторской трибуны. С нее он обращается с пламенной речью – к кому? Неужели к самому Сталину?
На это предположение наводят музыкальные намеки: часть начинается «сталинским» оборотом из Седьмой симфонии, а валторны интонируют ритмическую фигуру знаменитого «мотива судьбы» из Пятой симфонии Бетховена). «So pocht das Schicksal an die Pforte» («так судьба стучится в дверь»), – сказал об этой теме Бетховен, и Шостакович – как он сам говорил, совершенно сознательно – соединяет эту реминисценцию с напоминанием о Сталине: намек более чем красноречивый.
Ранит душу потрясающая каденция – монолог скрипки. Она заставляет вспомнить ах-матовскую строку из ее «Реквиема» – «измученный рот, которым кричит стомильонный народ» – и растворяется в лихорадочной карнавальной пляске финала.
Карнавал в Скрипичном концерте трактуется Шостаковичем в духе рассуждений Михаила Бахтина о «народной смеховой культуре». В ней ведущим мотивом Бахтин считал
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН^__ *515
переход жизни в смерть, а смерти в жизнь. Бахтин говорил о «карнавальном мироощущении», освобождающем от страха. Сам Шостакович освобождение от страха нередко ассоциировал в своих произведениях с танцем смертника. Для него это – автобиографическая эмоция, столь сильная, что он в своей музыке возвращался к ней вновь и вновь.
Таков и вихревой бурлескный финал Скрипичного концерта, требующий от исполнителя поистине сверхчеловеческих усилий. Этот концерт – одна из вершин мирового скрипичного репертуара, но адекватные интерпретации редки – кроме всего прочего, также и из-за непомерных физических требований, им предъявляемых.
Связи музыки Шостаковича с бахтинской философией культуры очевидны; они постепенно становятся предметом все более внимательных исследований1. Ко многим сочинениям Шостаковича можно отнести рассуждения Бахтина о «карнавальных» формах в культуре, которые «стали мощными средствами художественного постижения жизни, стали особым языком, слова и формы которого обладают исключительной силой символичес-
1 В бахтинский круг входил ближайший друг композитора Иван Соллертинский. Нет сомнений втом, что он, будучи прозелитом по натуре, обсуждал с Шостаковичем идеи Бахтина.
516 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
• 517
кого обобщения». Само собой, Бахтина увлекала и русская карнавальная традиция; он находил ее не только у столь любимого им Достоевского, но и у Гоголя, и даже у Пушкина (одним из наиболее «карнавализованных» произведений которого Бахтин считал «Бориса Годунова»).
Именно в рамках бахтинской парадигмы совмещаются имиджи Шостаковича-юродивого и Шостаковича-скомороха. Скоморох – центральная фигура русской карнавальной культуры. Это были средневековые бродячие (хотя некоторые из них оседали при дворах знати) артисты, музыканты, шуты. Их потомки дожили до начала XX века, и юный Митя Шостакович вполне еще мог увидеть где-нибудь на Марсовом поле в Петрограде выступление одного из подобных балаганных развлекателей в жанре так называемого райка.
В строгом смысле этого слова «раек» – это то, что на Западе называют peep-show: ящик, заглянув в который через специальное увеличительное стекло можно было увидеть сменяющие друг друга картинки, часто непристойного содержания. В России этот ящик прозвали «райком» потому, что одной из самых популярных картиночных серий была как раз история о грехопадении Адама и Евы – «райское действо».
Комментировал подобные двусмысленные картинки для публики, отпуская злободневные, а иногда и опасные политические шуточки, ярмарочный скоморох-«раешник». Этот балаганный жанр притягивал молодого Шостаковича; в 1925 году он писал своему приятелю: «За последнее время я стал изучать историю раешника, а посему выражаюсь иногда ио-раешному».
Вспоминал ли Шостакович эти впечатления молодых лет в 1948 году, когда под впечатлением «ждановского» совещания и развернувшейся за ним погромной вакханалии задумал одну из язвительнейших сатир в истории мировой музыки – свой так называемый «Антиформалистический раек»? Вероятно. Но, думаю, еще больше для него, как для человека, всегда сознательно встраивавшегося в культурную традицию и чуткого к интертекстам, значил тот факт, что сочинение под названием «Раек» в 1870 году написал самый почитаемый им русский композитор – Мусоргский.
«Раек» Мусоргского – беспощадный музыкальный памфлет, в котором автор ядовито высмеял (точь-в-точь как завзятый скоморох) своих врагов – музыковедов, критиков, композиторов. Шостакович позаимствовал у Мусоргского многие приемы – хлесткую форму,
518
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
519
задорный балаганный текст (в составлении которого ему много помог его друг Лев Лебединский), пародийные цитаты. Но объектом своей сатиры Шостакович избрал шишек поважнее: не более не менее как самих Сталина и Жданова.
В своем «Антиформалистическом райке» Шостакович вывел этих советских вождей под достаточно прозрачными именами – товарищей Единицына и Двойкина, выступающих на некоем собрании во Дворце культуры с осуждением формалистической музыки антинародных композиторов1. Товарищ Едини-цын распевает свой текст на музыку грузинской народной песни «Сулико». В Советском Союзе всем, от мала до велика, было известно, что «Сулико» – любимая песня Сталина, так что этот намек понятен сразу. А Двойкин, напевая вальс, требует от музыки, как и Жданов, «красоты и изящества» и, как тот, сравнивает сочинения формалистов с бормашиной и музыкальной душегубкой.
А когда в финале опуса Шостаковича на музыку залихватского канкана из французской оперетки Сталин призывает бороться с буржуазными идеями, а тех, кто ими заражен,
В «Райке» Шостаковича появляется также товарищ Трой-кин, в котором можно усмотреть карикатуру на Дмитрия Шепи-лова, одного из организаторов «жданоиского» совещания.
велит сажать в лагеря строгого режима, то сикофанты с величайшей готовностью подхватывают и эти указания вождя: «Смотри туда, смотри сюда – и выкорчевывай врага!»
Фокус заключается в том, что этот зловещий финал-апофеоз написан Шостаковичем с таким издевательским блеском, что в концертах он всякий раз бисируется. Я присутствовал на нескольких памятных исполнениях «Антиформалистического райка» на Западе (дирижировали Мстислав Ростропович, Владимир Ашкенази, Владимир Спиваков). И хотя певцы пели по-русски и слушатели не понимали подавляющего большинства рассыпанных по тексту словесных и музыкальных аллюзий и намеков, публика в зале неизменно покатывалась от хохота.
Андрей Синявский, в 1965 году отправленный в лагерь строгого режима за «антисоветские» писания, вспоминал, как один из заключенных сказал ему с завистью: «Вам, писателям, и умирать полезно». Имелось в виду, что писатель даже негативный опыт может использовать и претворить в художественное произведение.
Как раз это и сделал Шостакович. Залитый с ног до головы официозным дерьмом, он умудрился трансформировать его в золото музыки – Первый скрипичный концерт и «Анти-
520 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
• 521
формалистический раек». И ведь какие разные это сочинения: трагическое полотно в одном случае, скоморошина – в другом. Но оба опуса написаны с напором, с полной душевной отдачей.
Объединяет их и еще одна типичная для Шостаковича черта. Хотя оба произведения создавались «в стол», без надежды на скорое исполнение, Шостакович заботился и о будущей публике – чтобы и ей было слушать интересно, чтобы музыка была увлекательной.
Это замечательное качество Шостаковича – постоянное его внимание к слушательскому восприятию, стремление удержать интерес публики до конца произведения – часто раздражает снобистских комментаторов и ставит их в тупик. Они недовольны: если финал Пятой симфонии Шостаковича трагичен, то почему он написан так, что публика после окончания исполнения от восторга неистовствует? Да потому же, почему зажигателен кан-канный финал «Антиформалистического райка»: Шостакович, как истинный скоморох или юродивый, пытается преодолеть силы зла, самовыразившись в искрометном творческом акте.
Трагическая музыка отнюдь не обязана быть тягучей или скучной. То же и сатира; она мо-
жет быть не только язвительной и назидательной, но также и увлекательной.
Интересно сравнить судьбу «Райков» Мусоргского и Шостаковича. Свою сатиру Мусоргский, превосходный пианист, демонстрировал в 1870 году направо и налево к вящему удовольствию своих слушателей, причем, как вспоминал критик Владимир Стасов, «хохотали до слез даже сами осмеянные».
Изданная через год с небольшим, пьеса Мусоргского быстро разошлась. Но исполняли ее со временем все реже: для того чтобы получить полноценное удовольствие от «Райка» Мусоргского, надо хорошо разбираться в истории русской музыки.
Шостакович, в отличие от Мусоргского, сочинял свой «Раек» в полном секрете; это и понятно, учитывая объекты его сатиры и ситуацию в Советском Союзе. Из-за этого в истории создания «Антиформалистического райка» много загадок, которые вряд ли когда-нибудь будут разгаданы до конца. Это – типичное произведение «катакомбной» культуры, создававшееся в подполье, тайно, урывками, под угрозой сурового наказания. Мир впервые узнал о его существовании из предисловия к опубликованным на Запада в 1979 году, уже после смерти Шостаковича, его мемуарам, а премье-
522 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
• 523
pa «Антиформалистического райка» состоялась лишь в 1989 году. Но с тех пор популярность этого сатирического опуса Шостаковича все возрастает, и он вполне может оказаться одним из знаковых музыкальных произведений XX века.
Как написал Пастернак: «Здесь прошелся загадки таинственный ноготь». К сочинениям, помеченным таким образом, судьба часто оказывается благосклонной.
В своем «Райке» Шостакович язвительно и сжато описал организованный Сталиным в 1948 году культурный погром. После «жда-новского» совещания в газете «Правда» 11 февраля появилось постановление ЦК ВКП(б) от 10 февраля «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели». Это был классический сталинский документ, подытоживавший взгляды и указания вождя по поводу текущей культурной ситуации.
Ничего нового инсайдеры в нем не обнаружили, за исключением окончательного списка композиторов, отнесенных к «формалистическому, антинародному направлению». Перечислены были Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Арам Хачатурян, Виссарион Шебалин, Гавриил Попов и Николай Мясков-
ский – именно в таком, совершенно очевидно не соответствовавшем алфавиту порядке1.
В советское время ритуальное значение подобных списков было огромным: они, при полном отсутствии какой бы то ни было объяснительной информации, давали наиболее ясное представление о месте и оценке человека в социальной иерархии – как со знаком плюс, так и со знаком минус.
Известно, что Сталин уделял таким вещам много внимания. Из опубликованных ныне секретных предварительных меморандумов видно, что список «формалистов» утрясался до самой последней минуты: первым в нем оказывался то Прокофьев, то Мясковский, да и состав менялся. Итоговое появление имени Шостаковича первым несомненно отражало мнение Сталина о степени ответственности композитора за, как было сказано в постановлении, «распространение среди деятелей советской музыкальной культуры чуждых ей тенденций, ведущих к тупику в развитии музыки, к ликвидации музыкального искусства».
Обо всем этом Шостакович, как стало недавно известно, узнал, как говорят американ-
В ночь с 10 на 11 февраля от инфаркта ла своим письменным столом скончался Сергей Эйзенштейн, которого в это время принуждали к переработке фильма об Иване Грозном с музыкой Прокофьева. Была ли тут какая-то связь? Узнал ли Эйзенштейн о том, что в «Правде» появится этот погромный текст, заранее? Об этом мы мохсем только гадать.
524 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
• 525
цы, «из уст лошади». 11 февраля в 6 утра ему позвонил секретарь Сталина Александр Поскребышев и вызвал в Кремль. Сталин распорядился, чтобы Поскребышев лично прочитал Шостаковичу текст партийного постановления.
Эта сталинская акция была, как всегда у вождя, двусмысленной и иезуитской. С одной стороны, она сигнализировала о персональном внимании вождя. С другой стороны, смахивала на садистскую порку по принципу «бьют и плакать не дают». Заодно Сталин, вероятно, хотел узнать от Поскребышева, как Шостакович эту порку воспримет.
Мимозно чувствительный Шостакович все это, разумеется, ощутил как глубочайшее унижение. Он вспоминал позднее, что, пока Поскребышев читал ему постановление, он не мог смотреть ему в лицо, изучая вместо этого кончики желтых кожаных ботинок сталинского секретаря1.
У этой малоприятной истории был скорее комический эпилог. В1956 голу,уже после смерти Сталина, Шостакович пришел за лекарством для своей сестры в аптеку, которая обслуживала ВИПов. Стоя в очереди, он вдруг услышал знакомый голос: «Дмитрий Дмитриевич, что же это вы забываете старых друзей?» Лицо говорившее го было Шостаковичу незнакомо, но зато он сразу узнал его желтые ботинки. Да, все в тех же ботинках (видно, заграничная кожа оказалась очень прочной) перед ним стоял бывший секретарь Сталина Поскребышев! Тут же в очереди Поскребышев успел рассказать Шостаковичу, что тоже стал жертвой культа личности: незадолго до смерти Сталина его отстранили от дел и чуть не арестовали, а вот теперь он на заслуженной пенсии.
Немедленно за опубликованием постановления последовали «оргмеры». Шостаковича выгнали с работы из Московской и Ленинградской консерваторий. Многие его произведения (как и музыка других «формалистов») исчезли из репертуара Сталин решил форсировать растянувшееся на шестнадцать лет (с 1932 года!) формирование Союза композиторов: в апреле 1948 года состоялся Первый съезд этой организации, на котором с основным докладом выступил ее свежеиспеченный Генеральный секретарь (титул, предложенный самим Сталиным) – Тихон Хренников.
34-летний боевитый Хренников, с энтузиазмом выполняя возложенную на него миссию кардинальной культурной «перестройки», выкрикивал в испуганный зал: «Довольно симфоний-дневников, псевдофилософствую-щих симфоний, скрывающих за внешним глубокомыслием скучное интеллигентское самокопание!.. Наши слушатели устали от модернистской какофонии! Пора вернуть нашу музыку на путь ясности и реалистической простоты!.. Мы не позволим более разрушать великолепный храм музыки, созданный гениальными композиторами прошлого!»
То, что адресаты этой ругани были вынуждены публично каяться, уже никого не удивля-
526 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
•527
ло. Оживление вызвало только выступление ломавшего из себя клоуна Мурадели, громко начавшего: «Товарищи! Я не совсем согласен с постановлением ЦК нашей партии».
Тут, как вспоминал делегат съезда Дмитрий Толстой, в зале воцарилась напряженная тишина. Но когда Мурадели продолжил: «Мало партия дала мне по мозгам! Надо было меня наказать еще строже, еще сильней!» – то все с облегчением выдохнули воздух. Все стало на свои места.
Мясковский, один из обвиненных в «скучном интеллигентском самокопании», осторожно записал в своем дневнике: «Интересное Постановление ЦК ВКП(б) в связи с оперой Мурадели. Позитивно верное, негативно неточное. Боюсь, что принесет больше вреда советской музыке, чем пользы. Сразу обрадовались и зашевелились все посредственности»1.
Увы, эта запись Мясковского лишь намекала на размер культурного ущерба. По всей стране прокатилась волна организованных сверху и широко освещаемых в mass-media публичных собраний, на которых, согласно заранее утвержденному ритуалу, дружно вос-
Даже через двадцать пять лет, в 1973 году, последние две фразы покойного Мясковского показались советским цензорам слишком взрывными и при публикации были вычеркнуты.
хвалялось «историческое постановление» и злобно, по-хамски поносились «антинародные формалисты».
Все это превратилось в мощную антиинтеллектуальную по1тулистскую кампанию. Тщательно отобранным «представителям народа» была предоставлена возможность безапелляционно учить уму-разуму всемирно признанных композиторов. Типичным в этом смысле можно считать опубликованное в одной из газет (и подобострастно перепечатанное журналом «Советская музыка») высказывание мастера литейного цеха машиностроительного завода г. Нальчика тов. А. Загоруйко: «…Правильное Постановление, оно приблизит музыку к народу… Некоторые советские композиторы, которым народ создал все условия для творчества, пишут такую музыку, что ее слушать невозможно. Ни складу, ни ладу – дикий вихрь звуков…»
Казалось, вся страна от тов. Сталина до тов. Загоруйко говорит одним голосом и никакая попытка трезво оценить ситуацию в этой обстановке «охоты на ведьм» невозможна. Тем удивительней читать дневниковые записи, сделанные в те дни 22-летним москвичом, студентом-комсомольцем Марком Щегловым: «Впечатление от газетных откликов такое. Много лет люди терпели, слушали, исполняли
528•СОЛОМОН ВОЛКОВ
музыку Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна и др. и не осуждали (по крайней мере так открыто и так резко) ее только потому, что, как казалось, в центральных, авторитетных кругах она пользовалась сочувствием. Каждый стеснялся обнаруживать непонимание новейшей музыки, потому что это на самом деле отнюдь не достоинство. Теперь же все вдруг поняли, что это был «ложный стыд», и почти с ликованием сообщают городу и миру о том, что у них давно уже болит голова от музыки Шостаковича и т.п.».
Молодой идеалист Щеглов искренне пытался разобраться в происходящем. Он отлично знал, что очень многие не любят и не понимают не только Шостаковича и Прокофьева, но и Глинку, Мусоргского, даже Чайковского, всяким там «симфониям» предпочитая русский народный хор, а то и популярные песни. Значит ли это, что серьезная музыка должна исчезнуть, уступив место массовым жанрам? И Щеглов заключал: «Заставить Шостаковича писать одни обработки народных песен невозможно. Он и без нашего вмешательства писал не только сложнейшие оперы, но и массовые песни и вообще вещи, вполне доступные среднему слушателю. Обидно за Шостаковича».
Трагическая истина заключается в том, что так в те дни думали немногие. Лаже в музы-
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН*529
кальной среде Шостакович мог опереться лишь на дюжину-другую близких ему людей. Евгений Шварц вспоминал об отношении к Шостаковичу профессионалов, которых писатель именовал «музыкальными жучками»: «Как только эти жучки сползаются вместе, беседа их роковым образом приводит к Шостаковичу. Обсуждается его отношение к женщинам, походка, лицо, брюки, носки. О музыке его и не говорят – настолько им ясно, что никуда она не годится. Но отползти от автора этой музыки жучки не в силах. Он живет отъединившись, но все-таки в их среде, утверждая самим фактом своего существования некие законы, угрожающие жучкам».
Шварц утверждал, что эти музыканты-«жучки» испытывали по отношению к Шостаковичу страх, а их жены – еще и ненависть. Для них, но словам Шварца, это был некий выродок, биологическая аномалия, они воспринимали его как композитор Сальери – Моцарта в знаменитой маленькой трагедии Пушкина:
… я избран, чтоб его
Остановить, – не то мы все погибли,
Мы все, жрецы, служители музыки…
Эта почти что мессианская зависть и злоба прорвались в характерном жесте Владимира Захарова, одного из новых руководителей Сою-
530 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
за композиторов, когда он на заседании, ударив кулаком по столу, вскричал: «Товарищи! Запомните! С Шостаковичем покончено раз и навсегда!»
В этом в те дни был уверен не один лишь Захаров. Другой временщик, Мариан Коваль, с издевкой писал о том, как отечественные «влюбленные гимназистки-музыковеды» и западные «торговцы славой» возвели Шостаковича в ранг «классика» и «гения мировой музыкальной культуры». «Было от чего закружиться голове!» – восклицал Коваль, нравоучительно добавляя, что подобные «подхалимствующие панегирики… отвратили Шостаковича от глубокого продумывания и осознания статей «Правды». Вследствие этого, по мнению Коваля, нераскаявшийся Шостакович «по-прежнему с презрением относился к музыкальному языку своего народа, к русской народной песне, предпочитая космополитизм».
Все это были только внешне эстетические, а по сути – политические обвинения. В стране в то время малейшее, даже воображаемое отклонение от партийной линии могло привести к «полной гибели всерьез» (Пастернак), согласно знаменитому лагерному распоряжению при конвоировании заключенных: «шаг вправо, шаг влево считаются побегом». Пастернак, по-прежнему примерявший на себя
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН*5 31
судьбу Шостаковича, в надписанной в эти дни композитору своей книге призывал его быть мужественным – «… и да хранит Вас издали Ваше великое будущее»1.
Но Шостакович, хотя внешне и продолжал хорохориться (в одном письме он даже процитировал хрестоматийную чеховскую фразу «Мы еще увидим небо в алмазах»), на самом деле был близок к полному отчаянию. Во время катастрофы 1936 года он был моложе на двенадцать лет, а теперь вдруг почувствовал, что его покидают не только моральные, но и физические силы: «У меня весьма частые головные боли, кроме того, почти без перерыва тошнит, или, как говорят народным языком, мутит… За последнюю неделю, или несколько больше, я сильно постарел, и этот процесс постарения идет вперед с неслыханной быстротой, физическое постарение, к сожалению, отражается и на потере душевной молодости». Черное облако стояло над Шостаковичем. Как свидетельствуют друзья, он ожидал ареста и вновь думал о самоубийстве, вспоминая пушкинское: «Давно, усталый раб, замыслил я побег…» Но он не знал, что у Сталина были на него другие планы.
' Самого Пастернака в 1948 году вновь обвиняли в том, что его творчество «нанесло серьезный ущерб советской поэзии».
532 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
Глава VII
ПОСЛЕДНИЕ КОНВУЛЬСИИ
И СМЕРТЬ ЦАРЯ
В позднюю сталинскую эпоху среди советских интеллектуалов получил распространение следующий анекдот. У армянского радио спрашивают: начнется ли вскорости третья мировая война? Ответ радио: «Войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется»,
Об этом анекдоте должен был вспомнить Шостакович, когда в марте 1949 года его вызвал к себе министр иностранных дел Вячеслав Молотов, считавшийся тогда вторым после Сталина человеком в СССР. Он предложил композитору отправиться в составе высокопоставленной советской делегации в Нью-Йорк на Всеамериканскую конференцию в защиту мира (Cultural and Scientific Conference for World Piece) и таким образом активно включиться в «борьбу за мир». Но Шостакович отказался, хотя давно уже хотел побывать в Америке. Он объяснил Молотову, что
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН*533
находится в плохой физической форме (что было, как мы знаем, правдой).
16 марта Шостаковичу позвонили и предупредили: не отходить от телефона, с ним будет разговаривать товарищ Сталин. Поначалу композитор подумал, что его разыгрывают. Но потом решил, что вряд ли кто осмелится столь опасно шутить. И действительно, услышал в телефонной трубке памятный ему по личной встрече (1943 год, Большой театр, обсуждение нового Государственного гимна) голос Сталина, поинтересовавшегося, почему Шостакович отказывается от столь ответственного поручения.
Шостакович обладал быстрым умом и уже доказал однажды, что в диалоге с вождем он не тушуется. Не растерялся он и на сей раз (видимо, внутренне подготовился заранее) и ответил, что в Америку не поедет потому, что уже больше года музыку его и его коллег не играют, она в Советском Союзе запрещена.
И тут произошло неслыханное: желавший загнать композитора в угол Сталин растерялся сам. Контролировавший до мелочей проведение своих идеологических указаний в жизнь, гордившийся своим всезнанием и никогда не упускавший возможности это всезнание продемонстрировать и подчеркнуть, вождь на сеЙ раз изобразил неведение и крайнее удивление:
534
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
535
«Как это не играют? Почему это не играют? По какой такой причине не играют?»
Шостакович объяснил, что есть соответст– кующий приказ Главреперткома (т.е. цензуры). И тут Сталин пошел на уступку первым: «Нет, мы такого распоряжения не давали. Придется товарищей из Главреперткома поправить». И сменил тему разговора: «А что у вас там со здоровьем?»
В ответ Шостакович сказал чистую правду: «Меня тошнит». Это была вторая неожиданность для Сталина. Надо полагать, что он немного опешил, но виду, как человек опытный и подчеркнуто спокойный, не подал, предпочитая истолковать слова Шостаковича в их прямом, а не метафорическом смысле: «Почему тошнит? Отчего тошнит? Вам устроят обследование».
Этим тщательным обследованием заня– V лась целая медицинская бригада из так называемой «Кремлевки» – специальной поликлиники для правительства и советской элиты. Вывод кремлевских врачей был: Шостакович действительно болен. Шостакович дозвонился до уже знакомого ему личного секретаря Сталина Поскребышева, чтобы сообщить о диагнозе, Но у того, видимо, были свои инструкции от Хозяина: Поскребышев ответил композитору, что ничего передавать Сталину не
будет. Надо ехать в Америку, а вождю следует написать соответствующее благодарственное письмо – нечего с Хозяином препираться.
Сталину, конечно, о врачебном заключении было доложено своим чередом, но он его решил проигнорировать. Диктатор, надо полагать, рассудил, что он уже и так с избытком продемонстрировал свою благожелательность и терпимость: приказ Главреперткома о запрещении исполнения целого ряда произведений «композиторов-формалистов» – Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна, Шебалина, Мясковского и других – был отменен.
История эта, впервые преданная гласности Шостаковичем в его мемуарах, получила подтверждение в опубликованных ныне документах. Причем документы эти свидетельствуют, что реакция Сталина была прямо-таки молниеносной. Сразу после разговора Сталина с Шостаковичем, буквально в тот же день, на письменный стол вождя легла затребованная им справка от заместителя председателя Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР. В этой справке перепуганный чиновник, абсолютно не понимая, в какую сторону вдруг подул ветер, докладывал точный список запрещенных опусов Шостаковича, на всякий случай угодливо сообщая, что «его лучшие произведения: Фортепианный квинтет,
536 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
• 537
1-я, 5-я, 7-я симфонии, музыка к кинофильмам и песни исполняются в концертах».
Напрасный труд! Стрелочник всегда должен быть наказан. И уже на другой (!) день незадачливые бюрократы были прихлопнуты следующим распоряжением Совета Министров СССР: «Москва, Кремль. 1. Признать незаконным приказ № 17 Главреперткома Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР от 14 февраля 1948 г. о запрещении исполнения и снятии с репертуара ряда произведений советских композиторов и отменить его. 2. Объявить выговор Главреперткому за издание незаконного приказа». И подпись: «Председатель Совета Министров Союза ССР И. Сталин».
Любопытно сравнить всю эту историю с телефонными звонками Сталина Булгакову (1930 год) и Пастернаку (1934 год). Честность, мужество и внутренняя сила Булгакова и Пастернака сомнению не подлежат. Оба они в наше время обладают куда более определенным «антисталинским» имиджем, чем Шостакович (в отличие от Шостаковича, многократного лауреата премии имени вождя, сталинские награды и Булгакова, и Пастернака миновали). Но для них обоих телефонный разговор с вождем, хоть и краткий, стал событием огромной важности. К своему диалогу со
Сталиным и Булгаков, и Пастернак возвращались в своем воображении вновь и вновь, год за годом.
С Шостаковичем ничего подобного не произошло, хотя Сталин, несомненно, на такой эффект рассчитывал. И для Булгакова, и для Пастернака (который называл Сталина «гигантом дохристианской эры») вождь был фигурой, как говорят американцы, «большей, чем жизнь». Шостакович, с его саркастическим мироощущением, по отношению к вождю, напротив, никаких романтических эмоций, как я уже отмечал, не испытывал. В его представлении Сталин никогда не обладал ни малейшим ореолом. Весьма вероятно, что Сталин, будучи незаурядным психологом, это чувствовал.
Шостакович также, в отличие от Булгакова и Пастернака, не был естественным собеседником. Те – каждый, конечно, на свой лад – были прирожденные барды, говоруны. Шостакович, наоборот, в общении (особенно с малознакомыми людьми) часто оказывался до такой степени замкнутым, отчужденным и нервным, что это делало его, по мнению Евгения Шварца, «человеком, трудновыносимым для окружающих».
По наблюдению хорошо знавшей композитора Мариэтты Шагинян, Шостакович иногда
538 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
• 539
напоминал инопланетянина «какой-то электрической заряженностью, истечением большой силы биотоков от всего его существа. Он всегда говорил с большим напряжением для себя. Когда он пришел ко мне в первый раз в комнату, перекрытую пополам большой и твердой ширмой, очень устойчивой, не успел он перешагнуть порога, эта устойчивая ширма внезапно повалилась на пол, как от ветра. Вся моя семья была взволнована не менее меня. Начинать говорить с ним было всегда трудно. И надо было понимать, с чего правильно начать, чтобы разговор состоялся». Таково было и мое впечатление от Шостаковича.