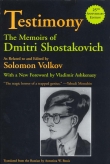Текст книги "Шостакович и Сталин-художник и царь"
Автор книги: Соломон Волков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
284 •соломон волков
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
285
но вождем на общение с культурной элитой, казалось бы, он уже неплохо разбирался в ее психологии – и вдруг такой неприятный сюрприз! Конечно, мнением подневольных «творческих масс» можно было и пренебречь. Но ситуацию существенно осложняла прошоста-ковическая позиция Горького, о которой Сталин узнал в середине марта 1936 года.
Эта независимая позиция самого большого культурного авторитета страны зафиксирована в его письме к Сталину, черновик которого был в недавние годы извлечен из архива Горького. Оно написано из Крыма, где Горький, отдыхая, встретился с только что приехавшим с кратким визитом в Советский Союз писателем Андре Мальро, в тот период видным деятелем европейского антифашистского культурного фронта.
Горький писал Сталину, что Мальро сразу же атаковал его вопросами о Шостаковиче. Это должно было напомнить Сталину о том, что «прогрессивные круги» на Западе высоко ценят Шостаковича и беспокоятся о его судьбе. Сталин также знал, что большим поклонником композитора является друг и союзник Горького, нобелевский лауреат Ромен Роллан, сравнительно недавно с почетом принятый в Кремле; при этом Сталин неоднократно заверял Роллана, что находится в его «полном рас-
поряжении». (29 января 1936 года «Правда» назвала Роллана, в связи с его семидесятилетием, «великим писателем» и «великим другом» Советского Союза. Этот панегирик сопровождался большой фотографией писателя на первой странице.)
Письмо Горького Сталину было взвешенно резким. Он весьма решительно отвергал статью «Сумбур вместо музыки», делая вид, что не догадывается о том, кто за ней стоит: «Сумбур», а – почему? В чем и как это выражено – «сумбур»? Тут критики должны дать техническую оценку музыки Шостаковича. А то, что дала статья «Правды», разрешило стае бездарных людей, халтуристов всячески травить Шостаковича».
Конечно, Горький заботился о том, чтобы не загнать Сталина в угол. Поэтому он изображает дело таким образом, что подлинная позиция Сталина – совсем другая: «Вами во время выступлений Ваших, а также в статьях «Правды» в прошлом году неоднократно говорилось о необходимости «бережного отношения к человеку». На Западе это слышали, и это приподняло, расширило симпатии к нам».
Чтобы убедить Сталина в необходимости дать «задний ход», Горький использует сильный психологический аргумент – Шостакович, по словам писателя, «весьма нервный.
286 •соломон волков
Статья в «Правде» ударила его точно кирпичом по голове, парень совершенно подавлен». Это совпало с доносами НКВД о том, что Шостакович близок к самоубийству, и не могло не встревожить Сталина1.
Дело начинало выходить из-под контроля. Сталинская идеологическая инициатива, задуманная как широкомасштабная, но сугубо внутренняя акция, внезапно получила международный резонанс. Это было весьма некстати: как раз в эти дни французская палата депутатов обсуждала франко-советский договор о
1 Иногда высказывается сомнение в том, было ли это письмо отправлено Сталину и получено им. Как это ни парадоксально, в данном случае это не важно. Ближайшее окружение Горького было буквально нашпиговано сталинскими осведомителями. Личный секретарь писателя Петр Крючков даже не скрывал, что является сотрудником НКВД. Регулярные рапорты составляла прислуга,члены антуража Горького, многие из его друзей и посетителей: Сталин желал знать буквально о каждом шаге и слове писателя. В такой «прозрачной» ситуации Горькому было достаточно зафиксировать свои мысли на бумаге,чтобы они стали известны Сталину – тем более если они были изложены в виде письма к вождю. Вдобавок Горький ОТНЮДЬ не делал секрета из своего отрицательного отношения к атакам на Шостаковича. Осталась запись разговора с Горьким, сделанная ранней весной 1936 год;! заведующим отделом литературы и искусства газеты «Комсомольская правда» Семеном Трегубом: «Вот Шостаковича побили. Талантливый он человек, очень талантливый. Я ею слушал. Нужно было бы критиковать его с большим знанием дела и с большим тактом. Мы всюду ратуем за чуткое отношение к людям. Следовало бы проявить его и здесь». Поражает совпадение высказанного писателем Трегубу с содержанием письма Горького Сталину. Ясно, что Горький через Трегуба и ему подобных сигнализировал в Кремль о своем отношении к травле Шостаковича. Эти сигналы были немедленно подхвачены НКВД, в донесении которого со слов информанта но кличке «Осипов» сообщалось, что «Горький с большим неудовольствием относится к дискуссии о формализме».
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН*28 7
взаимной помощи, подписанный почти год назад, но только сейчас представленный на ратификацию. Правая французская пресса вела против ратификации активную кампанию. В этих условиях приходилось взвешивать каждый шаг, и позиция таких видных фигур, как Роллан или Мальро, внезапно приобретала большее, чем обычно, значение. Самоубийство Шостаковича могло перерасти в международный скандале непредвиденными последствиями.
Вот когда Сталин, по всей видимости, решил отступить. Нетрудно догадаться, насколько этот экстраординарный шаг был для него неприятен и унизителен. Сталин умел маневрировать, когда того требовали обстоятельства, и делал это в своей политической карьере не раз. Но он был болезненно самолюбивым человеком и получивший непредвиденный оборот случай с «Леди Макбет Мценского уезда» воспринял как серьезный удар по своему культурному авторитету. Чтобы пойти на компромисс и при этом не потерять лица, Сталину нужна была помощь одного человека – самого Шостаковича И он эту помощь получил.
288 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
• 289
Глава III
ГОД 1936: ПЕРЕД ЛИЦОМ СФИНКСА
У друзей Шостаковича, как и у самого композитора, не было ни малейших сомнений относительно того, кто стоял за неожиданной и брутальной атакой на его оперу «Леди Макбет Мценского уезда». Они отлично понимали, что гром, как говаривал Пушкин, «грянул не из навозной кучи, а из тучи». Как отметил один из приятелей Шостаковича, Исаак Глик-ман, «никто, кроме Сталина, не мог поднять руку на знаменитую оперу и разгромить ее».
Еще только что приверженцы композитора наблюдали необыкновенный взлет дарования Шостаковича и с замиранием сердца следили за почти единодушным признанием его гения и публикой, и художественной элитой. И вдруг – такая беспрецедентная катастрофа! Теперь тот же Гликман боялся, что наступила «другая, беспощадная эра, во мраке которой скроется звезда» молодого композитора.
Все говорило за это – и широко организованная кампания собраний и статей, громив-
ших Шостаковича за «формализм», и исчезновение его «чуждых» произведений со сцены и из репертуара, и, наконец, зловеще сгущавшаяся политическая атмосфера: в советской media уже поспешно приравнивали формализм к контрреволюции.
О настроениях в Москве тех месяцев можно судить по письму писателя Всеволода Иванова Горькому: «Город наполнен разговорами о двух врагах советской власти – империализме и формализме». Конфидант Сталина Иван Тройский публично пообещал, что к «формалистам», которых он приравнял к контрреволюционерам, «будут приняты все меры воздействия вплоть до физических».
Очень тревожило друзей Шостаковича, как композитор психологически выдержит свалившиеся на него испытания. Но в эти ужасные дни Шостакович, всегда представлявшийся окружающим хрупким и нервным, в своих непосредственных реакциях иногда почти инфантильным существом, внезапно показал себя твердым орешком. Возвратившись из Архангельска, он вел себя внешне невозмутимо, приговаривая: «У нас в семье, когда порежут палец, волнуются, а когда большое несчастье, никто не паникует».
Друзья композитора с изумлением убедились, что кризис сделал Шостаковича новым
290 •соломон волков
человеком. Одному из них он разъяснил: «…помни, что переживать все плохое, окружающее тебя, внутри себя, стараясь быть максимально сдержанным, и при этом проявлять полное спокойствие куда труднее, чем кричать, беситься и кидаться на всех». Но мало кто догадывался, до какой степени этот инцидент изменил личность и судьбу композитора.
Роковое значение случая с «Леди Макбет» для Шостаковича невозможно переоценить. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что в каком-то очень важном смысле всю его жизнь, все творчество можно разделить на две части – до и после появления в «Правде» направленной против него редакционной статьи. Рассказывали, что и десятилетия спустя Шостакович носил целлофановый мешочек с текстом «Сумбура вместо музыки» у себя на груди, под одеждой, как некий «антиталисман».
Проницательный наблюдатель Зощенко считал, что от удара, нанесенного Сталиным в 1936 году, Шостакович так никогда и не оправился. Об этом можно спорить. Но одно ясно: испытания этого периода сообщили невероятное ускорение развитию и характера, и творческого дарования молодого автора. Эти испытания привели Шостаковича к важнейшим выводам и решениям.
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН*291
Понятно, что уже первая статья в «Правде» не могла не ввергнуть композитора – хотя бы и временно – в состояние душевного разброда и смятения. Но он также учел реакцию на эту статью советской «общественности». Еще из Архангельска Шостакович телеграммой попросил своего ленинградского друга подписаться на почтамте на газетные вырезки с упоминанием своего имени. Никогда ранее композитор не собирал рецензий на свою музыку, но в 1936 году завел специальный большой альбом, на первую страницу которого вклеил вырезку «Сумбур вместо музыки», аккуратно пополняя эту мазохистскую коллекцию многочисленными отрицательными отзывами.
В письмах молодого Шостаковича горько мизантропические высказывания – не редкость; нетрудно представить себе, что постоянное перечитывание всего этого направленного против него газетного полива отнюдь не изменило его представление о человечестве в лучшую сторону. Но парадоксальным образом Шостакович в тот момент гораздо более, чем поношений, опасался публичной поддержки. В Архангельске на его концерте, который прошел после атаки в «Правде», публика встретила Шостаковича стоя, бурными овациями.
292 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН*293
Гром аплодисментов был таков, что композитору показалось, будто обрушился потолок.
Это была, конечно, явная, открытая демонстрация. Реакция Шостаковича была на удивление трезвой. Он не стал упиваться успехом у аудитории, ибо сразу же понял, как может на это отреагировать Сталин. Здесь Шостакович проявил себя отменным психологом Ведь только близкие к Сталину люди знали, как болезненно реагирует вождь на подобные публичные проявления культурных эмоций. Он не верил в их спонтанность, подозревая всюду «заговор».
Напомню, что, когда на съезде писателей в 1934 году Бухарину после его знаменитой речи зал учинил стоячую овацию, таг перепугался не на шутку, прошептав аплодировавшему Горькому: «Знаете, что вы сейчас сделали? Подписали мне смертный приговор». Ахматова тоже считала, что одним из поводов для беспощадной атаки на нее в 1946 году был успех у публики, стоя приветствовавшей поэтессу на ее выступлении в Колонном зале; реакцией Сталина было его знаменитое: «Кто организовал вставание?»
В этой ситуации Шостакович больше всего опасался, что враждебное внимание Сталина будет привлечено к какой-нибудь демонстративной акции аудитории на одном из пред-
ставлений его балета «Светлый ручей» в Большом театре. Поэтому «Балетную фальшь» – появившуюся 6 февраля 1936 года статью «Правды» против «Светлого ручья» – композитор воспринял, как это ни удивительно сейчас звучит, почти с облегчением после нее «Светлый ручей» испарился со сцены Большого театра, а с балетом исчез и возможный источник новой вспышки раздражения Сталина против Шостаковича.
В этой же серии быстрых интуитивных реакций композитора на новые обстоятельства был его решительный отказ от предложения устроить согласованный с ЦК партии (а значит, и со Сталиным) концерт из произведений Шостаковича в Большом театре, в котором, в частности, должен был вновь прозвучать целиком последний, «каторжный» акт «Леди Макбет». Отказ свой Шостакович объяснил другу так: «Публика, конечно, будет аплодировать – ведь у нас считается «хорошим тоном» быть в оппозиции, а потом появится еще одна статья под каким-нибудь заголовком вроде «Неисправимый формалист».
Финальный акт «Леди Макбет» для концертного показа был отобран, конечно, не случайно: это был именно тот кусок оперы, который Сталин в раздражении не дослушал во время своего рокового визита в Большой театр
294 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН*295
26 января 1936 года. Многие считали этот акт наиболее эмоционально сильным в «Леди Макбет» (вспомним, что именно на нем прослезился Горький).
Вероятно, были надежды, что Сталин, услышав эту музыку, переменит свое отрицательное мнение о Шостаковиче1. Известно, что в защиту Шостаковича обратился к Сталину большой поклонник и покровитель молодого композитора маршал Тухачевский. Шостакович, в присутствии которого это письмо писалось, никогда не забыл, в каком страхе, поминутно вытирая платком выступившую у него на затылке испарину, сочинял свое послание к вождю прославленный военачальник. (Об этом затылке композитор неминуемо должен был вспомнить через год с небольшим, когда газеты объявили об аресте и расстреле Тухачевского по сталинскому приказу.)
В отличие от некоторых своих великих современников Шостакович уже в тот период никаких иллюзий по отношению к Сталину не питал. Это становится ясным, если сопоставить некоторые документальные свидетельства тех лет. В 1936 году Корней Чуковский за-
Сохранилась запись великого старца Немировича-Данченко, в которой высказано убеждение, что если бы Сталин пошел на «Леди Макбет» в его, Немировича, театре, то катастрофы бы не произошло: режиссер сумел бы доказать гениальность композитора и отстоять его творение.
писывал в дневнике о том неизгладимом впечатлении, которое на него с Пастернаком произвело лицезрение Сталина, появившегося на съезде ВЛКСМ: «Что сделалось с залом! А ОН стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его – просто видеть – для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась с какими-то разговорами Демченко. И мы все ревновали, завидовали, – счастливая! Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. (…) Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова…»
Сравним с этим экзальтированным откликом пародийный, в своей суперофициальности как будто списанный из коммюнике газеты «Правда», отчет Шостаковича в письме к своему другу Ивану Соллертинскому о совещании рабочих-стахановцев в 1935 году, куда композитор был приглашен как почетный гость: «Видел в президиуме товарища Сталина, тт. Молотова, Кагановича, Ворошилова, Орджоникидзе, Калинина, Косиора, Микояна, Посты шева, Чубаря, Андреева и Жданова. Слушал выступления товарищей Сталина, Ворог-
#
296
СОЛОМОН ВОЛКОВ
Шилова и Шверника. Речью Ворошилова я был пленен, но после прослушивания Сталина я совершенно потерял всякое чувство меры и кричал со всем залом «Ура!» и без конца аплодировал. (…) Конечно, сегодняшний день является самым счастливым днем моей жизни: я видел и слышал Сталина».
На этом же заседании присутствовал Эрен-бург, и в своих позднейших антисталинских мемуарах он описал воздействие Сталина на зал как гипнотическое, сравнив себя и других слушателей с поклонниками шамана Но Шостакович на этот гипноз очевидным образом не поддался. Его реакция – это рассчитанная на перлюстрацию отписка в подчеркнуто бюрократическом стиле, где «чужое слово» (термин Михаила Бахтина) явно прочитывается как таковое, в то время как отношение Чуковского (и с его слов – Пастернака) окрашено подлинными, хотя и несомненно преувеличенными чувствами. Это подтверждается и адресованными Сталину стихами Пастернака того периода (они уже упоминались в предыдущей главе).
Трезво рассуждая, Шостакович не мог ожидать, что, прослушав четвертый акт «Леди Макбет», Сталин сменит гнев на милость. В опере, написанной скорее «по Достоевскому», чем по Лескову, финал был наиболее «достоевским».
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН•297
Его явным источником была книга Достоевского о русской каторге «Записки из Мертвого дома», которую композитор знал буквально наизусть. Для Шостаковича (как и для Достоевского) каторжане – плоть от плоти русского народа, отрезанные от него безжалостной силой государственного принуждения. Они в первую очередь жертвы, а затем уж преступники, точнее – жертвы скуки и жестокости русского быта, сделавшего из них преступников.
Когда Шостакович в 1932 году сочинял эту музыку, то он уже знал о внезапных арестах и высылке многих своих знакомых: поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского, режиссера Игоря Терентьева и еврейских художников Бориса Эрбштейна и Соломона Гер-шова. Но особенно сильно Сталин ударил по Ленинграду после загадочного убийства 1 декабря 1934 годав коридоре Смольного одного из лидеров партии, Сергея Кирова.
В городе немедленно начались массовые аресты, расстрелы и высылки – так называемый кировский поток, в дни которого близкая к кругу Шостаковича ленинградка Любовь Шапорина записывала в свой потаенный дневник: «Все эти аресты и высылки необъяснимы, ничем не оправданы. И неотвратимы, как стихийное бедствие. Никто не застрахо-
• 299
298 •соломон волков
ван. Каждый вечер, перед сном, я приготовляю все необходимое на случай ареста. Все мы – без вины виноватые. Если ты не расстрелян, не сослан (и не выслан), благодари только счастливую случайность».
После атаки «Правды» на оперу Шостаковича многое чересчур острое и смелое в ней, что раньше удобным образом списывалось как «обличение царского режима», вдруг предстало в совершенно ином свете. Ужас жизни в огромной стране, где в атмосфере всеобщей слежки и подозрительности властвует полиция, где любой мелкий доносчик волей случая может оказаться вестником рока и где унижение человеческой личности является единственной, страшной в своей обыденности и неизменности реальностью, – все это стало проецироваться на советскую действительность.
Но особенно вопиюще неуместной выглядела теперь каторжная сцена: ведь Сталин еще в 1935 году закрыл Общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев и ликвидировал выпускавшийся этим обществом журнал «Каторга и ссылка». О каторге надо было твердо забыть, ибо даже само это слово могло вызвать так называемые неправильные аллюзии. Туда же, в черную дыру забвения, следова-
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
ло провалиться большинству русских революционеров «досталинского» периода.
Людей выдергивали пачками из действительности, дабы она соответствовала новой схеме. Официальная история, даже недавнего прошлого, соответственно наскоро переписывалась, бесстыдным и массивным образом.
Интеллигенция, бессильная и напуганная, наблюдала за всем этим в ужасе. Остро ощущая свою неслыханную уязвимость, она интуитивно пыталась нащупать возможную стратегию поведения. Николай Пунин, недавно арестованный, но выпущенный на свободу после того, как его жена Анна Ахматова обратилась к Сталину с отчаянным письмом, записывал в своем дневнике в 1936 году: «Я знаю, многие живу!' желанием уберечься от жизни: одни, сжимаясь до невидимости, другие, не ожидая ударов, ударяют сами. Никто не Дружен с нею. И у меня с ней ничего не вышло. Скоро итог. Страшна смерть».
Шостакович, при внешней сдержанности, был в эти дни внутренне напряжен как натянутая струна и, как многие утверждали, близок к самоубийству. Об этом, согласно легшему на стол к Сталину рапорту секретно-политического отдела НКВД, говорил композитор Юрий Шапорин. В этом же рапорте сообщалось, что мать Шостаковича позвонила Зощен-
300 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
• 301
ко и спросила в отчаянии: «Что же теперь будет с моим сыном?»
И семья Шостаковича, и он сам опасались и ожидали худшего. Близкая подруга, подчеркивая, что композитор вел себя «с необычайной выдержкой и достоинством», все же вспоминала, как он «ходил по комнате с вафельным полотенцем и говорил, что у него насморк, скрывая слезы. Мы его не покидали, дежурили по очереди…»
Именно в этот период Шостакович адаптировал пушкинскую модель поведения русского поэта перед лицом прямой угрозы со стороны царя. (Напомним, что в этой парадигме – согласно пушкинской трагедии «Борис Годунов», а затем и онере Мусоргского того же названия – поэт скрывался за тремя масками: Летописца, Юродивого и Самозванца.) Поведение Шостаковича в 1936 году было неожиданным, но естественным. Оно вытекало из мгновенного интуитивного анализа обстановки, свойственного гениям. Следование Пушкину было инстинктивным.
Шостакович ощущал в себе драгоценный дар национального летописца: дар уникальный, ибо музыка есть искусство лирическое par excellence; в область эпическую, да еще с социальным оттенком, она вторгается сравнительно редко. Между тем уже с 1934 года компо-
зитор, по собственному выражению, «вынашивал» эпическое симфоническое произведение, нащупывая его форму и нарративные приемы. Этим «летописным» опусом стала его Четвертая симфония.
Мясорубка «кировского потока» перемолола также и последние иллюзии ленинградской интеллигенции. В том же номере «Ленинградской правды» от 28 декабря 1934 года, в котором Шостакович впервые объявил о своей работе над новой Четвертой симфонией, на соседней странице был опубликован типичный для тех дней истерический призыв от имени «рабочих масс» к уничтожению «врагов и вредителей»: «Вечное им проклятье, смерть!.. Немедля нужно стереть их с лица земли». Такой же людоедский жаргон, согласно газетам тех дней, усвоила и интеллигенция. С тех пор ежегодные волны печатных и устных требований «уничтожить», «расстрелять», «вырвать с корнем» стали ритуалом, избегнуть участия в котором удалось немногим.
Поэт-эмигрант Георгий Адамович со справедливой грустью напишет позднее в парижской газете: «Вот перед нами список людей, требующих «беспощадной расправы с гадами»: профессор такой-то, поэт такой-то, известная всей России заслуженная актриса такая-то… Что они – хуже нас, слабее, подлее, глупее?
302
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
• 303
Нет, ни в коем случае. Мы их помним, мы их знали, и, не произойди революции, не заставь она их обернуться неистовыми Маратами, никому и в голову не пришло бы усомниться в правоте их принципов и возвышенности стремлений».
Общественный дискурс в Советском Союзе с наступлением эпохи террора был бесповоротно скомпрометирован. Ранее еще допускавшаяся «невинная оппозиция» (выражение Лидии Гинзбург) стала теперь немыслимой, существенно индивидуальные реакции были исключены из общественного обихода. В media могли проникнуть только клишированные, с незначительными отклонениями, реакции на текущие события.
В этих условиях Шостакович, в более ранние годы любивший откликаться в печати на волновавшие его культурные вопросы, пошел на радикальный шаг: он отказался от серьезных публичных высказываний. Его выступления в печати стали приобретать все более гротескный характер. Постепенно они превратились в тотальные отписки, не имевшие практически ничего общего с реальным человеком, скрывавшимся за всей этой шелухой казенных слов и штампованных оборотов.
Шостакович напялил на себя шутовскую маску. Эта маска должна была устроить царя,
но в потенции серьезно подрывала позиции композитора в интеллектуальной среде. Шостаковичу грозила нешуточная опасность в глазах элиты из «Моцарта», гения, превратиться в дурачка, юродивого, которого мог с ханжеским пренебрежением лягнуть любой «приличный» интеллектуал.
Это было невыносимо трудное и унизительное решение. Приняв его, Шостакович порывал с долгой традицией, согласно которой русский интеллигент обязан был глубокомысленно высказаться по поводу каждого важного вопроса, волнующего общество. Так, к примеру, поступили во время революции 1905 года русские музыканты (среди которых был и будущий профессор Шостаковича по классу фортепиано в консерватории Леонид Николаев), опубликовав в оппозиционной газете смелое требование: «Когда по рукам и ногам связана жизнь, не может быть свободно и искусство, ибо искусство есть только часть жизни… Россия должна наконец вступить на путь коренных реформ».
Неважно, что к середине 30-х годов схожий с этим заявлением публичный жест в Советском Союзе был невозможен и, поскольку оппозиционной печати давно уж не существовало, деятелям культуры оставалось лишь более или менее красноречиво поддерживать су-
304 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
• 305
шествующий порядок вещей. Парадоксальным образом в среде культурной элиты все еще высоко ценились ответственность, серьезность и стилистическая изощренность в выражении этой «поддержки».
Примечательным примером такой изысканной сервильности может служить речь Юрия Олеши в 1936 году на собрании писателей Москвы, где обсуждались статьи «Правды» против Шостаковича. Олеша начал с того, что ему нравится музыка Шостаковича, нравится этот композитор как личность: «Этот человек очень одарен, очень обособлен и замкнут. Это видно во всем. В походке. В манере курить. В приподнятости плеч. Кто-то сказал, что Шостакович – это Моцарт».
Но затем Олеша делает пируэт и объясняет, почему из статей «Правды» ему стало ясно, что Шостакович – все-таки не Моцарт: «Внешне гений может проявляться двояко: в лучезарности, как у Моцарта, и в пренебрежительной замкнутости, как у Шостаковича. Эта пренебрежительность к черни и рождает некоторые особенности музыки Шостаковича – те неясности, причуды, которые ролсдаются из пренебрел‹ительности и названы в «Правде» сумбуром и кривлянием».
Но высший пилоталс Олеша продемонстрировал в восхвалении автора статей в «Правде»:
«Я подумал о том, что под этими статьями подписался бы Лев Толстой»1. И далее изобретательный писатель делает абсолютно ясным, к кому именно относится это ошеломительное сравнение с классиком: «… страстная, неистовая любовь к народу, мысль о страданиях народа, которые надо прекратить, ненависть к богатым классам, к социальным несправедливостям, презрение к так называемым авторитетам, ко лжи – эти черты объединяют великого русского писателя с вол‹дями нашей великой Родины». Аудитория поняла Олешу правильно: в стенограмме собрания после этих слов писателя значится: «аплодисменты».
Вот из такого круга подлинных знатоков и гурманов культурной эквилибристики и выходил прочь решительно Шостакович, принимая вместо этого на себя тялскую, ответственную и совершенно не гламурную роль национального летописца (для которой, как композитор справедливо полагал, в нем были залол‹ены творческие силы и возмолсности). Для внему-зыкального дискурса Шостакович теперь приберегал шутовскую маску юродивого. За этот свой шаг он впоследствии дорого заплатит.
У великого поэта Николая Заболоцкого
К этому времени Олеша был известен как автор романа «Зависть», прославленного изяществом стиля и свежестью метафор; роман этот до сих пор по праву относят к шедеврам русской прозы XX века Поэтому лесть Олеши имела особый вес
306 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
есть памятная строчка об огне, мерцающем в сосуде. Шостакович ощущал в себе этот огонь. Вопрос теперь был в том, не уничтожит ли Сталин, в чьих руках была жизнь и смерть каждого из его подданных, этот огонь заодно с сосудом?
Предварительный ответ на этот вопрос можно датировать определенным числом: 7 февраля 1936 года. Именно в этот день Шостакович был принят тогдашним председателем Комитета по делам искусств Платоном Керженцевым. Этот вежливый и образованный, по большевистским понятиям, чиновник (он был автором нескольких теоретических книг о театре) в данном случае всего лишь навсего исполнял роль сталинского порученца, что ясно из его докладной записки к вождю об этом важнейшем для судьбы композитора разговоре.
В тот момент Сталин повторил стратегию Николая I визави Пушкина в 1826 году, когда решалась судьба «кругом виноватого» перед властью поэта, с той разницей, что советский вождь не снизошел до личной встречи. (Очень может быть, что и не решился – мало ли, зайдет речь о «симфонических звучаниях», всяких там диезах и бемолях. В таких случаях Сталин любил выглядеть подготовленным, компетентным, авторитетным. С литературой ему это удавалось, а вот с музыкой…)
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН•307
В 1826 году император прочел пушкинского «Бориса Годунова» и, следуя своему первоначальному импульсу (а также учитывая другие соображения и даже, быть может, под некоторым влиянием выраженных в «Годунове» идей), воспроизвел жест царя Бориса, защитившего непокорного Юродивого от своих излишне ретивых придворных: «Оставьте его». В 1936 году Сталин, вслед за Николаем I, «простил» своего Юродивого – Шостаковича.
Пушкинская модель поведения поэта перед лицом царя вновь сработала. Но, как и сто десять лет назад, это была опасная и дерзкая стратегия. Для ее успеха требовалось, чтобы царь решил следовать полумифической культурной традиции. Сталин на это пошел, но потребовал от Шостаковича встречных шагов. Это было их танго.
Керженцев передал Шостаковичу несколько вопросов и предложений, явно полученных им от Сталина. Среди них была любимая сталинская идея (Керженцеву как теоретику культуры вполне чуждая) о том, что надо бы композитору «по примеру Римского-Корсакова поездить по деревням Советского Союза и записывать народные песни России, Украины, Белоруссии и Грузии и выбрать из них и гармонизировать сто лучших песен». Шостакович выразил свое с этим согласие, но ехать ни-
• 309
308•СОЛОМОН ВОЛКОВ
куда, как мы далее увидим, даже и не подумал. (Интересно, что, когда в 1948 году аналогичное пожелание было высказано композитору Араму Хачатуряну, тот покорно отправился в поездку по деревням Армении.)
Другим предложением Сталина для Шостаковича было – «перед тем, как он будет писать какую-либо оперу или балет, прислать нам либретто, а в процессе работы проверять отдельные написанные части перед рабочей и крестьянской аудиториями». И здесь Шостакович решил проблему однозначно: несмотря на время от времени публично провозглашаемые композитором различные «творческие планы», никогда в жизни он более не завершил ни балета и ни оперы. И соответственно, никогда не представил на сталинское одобрение ни одного своего либретто1.
Но самый главный и каверзный вопрос Сталина к Шостаковичу, переданный через Керженцева, был – «признает ли он полностью критику его творчества» в статьях «Правды»? Вот где она, прямая параллель с вопросом, за-