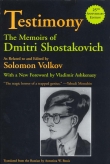Текст книги "Шостакович и Сталин-художник и царь"
Автор книги: Соломон Волков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
В который раз это удалось именно Шостаковичу! В 1937 году его Пятая симфония оказалась единственным услышанным современниками повествованием о Большом Терроре; Седьмая и Восьмая симфонии с наибольшей полнотой передали ужас, отчаяние и беспрецедентную амбивалентность эмоций, связанных с переходом от предвоенной к военной
эпохе. А теперь Десятая симфония стала первым произведением, глубоко отразившим смену жестокой сталинской зимы неуверенной «оттепелью» (как теперь, с легкой руки Эрен-бурга, будет именоваться этот краткий период хрущевского «либерализма»).
Все эти симфонии Шостаковича были подлинными романами о времени, в которых эпический охват исторических событий с высоты птичьего полета необыкновенным образом сочетался с тончайшими психологическими прозрениями и лирическими откровениями, достойными подлинного поэта.
Как мы уже видели, за творческим путем Шостаковича внимательно и ревниво наблюдал его великий компатриот с собственными глубоко выношенными идеями о том, каким должен быть современный большой роман о времени, – Борис Пастернак. Он, как известно, имел музыкальное образование, был неплохим пианистом, в юности пытался сочинять музыку, всерьез мечтал о-композиторской карьере. Хотя для Пастернака великая музыка кончалась на Скрябине, его понимание того, что делал Шостакович, было профессиональным – что называется, «изнутри».
Еще в молодости Пастернак сказал своему другу, что «книга есть кубический кусок горящей, дымящейся совести». Это определение
590
•
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
• 591
удивительным образом подходит к произведениям Шостаковича – этого Пастернак не мог не чувствовать. Вдобавок поэту должна была импонировать эволюция стиля Шостаковича в сторону большей простоты и ясности, но при этом с сохранением многослойнос-ти и противоречивости эмоционального содержания – пушкинский путь.
Сам Пастернак развивался в том же направлении: начав как поэт исключительной метафорической сложности и изысканности, он постепенно стал стремиться писать так, чтобы «всем было понятно». Его мечтой было создание «такой книги, которая касалась бы всех».
Подобным произведением в годы войны оказалась, несомненно, Седьмая симфония Шостаковича с ее шумным международным успехом. Пастернаку тогда сходная попытка не удалась. В 1943 году он начал писать поэму о войне «Зарево» в расчете на публикацию ее в газете «Правда» (что ему было обещано). Но в итоге «Правда» напечатала только отрывок, и разочарованный Пастернак прекратил дальнейшую работу над поэмой. В качестве «утешительного приза» ему было предложено перевести для «Правды» поэму грузина Георгия Леонидзе о Сталине «Детство вождя», но тут разобиженный Пастернак продемонстрировал норов и отказался.
За этот взбрык поэта наказали: вычеркнули из списка кандидатов на очередную Сталинскую премию, куда он был включен за свои эпохальные переводы «Гамлета» и «Ромео и Джульетты». Зато эти переводы были замечены в элитных кругах Англии, где еще с конца 20-х годов начал формироваться небольшой, но влиятельный круг поклонников Пастернака. Эти британские интеллектуалы все чаще и восторженнее писали о Пастернаке и переводили его стихи и прозу на английский язык.
Для Пастернака все это было как свежее дуновение ветра в закупоренной наглухо комнате. Он объяснял приятельнице, что эти западные связи «оказались многочисленнее, прямее и проще, чем мог я предполагать даже в самых смелых мечтаниях. Это небывало и чудодейственно упростило и облегчило мою внутреннюю жизнь, строй мыслей, деятельность, задачи и так же сильно осложнило жизнь внешнюю».
Действительно, советские власти с большим подозрением наблюдали за незапланированным и неконтролируемым продвижением Пастернака на международную арену. Их особое неудовольствие вызвало неофициальное известие в 1947 году о выдвижении поэта на Нобелевскую премию.
Над Пастернаком начали сгущаться тучи,
• 593
592 •соломон волков
его возлюбленная Ольга Ивинская была арестована, но поэта уже невозможно было свернуть с избранного им нового пути, на котором потенциальная аудитория на Западе оказывалась не менее – а может быть, и более – важной, чем аудитория внутри Советского Союза. Как позднее комментировал сам поэт, «это – переворот, это – принятие решения, это было желание начать договаривать все до конца…».
С зимы 1945/46 года Пастернак, заявив: «Я уже стар, скоро, может быть, умру, и нельзя до бесконечности откладывать свободного выражения настоящих своих мыслей», – начал писать роман «Доктор Живаго», широкую историческую, философскую и поэтическую панораму пути русской интеллигенции с начала XX века до Второй мировой войны включительно. Он рассматривал этот роман как главное и итоговое свое произведение.
Уже рукопись первых глав «Доктора Живаго» Пастернак озаботился передать в Англию своим поклонникам, но пока без разрешения ее публиковать; это показывает, на кого с самого начала работы ориентировался автор. Роман писался напряженно и долго, до конца 1955 года. Все это время Пастернак, как мне представляется, не прекращал внутреннего ревнивого диалога и полемики с Шостаковичем.
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
Я сужу об этом, в частности, по любопытно воспаленному пассажу из письма Пастернака, написанного им в 1953 году, уже после смерти Сталина и незадолго до премьеры Десятой симфонии: «… музыка – самый распространенный вид отлынивания от каких бы то ни было ответов веку, небу и будущему, самый ходячий способ душевной маскировки, благодаря драгоценности звука, с помощью которого и материализованная ординарность заставляет себя слушать».
Для самого Шостаковича и многочисленных слушателей его Десятая и была тем самым «ответом веку, небу и будущему», о котором писал Пастернак, но мне понятно раздражение и нетерпение последнего. Десятая симфония видится мне более совершенным произведением, нежели «Доктор Живаго»1. Но с точки зрения идеологической и нравственной «Доктор Живаго», с его христианским мировоззрением, явился колоссальным прорывом вперед. Поражала неслыханная для той эпохи свобода автора от марксистских установок, после десятилетий беспрестанного промывания мозгов представлявшихся единственно
Анна Ахматова называла этот роман «гениальной неудачей», о чем и мне сказала как-то раз, добавив, что в нем Пастернаку по-настоящему удались только описания природы, а характеры вышли условные, картонные: «Я никого из этих людей не узнаю, а должна была бы..»
• 595
594 •соломон волков
возможной парадигмой даже для самых талантливых деятелей советской культуры.
И конечно, беспрецедентной была ориентация Пастернака на западную аудиторию, приведшая к тому, что «Доктор Живаго», непреодолимым препятствием к публикации которого на родине автора стала непробиваемая партийная цензура, в итоге впервые был издан в Италии, а затем во Франции, Англии, США и Германии. Через год с небольшим после появления «Доктора Живаго» на Западе (где роман стал и литературной, и политической сенсацией) Пастернак был наконец в 1958 году удостоен Нобелевской премии.
Пастернак откликнулся телеграммой в Нобелевский комитет: «Бесконечно благодарен, тронут, горд, удивлен, смущен». Он был первым советским писателем, ставшим нобелевским лауреатом, но реакция отечественных властей (и многих коллег, буквально обезумевших от зависти) оказалась неистовой. Началась санкционированная сверху кампания травли Пастернака, в ходе которой в «Правде» со статьей под названием «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка» выступил тот самый журналист Давид Заславский, которого в 1936 году задействовал Сталин в связи с направленной против Шостаковича атакой в той же «Правде».
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
Я очень хорошо помню атмосферу тех дней. Казалось, что вернулись сталинские времена, да события и развивались словно по утвержденному Сталиным железному сценарию: Пастернака поносили на собраниях, исключили из Союза писателей, а в газетах появились спешно организованные гневные «отклики трудящихся», из которых наиболее удручающее впечатление на деморализованную интеллигенцию произвело письмо экскаваторщика из Сталинграда Филиппа Васильцова: «Лягушка квакает… Я не читал Пастернака, но знаю: в литературе без лягушек лучше».
Шостакович должен был наблюдать за развертыванием «дела Пастернака» с тяжелым сердцем: уж очень все это напоминало кампании против него самого в1936и1948 годах. Сам композитор в этот момент находился в исключительно сложном и деликатном в политическом плане положении.
Дело в том, что Хрущев, даже и слышать не желавший об отмене партийного постановления 1946 года против Ахматовой и Зощенко, в мае 1958 года внезапно согласился дезавуировать «ждановское» постановление десятилетней давности, касавшееся Шостаковича, Прокофьева и других ведущих композиторов. Сделано это было осторожно, с оговорками, /
596 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТЛКОВИЧ И СТАЛИН
• 597
но в тот момент воспринималось как существенный отход от сталинских культурных догм.
Шостакович, как известно, в приватных беседах отреагировал на это, как он называл его, «историческое постановление об исправлении исторического постановления» скорее иронически. Но он не мог не понимать, что со стороны Хрущева это был важный дружеский жест.
Тут надо помнить вот о чем. После короткого промежутка все бразды правления в Советском Союзе вновь сошлись в одних руках. Хрущев довольно быстро превратился в нового диктатора, все решавшего единолично. Так он пытался заправлять и культурой, подражая в этом Сталину.
Хрущев был ловким и хитрым политиком. Его внешняя импульсивность и непосредственность являлись в значительной степени маской, скрывавшей расчет и умение лавировать в затруднительных обстоятельствах. Хрущев не мог уже прибегать к массовому террору как основному рычагу управления страной. Но эту работу за него проделал в свое время Сталин: огромная страна была запугана всерьез и надолго.
Поэтому, как наследник Сталина, Хрущев обладал достаточным полем для маневра. В культуре он осуществлял политику кнута и пряни-
ка. Кому что выпадет, определялось главным образом тактическими нуждами данного момента и в гораздо меньшей степени – личными вкусами и пристрастиями самого Хрущева. (Как оно было и при Сталине.)
Можно быть уверенным, что Хрущев в отличие от Сталина никогда не выслушал ни одной симфонии Шостаковича, а уж тем более его оперы. Относительно Пастернака Хрущев сам признал позднее, что не читал ни его стихов, ни «Доктора Живаго». Но в 1958 году политические карты легли так, что Шостаковичу достался пряник (хоть и достаточно черствый), а Пастернаку – кнут.
В мемуарах Хрущева имеется такой пассаж о «Докторе Живаго»: «… я сожалею, что это произведение не было напечатано, потому что нельзя административными методами, так сказать, по-полицейски, выносить приговор творческой интеллигенции».
Но это говорил Хрущев-пенсионер, а когда он был вождем Советского Союза, то поступал совсем по-другому. Тогда Пастернаку угрожали арестом, собирались выслать из страны. Под страшным давлением властей писатель публично отказался от Нобелевской премии и отправил покаянные письма Хрущеву и в редакцию газеты «Правда»; в последнем он фактически отрекся от своего романа.
598 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТА ЛИП
• 599
Это было невыносимым унижением, ибо на самом деле Пастернак продолжал считать «Доктора Живаго» главным делом своей жизни. Но даже этот достаточно мужественный человек, собравший все свои немалые силы для решительного поступка и смело перешагнувший заколдованную черту страха, был в конце концов сломлен все еще мощным репрессивным аппаратом постсталинского Советского Союза. Именно к такому результату и стремился Хрущев, и его позднейшие лицемерные сожаления сути дела не меняют совершенно.
На XX съезде партии Хрущев отпустил вожжи, по выражению Шостаковича – «дал слабину», но быстро оправился, раздавив мятежных венгров танками. Советской интеллигенции тоже надо было продемонстрировать, что она имеет дело с сильным и решительным хозяином. Начиная с 1957 года Хрущев провел серию встреч с деятелями культуры, на которых он развязно поучал писателей, поэтов, художников, кричал на них, топал ногами, матерился, сам себя заводя и распаляясь. Хрущев хотел показать этим подлинным, потенциальным или воображаемым оппонентам свою излюбленную «кузькину мать» – и преуспел в этом.
«Дело Пастернака» было лишь одним при-
мером из множества, но, быть может, наиболее символичным для эпохи Хрущева, а потому и получившим наибольший резонанс. Оно заставило и Шостаковича сделать ряд далеко идущих выводов.
Одним из них было ощущение, что и при Хрущеве неприкосновенность творческой личности в Советском Союзе осталась фиктивной. Парадокс заключался в том, что, хотя вероятность физического уничтожения сильно уменьшилась, одновременно было утеряно ощущение личной связи с вождем. Хрущев в меньшей степени, чем Сталин, был заинтригован феноменом гениальности, до него было труднее добраться, на что жаловался Пастернак: «Ведь даже страшный и жестокий Сталин считал не ниже своего достоинства исполнять мои просьбы о заключенных и по своему почину вызывать меня по этому поводу к телефону».
Хрущеву говорить по телефону с Пастернаком было не о чем. Поэт суммировал свое положение при новом режиме так: «… против движения бровей верховной власти я козявка, которую раздавить, и никто не пикнет…» Без сомнения, ощущения Шостаковича были такими же: не только никто не пикнет, но многие коллеги с величайшим удовольствием и рвением присоединятся к санкционированной
600 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
сверху травле. Таким было еще одно печальное наблюдение Шостаковича в дни «нобелевского скандала», подтверждавшее его прежний горький опыт.
Как минимум два раза – в1936и1948 годах – Шостакович сталкивался с предательством друзей и поклонников. Через то же в 1958 году прошел и Пастернак – бывшие соратники дружно обвинили его в «подлом предательстве». Студенты Литературного института вышли на антипастернаковскую демонстрацию с плакатом «Долой иуду!» и объявили о намерении бить стекла в доме поэта. Как Шостаковичу было не вспомнить о том, что «возмущенное население» било стекла на его даче, когда власти объявили композитора «формалистом».
И еще к одному болезненному для себя выводу пришел после травли Пастернака Шостакович: признание на Западе эфемерно – по крайней мере в советской реальной ситуации того времени. Напомню: Пастернак, когда работал над «Доктором Живаго», имел в виду не только советскую аудиторию, но и западную. Даже идея такая в тот момент была революционной, что уж говорить о реальной передаче рукописи на Запад.
«Психологическая стена между нами и Западом была плотной, сложенной намертво, -
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН•601
Пастернак пробил ее одним ударом», – утверждал Вениамин Каверин позднее. Но многим наблюдателям успешность этой попытки представлялась гораздо более проблематичной. Ведь в конце концов власти принудили Пастернака к публичному отступлению и отречению. Да и сам Пастернак за день до смерти в конце мая 1960 года горько жаловался сыну, что его мучит сознание «двусмысленности мирового признания, которое в то же время – полная неизвестность на родине». Согласно легенде, он произнес тогда с горечью: «Пошлость победила – и здесь, и там».
У некоторых интеллектуалов – ив Советском Союзе, и за его пределами – тогда осталось ощущение, что Запад использовал «дело Пастернака» в политических целях и помог превратить его в одну из шумных схваток культурной холодной войны. Даже смерть Пастернака от рака легких, которую его близкие и друзья впрямую связывали с тяжелыми переживаниями поэта после «нобелевского скандала», в этом контексте интерпретировалась как политический инцидент.
Советские власти постарались скомкать и замять похороны Пастернака (как в свое время царь замял похороны Пушкина). Властям противостояла группа молодежи и некоторые писатели, попытавшиеся придать этим похо-
602 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
• 603
ронам оппозиционный характер. В этом им немало поспособствовали западные медиа. У могилы Пастернака собралось около двух тысяч человек и тблпы западных репортеров, жужжавших своими кино– и фотокамерами; снимало и КГБ – для своих надобностей. Так или иначе все это превратилось в громкое политическое шоу. Эхо этого события можно услышать в ряде важнейших послесталинских произведений Шостаковича.
Многолетняя перекличка творчества Пастернака и Шостаковича до сих пор не была достаточно замечена и подчеркнута исследователями, но для меня она несомненна. Оба причисляли себя к пушкинской традиции (пришедшей к Шостаковичу во многом через Мусоргского), которая в итоге сводилась к двум оппозициям: «художник – власть» и «художник – народ». Оба были подлинными русскими интеллигентами и, работая в условиях трудновыносимого нажима, часто двигались параллельными путями. Для обоих закон «кесарю – кесарево» был фактом жизни (недаром в московской квартире Шостаковича на книжной полке стояла открытка с изображением картины Тициана «Динарий кесаря»).
Но общая поначалу для обоих стратегия творческого выживания вывела Пастернака в конце его жизни на совершенно новую орби-
ту. При этом он, что называется, «сгорел в плотных слоях атмосферы». Это зрелище великолепной и горделивой самодеструкции устрашило Шостаковича. Его немедленный и парадоксальный комментарий к смерти и похоронам Пастернака можно было услышать в сочиненном вскоре номере «Потомки» из вокального цикла «Сатиры» на стихи любимого Шостаковичем либерального юмориста начала XX века Саши Черного.
В «Потомках» высмеивается исконный, проходящий через века рефрен многострадального и терпеливого российского обывателя: «Туго, братцы… Видно, дети/Будут жить вольготней нас». Терпеть и страдать ради потомков – какая глупость, восклицает циничный поэт: «Я хочу немножко света/Для себя, пока я жив».
В музыкальной интерпретации Шостаковича это послание стало, как это обычно бывает в его зрелых сочинениях, глубоко амбивалентным. В нем прочитывается едкая насмешка над официальным советским лозунгом о «светлом будущем» и необходимых для достижения этого прекрасного коммунистического будущего жертвах1. Но в музыке содержал-
Недаром власти были раздражены данным опусом Шостаковича, и композитору пришлось к его названию «Сатиры» добавить обманный подзаголовок «Картинки прошлого».
604 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
605
ся также и глубоко личный мотив, родившийся как отклик на безвременную смерть Пастернака: а действительно, стоит ли игра свеч? Оценят ли будущие поколения твою жертву?
Я, как филин, на обломках Переломанных богов. В неродившихся потомках Нет мне братьев и врагов.
По наблюдениям друзей Шостаковича, в его характере была сильна фаталистическая струя. Она вступала в конфликт с популистской основой мировоззрения Шостаковича. Описание этого свойственного композитору противоречия сам Шостакович находил в поразивших его воображение строках Федора Тютчева – поэта, вообще-то не относившегося к числу его любимцев: «Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,/Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!»
Александр Блок в этом стихотворении Тютчева находил «эллинское, дохристово чувство Рока». Сам Шостакович, с его демонстративным недоверием к выспренним словесам, предпочитал пояснять романтическую позицию поэта XIX века с помощью трезвой русской народной премудрости (со столь важным для композитора фаталистическим оттенком): «Коготок увяз – всей птичке пропасть».
Это словно пушкинский Самозванец говорит из «Бориса Годунова» – персонаж отча-
янный, удалой и циничный. Какие-то его черточки Пушкин, несомненно, ощущал в себе, оттого так ярко и сочно прописан этот характер. Сходные мотивы можно проследить и в биографии Шостаковича.
Шостакович никогда не был затворником, анахоретом, в нем были сильны устремления общественного деятеля. Его популизм и тяга к общественной работе неразрывно связаны, а где общественная работа – с сопутствующими ей поездками, представительством, выступлениями, там и неизбежный привкус самозван-чества. Думаю, что всякий человек, хоть раз появившийся на трибуне, с этим согласится.
В жизни Шостаковича с какого-то момента этот представительский (самозванческий) элемент присутствовал, то усиливаясь, то ослабевая. Ему постоянно хотелось что-то делать помимо сочинения музыки – обустраивать Союз композиторов, помогать коллегам, вызволять из беды знакомых и незнакомых.
Уже в августе 1932 года Шостакович (еще не достигший 26 лет) стал членом правления только что созданного Ленинградского отделения Союза композиторов. С тех пор он постоянно был вовлечен в связанные с этой организацией деловые и творческие проблемы. Кульминацией в этой сфере деятельности стало санкционированное Хрущевым избрание
606 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
• 607
Шостаковича первым секретарем Союза композиторов Российской Федерации на его учредительном съезде в 1960 году.
Это уже было важное дело: Шостакович отвечал за благосостояние пятисот с лишним композиторов и музыковедов. Он всю жизнь был человеком ответственным и пунктуальным и погрузился в профессиональные дела своих коллег – исполнение и издание музыки, социальная защита – с полной серьезностью.
К этому надо добавить, что с 1947 года Шостакович стал депутатом от Ленинграда – сначала в Верховном Совете Российской федерации, а затем в Верховном Совете СССР. Эта позиция тоже не была синекурой. Разумеется, никакого отношения к выработке реальной политики страны Шостакович не имел, но работы было довольно много. Шостакович регулярно в специальные дни принимал просителей, шедших к нему нескончаемым потоком: очевидцы вспоминают, что очередь к депутату Шостаковичу, начинаясь от дверей его кабинета, длинным хвостом растягивалась до улицы и дальше.
К музыке все это практически не имело отношения. С жалобами и просьбами к Шостаковичу шли обиженные, оскорбленные и увечные. Композитор вникал в удручающие
семейные конфликты, выслушивал истории об обвалившихся потолках и испорченных сортирах, обещал достать дефицитные лекарства, походатайствовать о пенсиях.
Много раз он вступался за несправедливо осужденных – настойчиво писал, звонил в высокие инстанции: имя Шостаковича открывало важные двери. Море людских бед и страданий накатывалось на композитора; как Шостакович выдерживал все это, как – сам походя иногда на клубок обнаженных нервов – не терял рассудка, здравого смысла и творческой энергии?
Ощущал ли композитор себя Иисусом, исцелявшим больных и накормившим голодных? (Вспомним о присущем Шостаковичу комплексе Иисуса.) Или же тут проявлялись также и черты пушкинского Самозванца? Или же и то, и другое – в сложной, не поддающейся элементарному раскладу и химическому анализу пропорции? Запутанностью, переплетенностью и противоречивостью мотивов своего поведения композитор, несомненно, напоминал иногда героев Достоевского и Чехова.
Известно, что к числу любимейших чеховских произведений Шостаковича относились «Палата № 6» и «Черный монах» (по мотивам которого он даже намеревался писать оперу). Чехов в этих своих повествованиях описывает
608 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
• 609
людей, которых судьба приводит на грань безумия – и они перешагивают эту неуловимую грань, оставляя читателя в уверенности, что весь мир – это сумасшедший дом, палата № 6.
В «Палате № 6» доктор Рагин думает о приеме больных точно так же, как в тяжелые дни должен быть думать о приеме бесконечных посетителей депутат Шостакович: «Сегодня примешь тридцать больных, а завтра, глядишь, привалило их тридцать пять, послезавтра сорок, и так изо дня в день, из года в год, а смертность в городе не уменьшается, а больные не перестают ходить. Оказать серьезную помои;ь сорока приходящим больным от утра до обеда нет физической возможности, значит, поневоле выходит один обман».
Это, конечно, звучит как признание в са-мозванчестве – независимо от того, справедливо ли подобное самоуедание (Чехов на этот счет, как всегда, амбивалентен). Но для нас не менее важен и другой мотив в «Палате № 6» – как, полагаю, он был важен и для Шостаковича. Рагин полемизирует со своим молодым приятелем-идеалистом, который – совсем в стиле, осмеянном Сашей Черным, – доказывает, что когда-нибудь, в будущем, «воссияет заря новой жизни». На что Рагин горько возражает: «Тюрем и сумасшедших домов не будет, и правда, как вы изволили выра-
зиться, восторжествует, но ведь сущность вещей не изменится, законы природы останутся все те же. Люди будут болеть, стариться и умирать так же, как и теперь. Какая бы великолепная заря ни освещала вашу жизнь, все же в конце концов вас заколотят в гроб и бросят в яму».
Когда Чехов это написал, ему было тридцать два года. Тогда, в 1892 году, критик Николай Михайловский, кумир либеральной интеллигенции, отозвался о «Палате № 6» так: «Все это сильно бьет по нервам читателя, но, не слагаясь в определенные мысли и чувства, не дает и художественного удовлетворения».
Влиятельного критика в Чехове отвратило причудливое смешение популизма и пессимизма, делавшее невозможным однозначные выводы. Почти семьдесят лет спустя 54-летний Шостакович оказался в позиции, схожей с чеховской. Пессимизм и фатализм завоевывали все большее место в его жизни. Это было связано, несомненно, также и с резким ухудшением здоровья композитора.
Начиная с 1958 года, Шостакович все больше и больше времени проводил в больницах. 1960 год можно считать в этом смысле переломным – в переносном, но также и прямом значении этого слова: в этом году на свадьбе сына Максима Шостакович внезапно подвер-
610
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
• 611
пул и сломал ногу. С тех пор загадочная слабость рук и ног, так никогда окончательно и не диагностированная, преследовала и угнетала композитора до конца его жизни.
Роковой для Шостаковича 1960 год! Все сошлось в этом annus horribilis: болезнь, упадок сил и воли, соблазны власти. Результатом стал неожиданный буквально для всех – и справа, и слева – поступок Шостаковича, который многими до сих пор расценивается как самая большая ошибка композитора в сфере общественной жизни: его вступление в 1960 году в Коммунистическую партию.
Обстоятельства этого во многом загадочного инцидента до сих пор не прояснены до конца. И это несмотря на то, что Шостакович, обычно весьма сдержанный и скрытный, данный эпизод попытался предельно драматизировать.
Об этом мы знаем со слов двух его друзей – Исаака Гликмана и Льва Лебединского: Шостакович говорил им обоим, что в партию он вступать ни за что не хотел, но в конце концов был вынужден подчиниться неумолимому нажиму начальства. По описанию друзей, Шостакович впал в невиданную истерику: пил водку, громко плакал, вообще производил впечатление персонажа из Достоевского на грани
тяжелого психического срыва или самоубийства.
Как все было на самом деле, установить не удастся, быть может, уже никогда, даже если будут опубликованы все релевантные документы из партийных архивов: слишком многое здесь упирается не столько даже в соответствующие – записанные или хотя бы высказанные вслух – соображения, сколько в умолчания. (Это – как паузы в музыке: они могут быть весьма красноречивы, но расшифровать их значение – дело нелегкое.)
Но мы обладаем потрясающим творческим документом-комментарием: записанным в июле 1960 года Восьмым квартетом Шостаковича, который можно причислить к наивысшим удачам композитора (а также к пикам жанра струнного квартета в целом).
После трагического эпизода со вступлением в партию Шостакович-фаталист процитировал в разговоре с другом строку из Пушкина: «И от судеб защиты нет». Эти слова можно поставить эпиграфом к Восьмому квартету, в котором также слышны отзвуки размышлений Шостаковича в связи с недавней смертью Пастернака.
Этот квартет – реквием автора по самому себе, чему в русской музыке были уже прецеденты: достаточно вспомнить Шестую симфо-
612 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
• 613
нию Чайковского. Шостакович этот свой замысел комментировал еще более откровенно, чем Чайковский, объявив, в частности, своей дочери Галине, что написал квартет, посвященный «своей памяти».
Самое примечательное, что музыка Шостаковича с подобной идеей уже появилась ранее – а именно в роковом для композитора 1948 году, когда он боялся ареста и экзекуции. Но тогда эти реквиемные страницы автор надежно упрятал от постороннего взгляда и слуха: они были вплетены в музыку к кинофильму «Молодая гвардия» по популярному роману Александра Фадеева.
Этот фильм (как и роман) повествовал о героических подвигах и трагической судьбе группы молодых подпольщиков (назвавших себя «Молодой гвардией») в годы недавней немецкой оккупации. Нацисты выловили и расстреляли молодогвардейцев. Соответствующая сцена в фильме дала возможность Шостаковичу написать душераздирающий похоронный марш под названием «Смерть героев».
Фильм «Молодая гвардия» сначала не понравился Сталину, но после переделок вождь сменил гнев на милость, наградив фильм (но не музыку) Сталинской премией первой степени. И надо полагать, что никому и никогда не пришло бы в голову интерпретировать по-
хоронный марш «Смерть героев» как автобиографический, если бы через десяток с лишним лет Шостакович не включил музыку оттуда в свое самое автобиографическое сочинение – Восьмой квартет.
Это удивительный опус, почти сплошь состоящий из автоцитат (а также цитат из «Гибели богов» Вагнера и Шестой симфонии Чайковского). Шостакович также использовал в Квартете популярную революционную песню «Замучен тяжелой неволей», слова которой были сочинены в 1876 году поэтом Григорием Мачтетом и тогда же опубликованы им в русской эмигрантской прессе в Лондоне. Неизвестный композитор положил их на музыку, ставшую народным похоронным маршем.
Этот марш пели революционные кронштадтские матросы в 1906 году – году рождения Шостаковича. Эту же песню, согласно легенде, пели и молодогвардейцы перед казнью. В Восьмом квартете мотив из автобиографической «Смерти героев» непосредственно переходит в мелодию «Замучен тяжелой неволей» – ассоциации и музыкальные, и личные здесь ясны.
Сам Шостакович, перечисляя в одном из писем использованные в Восьмом квартете автоцитаты, упоминает темы из Первой, Восьмой и Десятой симфоний, Фортепианного трио,
614 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
• 615
Первого виолончельного концерта и оперы «Леди Макбет»: настоящая автобиография в музыке. Ключевую цитату из музыки к «Молодой гвардии» он в этот перечень не включил – сознательно или по забывчивости, мы уж никогда не узнаем.