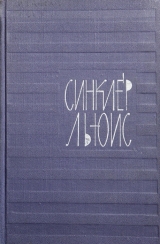
Текст книги "Энн Виккерс"
Автор книги: Синклер Льюис
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 35 страниц)
– Пожалуйста, не надо! – взмолилась она.
– Неужели вам не хочется быть настоящей женщиной, а не просто ученым граммофоном? Неужели вам не хочется чувствовать, ощущать жар в груди, неужели вам не хочется познать восторг, а не оставаться робкой девочкой в фартучке?
– Конечно, хочется, но только… только я еще не готова…
– Вы шокированы, словно ученица воскресной школы!
– Ничуть я не шокирована! Господи, теперь ведь совсем другие времена! Теперь не 1890 год! Я изучала биологию. Но нельзя же легкомысленно относиться к таким вещам! Я бы завела себе любовника, если б он был мне нужен… если б мне был нужен один какой-то определенный человек!
– Никого бы вы не завели! Вы просто боитесь! – Он снова, грубо и яростно впился в ее губы. На мгновение у Энн потемнело в глазах, и она затрепетала, словно пересохшее устье реки, в которое бурлящим потоком хлынули воды прилива. Но Глен переборщил, и ее снова охватило холодное чувство опустошенности. Он слишком правдоподобно разыгрывал страсть, и оттого страсть утратила всякое правдоподобие.
– Говорят вам, перестаньте!
Он выпустил ее из объятий, но все еще не сводил с нее полного надежды взгляда, словно маленький мальчик, уверенный, что обязательно пойдет в цирк.
– В вас нет ни капли страсти, – сказал он.
– Нет, есть! Если хотите знать, я даже начала дрожать от волнения, но тут вам вздумалось разыгрывать пещерного человека. Фи, доктор Харджис!
– Ни капли страсти! Чернила вместо крови. Вы биологический урод, вы и все здешние девицы. Вбили себе в голову, что честно, на равной ноге встретиться с мужчиной ниже вашего достоинства. Биологический урод – вот что такое благовоспитанная американка! Ни грана чудесной, здоровой страсти!
– А не приходило ли вам в голову, что я могла бы страстно полюбить, но только не вас, а кого-нибудь другого? Что вы вовсе не герой и не соблазнитель, как вы изволите воображать! Когда-то я была влюблена в сына сапожника, который служил в бакалейной лавке. Вот это был настоящий мужчина! А вы… вы только притворяетесь соблазнителем да еще превращаете свой курс истории в серию дешевых острот. Да я скорее позволю соблазнить себя дворнику из Энтони – холл!
Он сунул кофейник в рюкзак, резким движением закинул рюкзак за плечо и, не оглядываясь, быстро зашагал вниз по лесной тропе.
Энн хотелось окликнуть его. Ей не хотелось, чтобы ее соблазняли – во всяком случае, сейчас, но ведь это ее ближайший друг, и даже в худшем своем виде он сердечнее и преданнее, чем любая из ее знакомых девушек…
– Глен! – тихонько позвала она, но было уже поздно. Он скрылся из виду.
И тогда ей стало жаль трогательного мальчика, – он так гордился своим завтраком, своим европейским рюкзаком, медным кофейником и вином, которое было ему не по средствам.
– Быть может, он прав. Быть может, я просто внушила себе, что я очень добродетельна, – сказала высоконравственная молодая особа, не поддавшаяся коварному соблазнителю.
А потом долина погрузилась в холодный серый туман, и чувство тоски и одиночества помешало ей понять, что же она думает на самом деле.
ГЛАВА IX
Энн никогда не ощущала своего тела. Оно было для нее отнюдь не близким другом, а просто хорошим знакомым. Энн знала его блаженно усталым после баскетбола или далекой прогулки, расслабленным и сонным под ватным одеялом, знала, как оно наслаждается горячими кукурузными лепешками с холодным молоком или унижает ее достоинство рвотой. Обычно тело безотказно служило ей, не высказывая никаких желаний. Теперь оно было объято одним неотступным страстным желанием.
Ласки Харджиса пробудили ее тело, и оно властно предъявило свои права. Разозлившись больше обыкновенного на Юлу с ее пожеланием спокойной ночи, липким, как мед, и скользким, как кольдкрем, Энн тщетно пыталась уснуть, и в ее смятенном воображении мелькали соблазнительные картины. Она видела серые глаза Глена Харджиса, смутившие ее безмятежный покой, видела его сильные руки, крепко сжатые в кулак; его грудь – не упругую, как у женщины, а твердую, как дубовый бочонок; его кожу – не мягкую, словно тальк, а слегка шероховатую, словно березовая кора. Широко раскрыв глаза и подсунув руки под подушку, Энн лежала на своей железной кровати, мечтая, чтобы он пришел.
Снова и снова твердила она про себя волшебную сказку без слов: Юла вдруг каким-то таинственным образом исчезает, а она просыпается и видит, как в комнату входит Глен. Он не просит прощения и не разыгрывает пещерного человека; он садится на краешек кровати и шепчет: «Все это пустяки. Мы нужны друг другу – мы оба так одиноки и так истомились».
Будь доктор Харджис умнее, он понял бы, что в течение месяца после пикника на горе Абора Энн была в его власти. Однако если он и догадывался, то ничем этого не выдал.
Энн теперь не заходила к нему в кабинет, не разговаривала с ним после лекций и не ходила с ним гулять. На лекциях он изводил ее такими неправдоподобно глупыми мальчишескими придирками, что это стало притчей во языцех. Он всячески высмеивал ее стремление ответить на каждый вопрос: «Прошу внимания, барышни. Мисс Виккерс сейчас поделится с нами причиной своего волнения. Правда, я не уверен, что вдохновенная интуиция – наилучший метод установления исторической истины, но, быть может, я ошибаюсь». Он издевался над ее пристрастием к причастным оборотам – она мрачно следила за тем, чтобы в ее сочинениях больше не к чему было придраться, и нарочно вставляла побольше причастных оборотов, хотя давно уже поняла, что это портит стиль.
Только когда страсть ее окончательно угасла и она вновь обрела здоровый детский сон, Энн перестала удивляться тому, что Харджис способен так мелко мстить. Человек, постоянно поступающий вразрез со своим характером, вызывает удивление, но еще большее удивление вызывает тот, кто верен себе всегда и во всем, не допуская ни единой естественной человеческой непоследовательности. Энн считала Харджиса человеком слабым, но незаурядным. Ей пришлось убедиться, что упрямая злоба и неблагородство придают ему силу мстящей за оскорбление женщины.
Однажды Энн откровенно на него рассердилась. Харджис с пренебрежением заявил, что средневековым крепостным жилось лучше, чем «свободным» рабочим наших дней, и тут она поняла то, чего не заметила на первой его лейции: Харджис вовсе не возмущался тяжелым положением рабочих, а презирал их, как кретинов, обреченных на рабство самою природой.
– Вы хотите сказать, доктор Харджис, что мы ничуть не продвинулись вперед по пути разума и прогресса? Что борьба рабочих и таких глашатаев свободы, как Вольф Тоун, [56]56
Тоун, Вольф (1763–1798) – деятель ирландского национально-освободительного движения.
[Закрыть]Кромвель, Вашингтон, Дебс [57]57
Дебс, Юджин (1855–1926) – одни из виднейших лидеров американского социалистического движения.
[Закрыть]и Маркс, была всего лишь фарсом? – возмущалась Энн, между тем как ее сокурсницы радостно следили за ссорой этой, по всем данным, влюбленной парочки.
– О, разумеется, уважаемая мисс Виккерс, разумеется, мы продвинулись вперед, если считать, что президент Тафт гораздо значительнее, чем королева Елизавета, Хоуард Чендлер Кристи [58]58
Кристи, Говард Чендлер (1873–1952) – американский художник и книжный иллюстратор.
[Закрыть]гораздо значительнее, чем Леонардо да Винчи, а Уильям Дженнингс Брайан [59]59
Брайан, Уильям Дженнингс (1860–1925) – американский политический деятель, трижды баллотировался на пост президента от демократической партии, но терпел поражения.
[Закрыть]– философ более глубокий, чем Маккиавелли. De gustibus. [60]60
О вкусах не спорят (лат.).
[Закрыть]
Я никогда не стал бы спорить о мнениях. В моем распоряжении одни только скромные факты!
Некоторые университетские преподаватели в свое время очень любили жонглировать отвратительными изреченьицами вроде de gustibus. Возможно, кое-кто из этого племени еще уцелел.
К весне Энн совершенно успокоилась и, выйдя из аудитории, тут же забывала о существовании Харджиса. На выпускном курсе она не слушала его лекций и встречалась с ним только на факультетских чаепитиях. Страсть ее нашла выход в бурной деятельности несколько расплывчатого социального характера.
Поскольку Энн вынырнула из религиозного водоворота, не ходила в ХАМЖ и в Общество студентов-добровольцев, не посещала курсовых молитвенных собраний, не помогала украшать часовню, ее открытая, жадная к жизни душа, душа, исполненная неукротимой энергии Теодора Рузвельта, страстно жаждала новых дел. Со всеми своими иллюзиями, с пылким вдохновением жрицы, с пристрастием к привычному церемониалу, с твердой уверенностью, что она способна пестовать и переделывать мир, – словом, со всем тем, что было свойственно ее вере, Энн очертя голову устремилась в очередной крестовый поход.
Она обратила свой взор на Социалистическое общество, которое влачило весьма жалкое существование, и с места в карьер увеличила число его членов вдвое. Общество торжественно преподнесло библиотеке портрет Юджина Дебса, но президент колледжа, хитрая, ловкая и циничная старуха, свела на нет этот дерзкий вызов, приказав принять портрет и повесить его в заднем коридоре библиотеки, куда никто никогда не заходил. (После того, как Энн кончила колледж, в эту раму вставили портрет преподобной Мэри Уилкерби, насаждавшей христианство среди индейцев племени плоскоголовых.)
Кроме того, Энн вторглась в Дискуссионное общество и на последнем курсе начала изучать ораторское искусство.
Религиозное отступничество Энн и слухи об ее дружбе с доктором Харджисом привели к тому, что все высоконравственные молодые девицы, кроме членов Социалистического клуба, стали смотреть на нее довольно косо.
И хотя прежде все были уверены, что на последний, наиболее сентиментальный период их совместного учения Энн изберут старостой курса, теперь никто даже не выдвинул ее кандидатуры. В Дискуссионном обществе ее встретили тоже не слишком любезно, и она немного струсила. Энн, общепризнанный вожак курса, струсила, совсем как та маленькая девочка, которая таращила глаза на японские фонарики в день рождения Милдред Эванс.
Однако на последнем курсе Энн стала звездой дискуссионной команды. Она всегда была серьезным оратором, всегда была убеждена, что ей есть о чем поведать миру, всегда была достаточно наивной, чтобы черпать радость и вдохновение в аплодисментах. А теперь несколько уроков ораторского искусства приучили ее стоять более спокойно и прямо, чем прежде, и добавили к ее экспансивности несколько идиотских жестов – профессиональный прием, который без всякой видимой причины (если только не предположить, что жесты эти по прямой линии восходят к настоящему древнему шаманству) вызывал у слушателей такую же бурную реакцию, как сода, брошенная в стакан воды.
Эти театральные эффекты, а также несомненный ум сделали Энн блестящей полемисткой, и она была назначена руководительницей команды, которая отправилась на подвиг ратный далеко на север, дабы вступить в дискуссию со знаменитой и непобедимой командой «Христианского Женского Колледжа Южного Нью-Гемпшира» на тему «Церковь важнее школы». Энн, которая ни во что подобное не верила, должна была выступать в защиту этого тезиса. Это был настоящий пиратский рейд! Энн и еще две чудесных девушки, одни, без всякого надзора! Восторженная толпа провожающих – двенадцать студенток с цветами, с двухфунтовой коробкой дорогих конфет и с журналом «Лайф». В поезде незнакомые мужчины не сводили с них глаз, явно напрашиваясь на знакомство, так что все трое чуть не умерли со смеху. А с какой серьезностью обсуждался план будущей атаки! Новые города, холодный воздух гор, нетерпеливое ожидание приезда и еще более многочисленная и восторженная толпа встречающих – шестнадцать чудесных студенток ХЖКЮНГ! Две роскошные комнаты с ванной в клубе колледжа! И наконец огромная аудитория в двести человек, и все такие приветливые и любезные!
После того как другие участницы дискуссии очень мило произнесли свои речи в защиту церкви или школы, как и полагается усердным студенткам, изучающим искусство красноречия («Итак, дорогие друзья, вопрос состоит в том, что для нас более священно – столь любезная нашему сердцу коричневая церквушка в дремучем лесу и коричневая церквушка в долине или же образ самоотверженной школьной учительницы в маленькой красной школе у дороги в большой необъятный мир»), после всех этих обрызганных росою маргариток и розанов мысли Энн вырвалась на свободу, отбросила изысканные манеры благовоспитанной девицы и, на пять минут совершенно убедив себя в собственной правоте, принялась неистово прославлять церковь – вдохновительницу крестовых походов, строительницу самых великолепных зданий, какие только видел мир, пророчицу, заложившую моральную основу школ, без которой все их ничтожные уроки теряют всякий смысл, основательницу нашего превосходного демократического государства, наставницу язычников, поклонявшихся идолам из дерева и камня. «Да, школа, без сомнения, – наша добрая и заботливая старшая сестра, но церковь – наша мать, которая дала нам жизнь и все, чем мы владеем на земле! Простите, если я забываю о сдержанности, которую многие считают необходимым элементом спора, простите, если я говорю слишком горячо, но кто способен сохранить спокойствие и сдержанность, слушая, как люди анализируют, критикуют и высмеивают его любимую родную мать?»
Аплодисменты грянули подобно грому, непобедимый ХЖКЮНГ был побежден, а Энн заняла почетное место за столом в клубе, где было сервировано роскошное угощение, состоявшее из кофе, сандвичей с помидорами и салатом и яиц по-дьявольски. [61]61
Яйца по-дьявольски – рубленые крутые яйца с пряностями.
[Закрыть]Название последнего блюда, которое подавалось после дискуссии на религиозную тему, дало пищу для множества невинных шуток. Через неделю портрет Энн красовался на первой странице Пойнт-Ройялского Еженедельника, и она получила приглашение выступить в Ассоциации Суфражисток Торрингтона, а также в Обществе молодых женщин при Первоапостольской церкви в Аминии.
Однако вдохновенная речь в защиту коричневой церквушки в дремучем лесу поставила Энн в весьма затруднительное положение. Деятельницы ХАМЖ накинулись на нее, как шестеро котят на теннисный мячик, желая во что бы то ни стало выяснить, почему она не возвращается в Ассоциацию, если питает столь сильную дочернюю привязанность к церкви. Когда она стала довольно робко отнекиваться, мисс Бьюла Стоулвезер, советница факультета при ХАМЖ, проворковала:
– Но ведь вы же все равно с нами, Энн. Видите ли, милочка, я знаю вас лучше, чем вы сами! В глубине души вы истинная христианка. Я сама слышала, как вы при прощании говорили: «Да благословит вас бог». Скоро вы снова будете с нами! Вот увидите!
Таким образом, Энн вновь обрела респектабельность. Но она не была довольна собой. Бесстыдные ночные грезы о крепких и жарких объятиях пробудили в ней чувства, не находившие удовлетворения в заседаниях и приторных речах факультетских советниц. Она страшно возмущалась, что ее не выбрали старостой курса. Не то чтобы она мечтала умирать с тоски на бесконечных заседаниях и вечно о чем-то хлопотать. Нет, тут дело в принципе. Она покинет колледж гораздо более популярной и знаменитой, чем какой-то жалкий курсовой староста!
Вновь окруженная ореолом славы, в вихре политической деятельности без политической программы, Энн на последнем курсе просто неистовствовала, восстанавливая все, что было утрачено вследствие ее отступничества и сплетен о том, как доктор Харджис натянул ей нос. Ее комната – ее собственная комната, на этот раз, слава богу, избавленная от присутствия надушенной Юлы Тауэре и ей подобных, сделалась сборным пунктом всех ораторов, всех экономисток, всех будущих работников народных домов и прочих интеллектуальных светил Пойнт-Ройяла, которые за стаканом подогретого лимонада запросто разрешали проблему избирательного права для женщин, проблему заработной платы и проблему всеобщего мира.
Энн ходила в гости к студенткам, которых недолюбливала. Она любезно беседовала со студентками, имен которых не помнила. Но главным полем ее интриг было Дискуссионное общество.
Она внушила благоговейный ужас всему колледжу сногсшибательным проектом дебатов с Вассарским колледжем, студентки которого ставили Пойнт-Ройял на одну доску с сельскохозяйственными училищами, католическими семинариями и школами бальзамировщиков. (Два года спустя эта дискуссия все-таки состоялась, но Энн уже покинула колледж.)
Трудно сказать, насколько полезными или вредными оказались диктаторские замашки, усвоенные Энн на последнем курсе, когда позже она попыталась вторгнуться в область мужской политической деятельности. Мы не собираемся утверждать, будто благонравная маленькая Энн из Уобенеки ничуть не испортилась, однако эта несколько взбалмошная и растерянная молодая особа действительно набралась новых сил и могла бы с шумом и треском продолжать свой путь к славе и цинизму, если бы не один-единственный час, проведенный ею в обществе нелепой Перл Маккег.
Перл была одной из лучших студенток третьего курса. Эта маленькая, худенькая девушка с шишковатым лбом, совершенно лишенная чувства юмора, старательная, педантичная и не по возрасту умная, была на два или три года моложе большинства своих однокашниц. Она завоевывала стипендии с такой же легкостью, как пьяница пьет даровое виски, и сокурсницы высмеивали, баловали и ненавидели Перл за ее наивную откровенность.
Перл попробовала свои силы в ораторском искусстве и потерпела неудачу – редкий для нее случай, поскольку спортом она не занималась. Ее речи на репетициях были статистически бездушны, как показания термометра, и сухи, как сухари. Тем не менее Перл вечно околачивалась в Дискуссионном обществе и, широко открыв бесцветные глаза, с обожанием смотрела на блистательную Энн, которая лихо жонглировала трескучими фразами. Она вступила в Социалистический клуб и, заикаясь от восторга, поддакивала Энн, когда та утверждала, что все они, разумеется, принадлежат к касте утонченных и высокообразованных женщин и поэтому их долг – помогать труженикам, на чью долю не выпало подобных благ. А когда Энн, торопливо пробегая по двору колледжа, приветливо махала ей рукой. Перл от счастья заливалась румянцем.
И все же, когда Энн собиралась на Весеннюю вечерню Пойнт-Ройялского общества зеленых насаждений, дабы произнести там краткую речь, именно Перл Маккег вошла в ее комнату, села на жесткий стул и долго смотрела на Энн, пока та не почувствовала, что вот-вот закричит, после чего, потирая свой срезанный подбородок, неожиданно выпалила:
– Энн, вы… вы говорите теперь в тысячу раз свободнее, чем два года назад, когда я в первый раз слышала вас в ХАМЖ.
– В самом деле?
– В тысячу раз красноречивее. Вы теперь лучше знаете, как овладеть вниманием толпы.
– Просто…
– И у вас теперь такие широкие интересы. Вы уже не пробинцналка. А я, наверно, все еще провинциалка.
– Конечно, если…
– Вы могли бы стать знаменитой женщиной и прославиться на всю страну.
– Ну, это уже вздор!
– Но почему же, почему вы продались, Энн? Зачем вы ищете популярности у всевозможных идиоток, какие только есть в колледже?
– Нет, все-таки…
– Вы должны меня выслушать! Потому что я вас люблю! Потому что только у меня хватит смелости вам сказать, и, наверное, только я знаю, что вам сказать! Когда вы заявили, что выходите из ХАМЖ, я была там. Я восхищалась вами, страшно восхищалась. Я тогда тоже бросила ХАМЖ, только я никому ничего не сказала. Просто перестала туда ходить – и все. И наверно, никто даже не заметил, что меня нет! Вы вели себя просто замечательно. А теперь вы якшаетесь с руководителями ХАМЖ, и подлизываетесь к ним, и похлопываете их по плечу, и намекаете, что в глубине души вы, быть может, даже жалеете, что ушли, да только вам приходится твердо стоять на своем. И вы становитесь спесивой! Да, да, не спорьте! Вроде преподобного доктора Степмоу, который является сюда, называет всех «сестрицами» и теоретически похлопывает нас по плечу. Наверное, он и практически похлопывает по плечу девушек, у которых плечи мягче, чем у меня! Да, вы спесивая! И угодливая! «Все для мужчин и еще больше для женщин!» Вы льстивая! Энергичная! Деловая! Умная! И такая веселая, хотя на душе у вас кошки скребут! Живая и остроумная! И фальшивая! О Энн, не продавайтесь! И не думайте, будто вы такая уж выдающаяся личность. Вы слишком выдающаяся личность, чтобы, упиваясь этой мыслью, иссушить себе сердце. А теперь вы больше никогда не будете со мной разговаривать! Видите, как я вас люблю!
Перл с плачем выбежала из комнаты.
Энн Виккерс не пошла на Весеннюю вечерню и не произнесла там тщательно обдуманную краткую речь. Она долго сидела в темноте, и такая боль сжимала ей сердце, что она не замечала, как ноют затекшие руки и ноги.
– Все это правда, – тупо повторяла она. – Теперь мне снова понадобится вера, чтобы вымолить себе смирение. Да только, наверное, его у меня никогда не было и никогда не будет. Правда, после этого… нет, я бы с удовольствием прикончила это жалкое отродье, эту самодовольную меднолобую ханжу! Из-за нее я потеряла уверенность в себе! Но, может быть, после этого я не буду задаваться. Смирение! «Блаженны нищие духом, ибо…»
Черта с два они блаженны! Блаженны богатые духом, ибо ни к чему им царствие небесное! Блаженны смелые, ибо господь увидит дела их!
Однако в последние месяцы занятий и после окончания колледжа Энн вела себя необыкновенно тихо. Она отказалась от предложенной ей должности младшего преподавателя экономики на летних курсах в Брин Мор-колледже [62]62
Брин Мор-колледж – известное в США женское учебное заведение.
[Закрыть]и поступила работать на душную ткацкую фабрику в Фолл-Ривер. Здесь она убедилась, что французские и канадские работницы в отличие от касты утонченных женщин превосходно осведомлены о любви, о детях, об усталости и голоде, о поисках работы, о том, зачем нужны профсоюзы, а также о том, как надо прятать кирпичи, чтобы бить стекла во время забастовки.
И таким образом Энн все же обрела смирение – вполне достаточное для того, чтобы жить в мире, который равно превозносит и презирает это опасное свойство.








