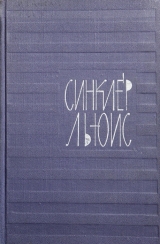
Текст книги "Энн Виккерс"
Автор книги: Синклер Льюис
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 35 страниц)
Льюис Синклер
Энн Виккерс
Посвящается Дороти Томпсон, чьи познания и помощь дали мне возможность написать об Энн.
Все персонажи этой книги полностью вымышлены, и в ней нет ни малейшего намека ни на одно живое лицо. И хотя автор полагает, что она лает совершенно правильное представление о тюрьмах, народных домах и организациях суфражисток, ни одно из изображенных в ней учреждений не имеет в виду действительно существующие.
ГЛАВА I
Медленно течет желтая река, прохладный августовский ветерок тихо колышет ветви плакучих ив, и четверо ребятишек играют в великие дела, как, без сомнения, играют и сами великие люди. Четверо ребятишек, визгливых, наивных и полных жизни, в блаженном неведении не помышляющих, что в сорок пять лет их уделом станут компромиссы и разочарования.
Трое мальчишек – Бен, Дик и Уинтроп, – промучившись всю весну на уроках истории, решили извлечь из них хоть какую-нибудь пользу и поэтому затеяли игру в королеву Изабеллу [1]1
Изабелла Кастильская (1450–1504) – королева Испании; в ее царствование был завоеван последний оплот мавров – Гренада – и открыта Америка Колумбом, которому она оказывала содействие.
[Закрыть]и Колумба. Разгорелся спор: кому быть Изабеллой. Покуда они пререкались, в роще послышалась песенка, и в усыпанное ивовым листом мальчишечье святилище вошла маленькая девочка.
– Ага, вон Энн Виккерс. Пускай она будет Избеллой, – предложил Уинтроп.
– Да ну eel Она только все испортит, – возразил Бен. – Хотя, пожалуй, Изабелла из нее получится.
– Ни черта из нее не получится! Она и в бейсбол-то плохо играет.
– В бейсбол она, конечно, играть не умеет, а ведь все-таки она бросила снежок в преподобного Генгбома.
Подбоченившись, девочка остановилась перед ними-крепкая, коренастая, с тонкими ногами. На свежем лице сверкали удивительно темные и большие глаза.
– Давай играть в Избеллу и Колумба, – сказал Уинтроп.
– Не могу, – отвечала Энн Виккерс. – Я играю в Педиппа.
– Это еще что за Педипп?
– Был такой старый отшельник. А может, его звали Пелипп. Но все равно, он был старый отшельник. Сперва он был великим царем, а когда увидел, что в царском дворце одни скверные люди, он отказался от плотских радостей и пошел жить в пустыню, и там он питался овсянкой с арахисовым маслом и тому подобными вещами и все время молился.
– Дурацкая игра! Овсянка! Как бы не так!
– Вокруг него собирались дикие звери – рыси и все прочие, и он их всех приручил, и они приходили послушать, как он проповедует. И я тоже буду проповедовать зверям. Большущим страшным медведям!
– Да брось ты! Давай сперва сыграем в Избеллу! – сказал Уинтроп. – Пока ты будешь Избеллой, я дам тебе подержать мой револьвер! А потом я его заберу: когда я буду Колумбом, он мне понадобится.
Он протянул девочке револьвер, и она принялась критически его рассматривать. Хотя всем детям было известно, что Уинтроп обладает таким сокровищем, Энн еще ни разу не приходилось держать в руках это прославленное оружие. Револьвер был настоящий, 22-го калибра, и все в нем было на месте, хотя, по правде говоря, он так заржавел, что в дуло не пролезла бы даже зубочистка. Энн, словно зачарованная, робко помахала револьвером. С оружием в руках она чувствовала себя настоящей героиней и сразу утратила аскетическое смирение Педиппа.
– Ладно, – заявила она.
– Ты Избелла, я Колумб, Бен – король Фердинанд, а Дик – завистливый придворник. Ну вот, все кругом меня ругают, а ты велишь им от меня отстать, и тут…
Подбежав к плакучей иве, Энн схватила отломанную ветку, подняла ее высоко над головой и, не выпуская из правой руки заветный револьвер, мелкими шажками вернулась к мальчикам.
– На колени, мои верные вассалы! Нет, ты, Фердинанд, не становись: ты ведь мой принц-концерт. Нет, знаешь, лучше тоже встань на колени-так уж, на всякий случай. Говори, Колумб, чем могу служить?
Коленопреклоненный Колумб взвизгнул:
– Ваше величество, я желаю ехать открывать Америку! Ну, Дик, а теперь ты начинай меня ругать…
– Да ну тебя, я же не знаю, что надо говорить… Не слушай его, королева! Он просто спятил. Никакой Америки нет. Все его суда свалятся с края земли.
– Кто здесь самый главный придворник? Я самая главная! Он получит три корабля, даже если мне придется отдать ему половину моего королевства. Ну, а ты как мыслишь, дражайший концерт? Ну, Бен, отвечай же!
– Кто? Я? Я согласен, королева.
– Тогда ступайте к кораблям!
У берега стояла на причале старая баржа. Все четверо бросились к ней. Энн неслась впереди, яростно размахивая револьвером. Подбежав к барже, она крикнула:
– А теперь я буду Колумбом!
– Нет, не будешь! – возмутился Уинтроп. – Колумб я! Ты не можешь быть сразу и Избеллой и Колумбом. И потом ты просто девчонка. Отдавай мой револьвер!
– Я тоже Колумб! Я самый лучший Колумб! А ты даже не знаешь, как назывались Колумбовы корабли.
– А вот и знаю!
– Ну как? Скажи!
– Я позабыл… А ты тоже не знаешь! Задавака!
– А вот и знаю! – ликовала Энн. – Они назывались «Пинто», «Санта Лючия» и… и «Армада».
– Вот здорово! Ладно, пусть она и будет Колумбом, – с почтительным удивлением сказал развенчанный король Фердинанд, и великий мореплаватель повел свою верную команду на борт «Санта Лючии», хотя прыжок через три фута мутной желтой воды был совсем не к лицу благовоспитанной девице.
Колумб занял свое место на носу – если можно разобрать, где у старой шаланды нос, а где корма, – и, приставив руку к глазам, устремленным на речку, воскликнул:
– Эй, молодцы! Приближается страшная буря! Выбрать галсы и шкоты! Взять рифы! Гром и молния! Пошевеливайтесь, ребята! Ваш капитан вас не оставит!
Совместными усилиями они успели спустить паруса до того, как ураган обрушился на славное судно. Ураган (не без участия команды, которая, столпившись на одном борту, яростно скакала и топала ногами) грозил опрокинуть злосчастную каравеллу, но бесстрашные мореплаватели отвечали ему оглушительным «Ура!». Их воодушевлял пример капитана, который, выставив вперед правую ногу, приложив левую руку к груди, а в правой сжимая револьвер, неистово вопил:
– Трум-бум-бум!!!
Но буря совсем разбушевалась.
– Давайте споем песню. Пусть все знают, что мы не дрогнули, – скомандовал Колумб, затягивая свою любимую балладу:
Корабль приближался к острову Уотлинг. Зорко всматриваясь в бурные воды, на ровной глади которых временами всплескивали окуньки, Энн заметила на берегу толпы свирепых дикарей.
– Глядите! Видите, вон там, среди пальм и пагод! Это подлые краснокожие! – предупредил свою команду Колумб. – Приготовьтесь дорого продать свою жизнь!
– Ладно! – послушно согласилась команда, глядя на жуткие заросли осоки по берегу речки.
– Эй, малыши, вы что это тут затеяли?
Голос был совсем незнакомый.
Обернувшись, дети увидели, что на берегу стоит чужой мальчик. Энн смотрела на него с восторгом-это был настоящий герой, прямо из книжки с приключениями. К своим товарищам, вроде Бена и Уинтропа, она не питала ни малейшего уважения, зная, что не уступит любому мальчишке ни в чем, кроме разве искусства играть в бейсбол или метко плевать в цель. Но чужой мальчик, года на два старше ее, был богом, рыцарем, вождем, внушал восхищение и страх. Кудрявый, стройный и широкоплечий, он надменно ухмылялся, презрительно сморщив тонкий нос.
– Эй, малыши, вы что это тут затеяли?
– Играем в Колумба. Хочешь с нами?
Кротость Энн явно озадачила команду.
– Вот еще! Играть! – Незнакомец легко вспрыгнул на борт (остальные после этого прыжка пыхтели и отдувались). – А ну-ка, поглядим, что у вас ва револьвер.
Он небрежно взял револьвер из рук восхищенного Колумба, открыл его и заглянул в дуло.
– Ни к черту не годится. В воду его – и точка.
– Ой, пожалуйста, не надо! – жалобно взмолилась Энн, прежде чем владелец револьвера Уинтроп успел пробормотать какую-то угрозу.
– Ладно, малышка, держи. Ты кто такая? Как тебя зовут? Меня зовут Адольф Клебс. Мы с отцом только что приехали в ваш город. Мой отец – сапожник. Мы хотим тут поселиться, если они нас не выгонят. Из Лебанона они нас выгнали. Ха-ха! Но я их не испугался. «Только посмей меня тронуть – получишь в глаз!»– сказал я полицейскому. Ну, он и побоялся пальцем меня тронуть. Ладно, так и быть, сыграем в Колумба. Колумбом буду я. Давай сюда револьвер. А вы, малыши, за дело! Построиться на борту! К нам приближается в пирогах целая куча краснокожих.
«Трум-бум-бум!» – теперь уже этот воинственный клич издавал Колумб-Адольф. Он приобщал американских аборигенов к европейской культуре, расстреливая их из револьвера, и среди всех его последователей не было ни одного более верного и более шумного, чем Энн Виккерс.
Она еще ни разу не встречала мальчика, который сумел бы взять над нею верх, и подчинение принесло ей больше радости, чем прежнее дерзкое и веселое превосходство.
В городе Уобенеки, расположенном чуть южнее центральной части штата Иллинойс, отец Энн Виккерс, которого все называли профессором, занимал должность главного инспектора школ. Занимая этот пост, он числился среди местной аристократии, к которой принадлежали три врача, два банкира, три юриста (один из них был мировым судьей), владелец универсального магазина и священники епископальной, конгрегационной и пресвитерианской церквей.
По времени город Уобенеки не занимает большого места в истории жизни Энн. Подобно большинству американцев, покидающих свою Главную улицу ради Пятой авеню, Мичиган-авеню или Маркет-стрит, и в отличие от большинства провинциалов-англичан и других европейцев, Энн, выйдя из детского возраста, не поддерживала связи со своим родным городом, а после смерти родителей вообще ни разу туда не возвращалась и отнюдь не испытывала страстного желания приобрести себе там поместье, дабы отдохнуть после славной, но бурной жизни или, подобно английскому губернатору в Индии, упокоиться на сельском кладбище.
Мать Энн умерла, когда ей было всего десять лет, отец – за год до ее поступления в колледж. Братьев и сестер у нее не было. Когда Энн стукнуло тридцать, город Уобенеки стал всего лишь воспоминанием – немножко смешным, немножко трогательным, нереальным, романтическим, навсегда утраченным видением юности.
И, однако, этот маленький городок, его нравы, а также жизненные принципы ее отца оказали влияние на все, что было ей суждено делать в жизни. Трезвость, честный труд, аккуратная уплата долгов, верность жене и друзьям, пренебрежение к незаслуженным наградам (отец Энн как-то отказался от небольшого наследства, оставшегося после дяди, которого он презирал) и гордость, не допускавшая ни грубости, ни раболепства, – таков был кодекс ее отца; и в Нью-Йорке, где даже среди общественных деятелей и ученых попадались бездельники и блюдолизы, веселые лгуны, приятные ничтожества и мелкие душонки, кодекс этот постоянно сопутствовал Энн, и она не огорчалась и не терзала себя самоанализом… и, хоть и посмеиваясь над собой, все же испытывала неприятное чувство, если к четвертому числу каждого месяца у нее оставались неоплаченные счета.
Однажды Энн слушала лекцию Карла ван Дорена, [3]3
Ван Дорен, Карл (1885–1950) – американский литературовед и критик, редактировал журналы либерального толка «Нейшн» и «Сенчури».
[Закрыть]и он сказал, что еще до отъезда из своего родного поселка Хоуп в штате Иллинойс он, в сущности, успел узнать все типы людей, с какими ему суждено было встретиться в жизни. Энн была с ним совершенно согласна. Швед – плотник в Уобенеки, рассуждавший о Сведенборге, [4]4
Сведенборг. Эммануил (1688–1772) – шведский теолог; его учение нашло последователей в США.
[Закрыть]отличался только акцентом от мило барахтавшегося в пене метафизики русского великого князя, с которым ей довелось познакомиться в Нью-Йорке тридцать лет спустя.
Да, Уобенеки пустил глубокие корни в ее сердце, и Энн всю жизнь ловила себя на том, что пыталась наивно подразделить своих знакомых на хороших людей и плохих людей – так же безоговорочно, как делала это учительница воскресной школы при пресвитерианской церкви Уобенеки. Вот, например, очаровательный шалопай – остроумный и сияющий улыбками, он принадлежал к лучшему нью-йоркскому обществу, но никогда не возвращал «взятых в долг» денег и, приняв приглашение на обед, всякий раз об этом забывал. Что ж! Для маленькой Энн Виккерс из города Уобенеки, которая навсегда осталась жить в душе великого реформатора доктора Энн Виккерс (почетный доктор прав), этот человек был плохим – таким же плохим, каким был для ее профессора-отца уобенекский городской пьяница.
Это было предубеждение, о котором она никогда особенно не сожалела.
Ее связь с традициями Америки была настолько прочна, что она стеснялась своего провинциального американского происхождения ничуть не больше, чем премьер-министр Великобритании стесняется своей родной шотландской деревни или французский премьер – своего родного Прованса. Прежде среди большинства американцев, обладавших обостренным чувством собственного достоинства и некоторым жизненным опытом, считалось модным либо сокрушаться по поводу ограниченности и замкнутости арканзасского шовинизма либо, напротив, с притворным смирением похваляться его идиллическим совершенством. Однако Энн (вместе со ста двадцатью миллионами других американцев) посчастливилось жить в такой замечательный, хотя и ужасный период, когда Соединенные Штаты с некоторым трудом начали рассматривать себя не как незаконное дитя Европы, а как хозяина, который гордо распоряжается в своем собственном доме.
Такие честолюбивые американские девушки, как Энн – если только они не происходят из среды недавно эмигрировавших в США евреев, немцев или итальянцев, – связаны со своим родным городком и даже со своей семьей лишь весьма слабыми нитями. Если они при этом теряют опору и уверенность, которые дарила им солидарность европейского семейного очага, то равным образом освобождаются от кровосмесительных духовных и социальных пут этого назойливого родства.
Но в Манхэттене Энн пришлось порадоваться тому, что она, благодаря своему отцу и городу Уобенеки, оказалась членом той буржуазной колонии, которая вплоть до 1917 года была единственной существующей на свете Америкой.
ГЛАВА II
Город Уобенеки не слишком обрадовался вновь прибывшему сапожнику Оскару Клебсу, отцу блистательного Адольфа. В годы детства нашей героини затерянные в прериях городки от Додж-Сити до Зейнсвилла все еще не ведали, что составляют частицу великого мира. Они считали, что существуют сами по себе, – да так оно и было.
Можно, конечно, быть и немцем (впрочем, они называли немцев «голландцами»), как Оскар Клебс.
«Право слово, среди голландцев попадаются хорошие люди-ничуть не хуже нас с вами. Взять, к примеру, священника немецкой католической церкви. Конечно, многие из его прихожан – безмозглые голландские фермеры, но зато уж сам он человек каких мало! Говорят, он учился в Италии – в Риме и еще где-то там. Но можете мне поверить: ему эти чертовы европейцы так же не по нутру, как и нам с вами. Только этот голландец – сапожник, Клебс этот, – дело другое. Говорят, он социалист, но позвольте вам сказать, что в нашей стране нет места для шайки злобных бездельников, которые хотят забросать нас бомбами и перевернуть все вверх дном. Нет, сэр, нет у нас для них места!»
Но случилось так, что на единственного в городке сапожника, пьяницу-янки, никогда нельзя было положиться: он ни за что не мог вовремя поставить набойки на каблуки к субботним танцам в клубе Ордена чудаков, и почтенные граждане города Уобенеки скрепя сердце вынуждены были обращаться к человеку, который придерживался до такой степени анархистских взглядов, что не где-нибудь, а прямо у стойки пивной Льюиса и Кларка утверждал, будто Стоуксы и Вандербильды не имеют никакого права на свои миллионы.
Они очень на него сердились.
Мистер Эванс, президент банка Дуглас и Линкольн, с досадой заявил:
– Послушайте, Клебс. У нас тут страна широких возможностей, и мы вовсе не желаем, чтобы всякие жалкие и, я бы даже сказал, выродившиеся европейцы объясняли нам, что к чему. В нашей стране человек, который умеет делать свое дело, добивается признания – в том числе и финансового, и, извините за грубость, сэр, вы едва ли можете обвинять в своих неудачах нас.
– Истинная правда, сэр! – поддержал его приказчик Лукаса Брэдли.
Профессор Виккерс несколько удивился, когда Энн показала ему свои туфли и заявила, что на них надо ставить набойки. Обычно Энн не замечала, что у нее протерлись подметки, оборвались пуговицы или растрепались волосы.
– Кажется, моя дочурка начинает следить за собой! Отлично. Разумеется, отнеси их завтра к сапожнику. Ты приготовила урок для воскресной школы? – спросил он со свойственным родителям добродушным идиотизмом и полным отсутствием логики.
Это произошло в воскресенье, на другой день после чудесного явления царственного Колумба Адольфа Клебса. В восемь часов утра в понедельник Энн понесла туфли к Оскару Клебсу в его новую мастерскую, расположенную в бывшем помещении ювелирного магазина «Шик». На полке над его скамьей уже выстроился ряд башмаков, наделенных тем странным человеческим выражением, которое приобретает снятая с ног обувь – заскорузлые сапоги батрака, таящие усталость в каждой глубокой, пропыленной складке; бальные туфельки легкомысленной сельской портнихи с крепким красным верхом, но протертыми до дыр подметками. Однако Энн ничего этого не заметила. Она рассматривала Оскара Клебса с таким же пристальным вниманием, с каким накануне созерцала его сына Адольфа. Ей еще никогда не приходилось встречать таких красивых стариков – седобородых, с высоким благородным лбом, с тонкими голубыми прожилками в прозрачной белой коже.
– Доброе утро, барышня. Чем могу служить? – сказал Оскар.
– Пожалуйста, поставьте мне набойки. Это туфли для каждого дня. А теперь мне пришлось надеть воскресные.
– А почему вы по воскресеньям носите особую пару туфель?
– Потому что воскресенье – это день господень.
– А разве для людей, которые трудятся, день господень бывает не каждый день?
– Пожалуй, да… А где Адольф?
– Вам никогда не приходило в голову, барышня, что вся капиталистическая система никуда не годится? Что мы с вами должны целый день работать, а банкир Эванс, который просто берет у нас деньги и потом дает их нам же в долг, богатеет? Я даже не знаю, как вас зовут, барышня, но у вас красивые и, мне кажется, умные глазки. Подумайте об этом! Новый мир! От каждого – по способностям, каждому – по потребностям. Это и есть социалистическое государство! Так сказал Маркс! Как вам это нравится, барышня? А? Государство, где мы все будем трудиться друг для друга?
Пожалуй, в первый раз в жизни взрослый заговорил с Энн Виккерс, как с равной; пожалуй, в первый раз в жизни ей предложили обдумать социальную проблему, более сложную, чем вопрос о том, прилично ли девочкам швырять через забор дохлых кошек. Возможно, что именно это положило начало ее умственной жизни.
Маленькая девочка – она была так мала, так наивна, так невежественна! – сидела, подперев рукою подбородок, в тяжких муках пытаясь облечь в слова первую в своей жизни абстрактную мысль.
– Да, – ответила она, – да, конечно. – И вдруг ее осенило:-Именно так и должно быть! Без богатых и бедных. Верно! Но, мистер Клебс, что мы должны для этого делать? С чего мне начать?
Оскар Клебс улыбнулся. Он редко улыбался: подобно всем святым, он был обречен на вечную муку оттого, что человек не стал богом. Но тут он расплылся чуть ли не до ушей и сразу же выдал себя с головой:
– Что делать, милая барышня? Что делать? Полагаю, что вы, как и я, будете только разговаривать.
– Нет, – жалобно возразила Энн, – я не хочу только разговаривать! Я хочу, чтобы у Уинтропа Зайса был такой же красивый дом, как у мистера Эванса. Вот было бы здорово! Ведь Уинтроп гораздо лучше, чем он. Я хочу… Понимаете, мистер Клебс, я хочу что-нибудь сделать в жизни!
Старик молча посмотрел на нее.
– Так и будет, деточка. Да хранит вас бог! – заявил этот закоренелый атеист. И Энн забыла еще раз осведомиться о блистательном Адольфе.
Однако Адольфа она все-таки увидела и продолжала видеться с ним довольно часто.
Энн теперь постоянно пропадала в мастерской Оскара Клебса: ее тянуло сюда сильнее, чем даже на станцию железной дороги, где ежедневно в пять часов вечера все свободные ребятишки собирались поглядеть на чикагский экспресс. Оскар рассказывал ей о мире, который прежде был всего лишь разноцветной, но плоской и непонятной географической картой. Он рассказывал, как в 1871 году рубил лес в России, где, по его словам, непременно будет революция; о Тироле (рядом с атеизмом в нем уживалась упрямая вера, что в ночь под рождество тирольские коровы обретают дар речи); о карпах, которые подплывают к берегу прудов Фонтенебло и просят крошек; о толстых десятифутовых стенах Картахены, куда пираты замуровали золото; о пароходах, на которых он плавал мальчишкой, и о том, какой скаус [5]5
Скаус – блюдо из сухарей, свинины и сала.
[Закрыть]едят на полубаке; об одиноком прокаженном, который всегда сидит на берегу в Барбадосе и молится, глядя на океан; о фасоне туфелек императрицы Евгении; [6]6
Речь идет о Евгении Марии де Монтихо (1826–1920), жене французского императора Наполеона III; после его падения переехала в Англию.
[Закрыть]о премьер-министрах и русских революционерах, об йогах и исландских рыбаках, о нумизматах и эрцгерцогах и о множестве самых разнообразных людей, неизвестных городу Уобенеки, штат Иллинойс, – так что в конце концов социализм, в который он ее обратил, приобрел разительное сходство с рассказами Киплинга.
«Тук-тук-тук, тук-тук-тук» – выстукивал молоточек Оскара, и румяная девочка с горящими от восторга глазами впивала каждое слово сапожника, сидя на низенькой табуретке.
А потом появлялся Адольф.
Адольф никогда не сидел. Просто невозможно было представить себе, чтобы эта воплощенная непоседливость могла хоть на минуту спокойно присесть. Он не принадлежал к поколению разговорчивых сидней, как его отец. Он был представителем нового века – века механизмов, мелькающих распределительных валов, сверкающей стали; поршней, лихо ныряющих в адские взрывы газа; динамо-машин, низким гудением заглушающих голоса людей. Если бы он был мальчиком в 1931, а не в 1901 году, то на все глубокомысленные замечания отца отвечал бы: «Ну да?» Но в 1901 году его ответ: «А как же!» – звучал столь же дерзко и резко, столь же враждебно расплывчатому философствованию. Высокий, насмешливый, живой, он вечно ходил, заложив руки в карманы, и все время прислонялся к дверям или стенам, словно готовясь к прыжку. Для Энн Виккерс такой Адольф был самым совершенным героем в мире.
Теоретически считалось, что натура Энн формируется под благотворным влиянием родителей, учителей города Уобенеки и воскресной школы Первой (и единственной) уобенекской пресвитерианской церкви, а расфуфыренные и чопорные дети банкира Эванса служат для нее социальным образчиком. На самом же деле свои взгляды она почерпнула главным образом у сапожника и его сына, унаследовав при этом вредную привычку своего отца отдавать долги и хранить верность слову. Все это было двойственно и противоречиво, и потому Энн всю жизнь суждено было отличаться двойственностью и противоречивостью. Старик Оскар внушал ей, что вся жизнь – это ожидание грядущей утопии; Адольф научил ее тому, что жизнь – это твердость, независимость и готовность.
Сидя на берегу речки Уобенеки (в сущности, это был просто ручей). Энн раза два-три пыталась изложить Адольфу свои идеи, а именно: что Оскар прав: мы должны – и желательно как можно скорее – создать социалистическое государство, где все, подобно монахам, станут трудиться друг для Друга; что вовсе не хорошо пить пиво или, скрываясь на задворках, принимать участие в установлении разницы между мальчиками и девочками; что алгебра – если в ней как следует разобраться – замечательная штука; что «Королевские идиллии» мистера лорда Теннисона страшно увлекательны; что если Христос умер за нас – как оно, без сомнения, и было, – то с нашей стороны просто постыдно по воскресеньям валяться в постели, вместо того чтобы, приняв ванну, бежать в воскресную школу.
Когда Энн говорила серьезно, Адольф всегда улыбался. Когда говорил его отец, он тоже улыбался. Всю жизнь ему суждено было улыбаться, когда другие говорили. Но это обижало Энн, и она немножко робела. Она твердо верила в «идеи», которые торопливо перечисляла, сидя на барже с песком у берега тихой речки в тени склонявшихся под прохладным августовским ветерком плакучих ив.
Свидетельствовала ли его презрительная улыбка о высшей мудрости, достойной века машин и стали, или всего лишь о полнейшем отсутствии интеллекта – ни Энн, никто другой так никогда и не узнали. Ему было суждено стать управляющим довольно большого гаража в Лос-Анжелосе, а Оскару – сердито упокоиться на католическом кладбище города Уобенеки, штат Иллинойс.
Даже если б не было старика Оскара, Энн все равно никогда не стала бы покорно соглашаться с общепринятыми взглядами. В воскресной школе, в среднем классе для девочек (учительница – миссис Фред Грейвс, жена владельца лесопильни), она впервые разразилась феминистской филиппикой.
Урок был посвящен гибели Содома (разумеется, без пикантных подробностей). Миссис Грейвс жужжала, как сонный шмель: «Но жена Лота оглянулась на страшный город, вместо того чтобы презирать его, и превратилась в соляной столп, и это очень важный урок для всех нас: он показывает, какая страшная кара ждет ослушников, а также, что нам не следует не только стремиться к дурным вещам и людям, но даже на них смотреть. Это так же плохо, как иметь с ними дело или потворствовать…»
– Можно спросить, миссис Грейвс? – взволнованно перебила ее Энн. – Почему миссис Лот нельзя было оглянуться на свой родной город? Ведь там остались все ее соседи, а она, наверное, с ними дружила. Она просто хотела проститься с Содомом!
– Ну, Энни, уж если ты стала мудрее Библии! Жена Лота была непокорной, она хотела задавать вопросы и спорить, как кое-кто из моих знакомых девочек! Смотри, что говорится в стихе семнадцатом: «Не оглядывайся назад». Это было божественное повеление.
– Но разве господь не мог потом снова превратить ее в человека, после того как он так подло с нею обошелся?
Миссис Грейвс преисполнилась священного негодования. Глаза ее засверкали, пенсне, прикрепленное крючком к ее праведной, обтянутой коричневым шелком груди, задрожало. Остальные девочки съежились от испуга и нервно захихикали. Энн понимала, что ей грозит, но ей просто необходимо было разобраться в вопросах, которые так мучили ее, когда она готовила урок для воскресной школы.
– Разве господь не мог дать ей возможность исправиться, миссис Грейвс? Будь я на его месте, я бы дала ей такую возможность!
– Я еще в жизни не слыхивала более кощунственных…
– Нет, но согласитесь, что Лот был ужасно подлый! Он ни капельки не горевал из-за миссис Лот! Он просто взял и ушел и оставил ее там одну в виде соляного столпа. Почему он не заступился за нее перед господом? В те времена люди постоянно говорили с господом, в Библии так прямо и сказано. Почему он не посоветовал господу не быть таким нехорошим и не срывать на миссис Лот свою злость?
– Энн Эмили Виккерс, я расскажу об этом твоему отцу! Я никогда не слышала подобных дерзостей! Сию минуту марш отсюда! Тебе не место в воскресной школе! Я сегодня же буду говорить с твоим отцом!
Совершенно сбитая с толку и потрясенная этим первым столкновением с несправедливостью, Энн была, однако, слишком ошеломлена, чтобы взбунтоваться. Медленно пройдя по проходу мимо бесчисленных рядов церковных скамей, на которых, показывая пальцами, злорадно хихикали над ее позором дети, Энн вышла в воскресный мир, где не слышно было пения птиц, в исполненный грозного благочестия воскресный мир. Дома она встретила отца. Умытый, в начищенных башмаках и длиннополом сюртуке, он собирался в церковь. Энн разразилась возмущенным рассказом о своем мученичестве. —.
– Пустяки, Энни, – засмеялся он. – Не беспокойся: сестрица Грейвс ничего ужасного мне не скажет.
– Но ведь это же очень важно – то, как поступил этот мерзкий Лот! Я обязательно должна что-то сделать!
Продолжая смеяться, отец открыл парадную дверь.
Энн пронеслась через кухню мимо кухарки, которая изумленно оторвалась от приготовления неизбежного куриного фрикасе, и через задний двор выбежала на дорожку, ведущую к холму Сикамор, сердито ворча про себя: «Это мужчины, вроде Лота, господа и папы, которые смеются, – это они доставляют столько горя нам, женщинам!» Девочка не смотрела по сторонам. Повернувшись спиной к городку, она рысью взбиралась по склону. На полдороге к вершине холма Энн резко повернулась, простерла руки к крышам Уобенеки, воскликнула: «Прощай! Прощай, Содом! Я тебя обожаю! Вот тебе, господи!»-и выжидательно подняла глаза к небу.








