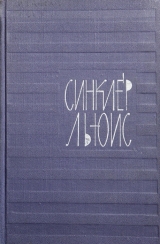
Текст книги "Энн Виккерс"
Автор книги: Синклер Льюис
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц)
На вокзале Энн заметила знакомую девушку, Тесси Кац, молоденькую, красивую, с несколько крючковатым носом. Эта искрящаяся жизнью работница из меховой мастерской часто бывала в Корлиз-Хук и не раз советовалась с Энн по поводу своих неприятностей (по большей части любовного характера). Тесси тоже провожала своего героя, круглолицего парня с круто завитыми волосами и нелепыми усиками, на вид – буфетчика. Тесси висела у него на шее и рыдала, пока не заметила Энн. Она всегда, очевидно, смотрела на Энн как на строгую весталку, [94]94
Весталки – жрицы римской богини домашнего очага; давали обет целомудрия.
[Закрыть]и теперь ее бурная печаль не помешала ей с жадным любопытством наблюдать за Энн и Лейфом.
Это сначала стесняло Энн. Но потом она забыла про Тесси, так как Лейф в отчаянии цеплялся за нее, как ребенок.
– Энн, ты будешь мне писать каждый день? Два раза в день! Ты благословишь меня, Энн? Слушай! Я не буду ныть. Честное слово, на людях я не такой. Обычно считают, что у меня железные нервы. Это я просто распустился от твоего сочувствия и жалости. А теперь бегу. Пора! Вернусь с крестом почетного легиона – вернусь к тебе!
– Отправле-ение!
– Храни тебя бог, дорогой!
Энн повернулась и бросилась бежать, стыдясь своих заплаканных глаз.
Но когда она остановилась передохнуть, прислонившись к столбу, ее нагнала Тесси Кац.
– Здрасте, мисс Виккерс! Я и не знала, что у вас тоже есть дружок! И какой шикарный, высший сорт! Прямо соболь! И капитан! Вот это да!
– Ах, здравствуйте, мисс Кац! Вы тоже кого-нибудь провожали?
– Да, моего дружка. Он, правда, рядовой, но я вам скажу, этот парень – прямо огонь! Он будет сержантом, генерал-капитаном, а то и кем-нибудь повыше еще до конца войны. Не думайте, это я вам не про него прошлый месяц рассказывала. Тот нестоящий тип. Бездельник, и больше ничего. А Морис-он замечательный! Он на мне женится, как только вернется.
Энн Виккерс не почувствовала, что трагедия мисс Тэсси Кац – как бы пародия на ее собственную любовь, на ее собственное горе. Тесси была ее товарищем, ее сестрой. Молодые женщины взялись за руки и, переговариваясь шепотом, горестно взобрались на верхнюю палубу парома.
Только на одну минуту в Энн заговорила деятельница передового движения.
– Тесси, мне кажется… сами знаете, как у нас в народном доме любят сплетничать… пожалуй, не стоит ничего говорить о капитане… что я провожала капитана.
– Еще бы, можете на меня положиться, мисс Виккерс! Какое их дело? И нечего им про это знать. Ой, господи, до чего ж я буду скучать без моего паршивца Мориса! А вдруг его там разорвет на кусочки?..
И, не стыдясь никого, они зарыдали в ярком свете летнего солнца.
ГЛАВА XVI
Энн воображала, что ее частые отлучки за эти десять дней внушили подозрение персоналу Корлиз-Хук и в особенности вежливой заведующей. Поэтому она с головой ушла в работу. Ее пришпоривала не одна только совесть. Она чувствовала себя умнее, веселее, более цельной и удовлетворенной, чем прежде, как никогда способной управлять собой и другими. Ее многообразная работа, состоявшая, словно из пестрых лоскутков, из мелких смежных дел, получила как бы новое значение, новый смысл, хотя, в чем заключался этот смысл, Энн и сама толком не понимала.
Она уговорила одного бродвейского антрепренера помочь театральному кружку Корлиз-Хук поставить ревю на местные темы. Ревю имело неслыханный в истории народного дома успех. Его пришлось повторить четыре раза, после чего ортодоксальные родители, до тех пор сомневавшиеся, стоит ли пускать в народный дом своих детей, уверовали в Корлиз-Хук почти как в синагогу.

Вся слава досталась бродвейскому антрепренеру, который потратил на эту затею один час, Энн Виккерс, потратившей от силы десять часов, заведующей народным домом, у которой это не заняло ни минуты, и ровно ничего не досталось на долю местных авторов и актеров, работавших ежедневно с восьми вечера до трех часов ночи в течение месяца. Это научило Энн искусству руководить – не размениваться на всякие мелочи, на речи, на советы неудачникам и надписывание конвертов, а задумать что-нибудь невыполнимое и потом только одобряюще улыбаться подчиненным, которые в поте лица * осуществляли замысел.
Она снискала благоволение заведующей и стала в глазах окружающих (а потому и в своих глазах) командиром, вождем, лицом, чье мнение о чем угодно – о налогах ли, алкоголе, бессмертии, лучшем отеле в Атлантик-Сити или нравственности коротких юбок-представляло большую ценность, лицом, которому можно доверить любое крупное и замысловатое начинание.

Но Энн еще не до конца засосала трясина политики, успеха и сознания собственной важности. Ей было немного смешно, что своей обновленной кипучей энергией она обязана таким отношениям с капитаном Резником, в которых едва ли можно было сознаться в стенах либерального, но строго целомудренного народного дома.
И все это время она жила не собственными успехами, а письмами от Лейфа.
В течение трех недель он писал каждый день; писал о потешных бриджах своего полковника, которые оттопыривались сзади, как турнюр, и о том, как он обожает Энн; о том, что читает историю наполеоновских войн и что, ложась спать и закрыв глаза, он видит всегда только линию ее плеч и груди; что он совершил со своими солдатами прогулку в двадцать миль и всю дорогу, шаг за шагом, воображал, что путешествует с ней по Зальцкаммергуту.
Ее письма к нему были гораздо длиннее. Но в конце концов он был занят, как и полагается мужчинам.
В то утро, укладывая вещи в отеле «Эдмонд», он сказал;
– Послушай! Я попрошу портье отослать тебе мой японский свиток, Гете и сервиз, который ты мне подарила. В окопах они мне не очень-то пригодятся! Храни их до моего возвращения. Они ведь будут тебе хоть немножко напоминать обо мне, любимая, когда я буду далеко?
Вещи действительно пришли, и, открыв ящик, Энн нашла между ними ветхие красные шлепанцы Лейфа, хранившие очертания его ноги. Она облила их слезами. Для нее они были бесконечно дороже бесчувственного великолепия тисненого Гете. Она спрятала туфли в свое белье и ежедневно доставала их из ящика.
Как-то днем она пригласила Тесси Кац выпить с ней кофе из майоликовых чашек, и обе девушки, легкомысленная нью-йоркская еврейка и провинциальная северянка со Среднего Запада, забыли разницу в своем общественном положении и наперебой говорили о Морисе и капитане Резнике.
Прошло три недели. Лейф начал писать через день, потом – два раза в неделю и наконец – один раз.
Перед разлукой Лейф потребовал, чтобы Энн непременно приехала к нему на воскресенье в Пенсильванию, как только ему удастся разыскать удобную гостиницу поблизости от лагеря Леффертс. Очевидно, ему все не удавалось найти подходящую гостиницу.
Затем уже после десятидневного молчания пришло письмо, посвященное одной удивительно приятной еврейской семье, живущей в Скрантоне, неподалеку от лагеря. У него был отпуск на сутки, и он провел его у новых друзей. Фамилия их Бирнбаум. Отец – адвокат и директор банка, очень умный и образованный человек, шутник, старательно подражает пенсильванским аристократам голландского происхождения. Мать – очень гостеприимная хозяйка, кормила его жареным гусем. И дочери – Лия Бирнбаум, ей двадцать два года, и девятнадцатилетняя Дорис. «Такие милые, умненькие девочки, прелесть. Лия настоящая волшебница в химии, а ведь, ей-богу, химия гораздо глубже забирается в истоки человеческой жизни, чем вся наша дряхлая социология, черт бы ее побрал, не правда ли?.. Они тебе страшно понравились бы!»
– Ну, нет! – отрезала Энн и, перечитав письмо, прибавила:– Ах, так она волшебница, эта хваленая Лия? С ее мерзкими вонючими пробирками!
Пять минут спустя, проглаживая утюгом платки, она вдруг замерла, пораженная внезапной мыслью.
– Целые сутки! Он мог бы успеть приехать в Нью – Йорк. Я съезжу к нему сама и посмотрю… Нет, мой любимый, я не могу приехать к тебе, пока ты меня не позовешь!
С его отъезда прошло два с половиной месяца. И опять десять дней от него не было писем. Она не скупилась на оправдания: он, разумеется, безумно занят – учения, походы, стрелковая подготовка. И все-таки… Два письма за восемнадцать дней! Этому не могло быть оправданий.
Два с половиной месяца? Двадцать лет!
Только призвав на помощь всю свою волю, ей удалось сохранить вновь обретенную энергию. «Что с вами? Вы что-то плохо выглядите», – то и дело говорили ей окружающие.
Как-то в середине дня, когда она мчалась по коридору первого этажа, торопясь с заседания комитета по защите бездомных кошек на кружок, занимавшийся изготовлением бинтов для Красного Креста, ее остановила Тесси Кац. Энн три недели не видела Тесси и даже испугалась: губы и пальцы у Тесси дрожали, как у параличной.
– Как, Тесси? Вы сегодня не на работе? Какая вы счастливая! Что с вами, дорогая? Какие-нибудь неприятности?
– Ой, господи, мисс Виккерс, еще какие неприятности! Да это не то слово! Послушайте, мисс Виккерс, мне надо с вами поговорить, просто позарев надо!
– А нельзя подождать до вечера?
– Нет, я не могу ждать! Честное слово, я свихнусь, если не узнаю одну вещь. Нельзя вас на минутку? Пожалуйста!
– Пойдемте в мой кабинет. Или ко мне в комнату?
– Ой, я до смерти боюсь, вдруг кто-нибудь войдет. А нет такого места, куда уж никто не сунет носа? Пожалуйста, мисс Виккерс, ну, пожалуйста!
– Хорошо, попробуем пойти в клубную комнату Д. В это время там никого не бывает.
В клубной комнате лежали складные стулья и ломберные столики и стояли два сильно источенных жучком кресла с обивкой изумрудного цвета – подарок энтузиаста-торговца с Грэнд-стрит, буфет с посудой и газовая плита в нише за занавеской. Комната имела унылый вид, как маленькая железнодорожная станция, и в то же время хранила тепло многих тысяч встреч за чашкой кофе, во время которых еврейские и итальянские матроны подробно рассказывали друг другу о своих американских внуках.
Тесси не стала ждать, пока сядет многоуважаемая мисс Виккерс, она бухнулась в кресло, прижала кулаки к глазам и разрыдалась.
– Перестаньте! Не то сюда придут. Ну-ну, в чем дело? Не бойтесь, Тесси. Меня вы ничем не испугаете. Особенно теперь, в военное время. Я пойму, – ободряюще произнесла Энн.
– Мисс Виккерс, мисс Виккерс! Вы, наверное, сами догадываетесь… Ой, господи, я же была так осторожна! У меня будет ребенок! Сволочь Морис! Я ему глаза выцарапаю! Целый месяц не пишет ни словечка!
– А вы не ошибаетесь?
– Нет, уже больше двух месяцев. Хозяин меня выставит в два счета, он у нас в таких делах жутко строгий… Вообще-то он хороший, никогда не пристает к нашим девушкам. Но больше всего я боюсь своего папаши. Ой, господи, мисс Виккерс, честное слово, он меня убьет!
– А вы бы хотели выйти за Мориса?
– За этого мамзера? [95]95
Mamzer – ублюдок (евр.).
[Закрыть]Конечно бы не отказалась. Только он наверняка обзавелся новой девушкой, и он мне скажет… Ой, вы не представляете, до чего он бывает грубый… скажет – ну и топись на здоровье! Вот если бы у меня был такой дружок, как ваш! Но главное – папаша. У нас семья самой строгой веры, а Морис все равно что гой. Честное слово, если бы мы с ним поженились, папаша погнался бы за нами с ружьем. А если я рожу просто так, он с двумя ружьями прибежит!
Она пыталась шутить, но голос ее срывался. Она даже криво улыбнулась. Но Энн не смогла улыбнуться в ответ. Малокровная свежесть юности Тесси за два месяца куда-то девалась. Волосы выбивались из-под дешевой модной розовой шляпки свалявшимися сальными прядями, в дешевых модных вискозных чулках спустились петли, и из них торчали черные волоски. Ей можно было дать лет сорок. Она казалась больной и одинокой.
Энн быстрым движением пересела на ручку ее кресла, погладила ее по плечу, и, когда заговорила, в ее привычно сдержанном тоне, каким все люди, связанные с профессиональной благотворительностью, ограждают себя от мучительного сочувствия, слышалось больше мягкости, чем обычно.
– Это страшно, Тесс. Я понимаю. Чем я могу вам помочь?
– Мне надо как-то избавиться от ребенка. Я уж и гимнастику изо всех сил делала и по лестнице вверх – вниз бегала, пока… пока не грохнулась сегодня в обморок. Взбежала одним махом на пятый этаж, в мастерскую – и хлоп. Так что нужен доктор. Одна знакомая девушка говорила мне про какого-то, но он – дрянь. Вы должны узнать, как найти хорошего доктора!
В течение десяти секунд Энн рассмотрела проблему аборта во всей ее сложности и выработала отношение к ней. Жизнь требует, чтобы нормальные женщины рожали детей, и нисколько не считается с законами, установленными проповедниками и провинциальными законниками. А законы эти остаются в силе. И общество карает пожизненным заключением в тюрьме презрения каждую девушку, которая нарушила эти законы и осталась верна новой жизни внутри себя, ставшей для нее единственным законом. И поэтому девушка, которой грозит это наказание, имеет такое же право спасаться от злобы своих ближних, как революционер – спасаться от государственной тайной полиции.
– Хорошо, – сказала Энн. – Я найду врача. У вас есть деньги?
– Ни гроша. А занимать я боюсь.
– У меня есть немножко денег. Мне они не нужны. Зайдите ко мне сегодня вечером… нет, завтра вечером.
– Ой, господи, какая вы хорошая! Как бы я хотела быть такой, как вы, мисс Виккерс! До завтра. Всего!
Истерический страх сменился столь же истерической радостью, и Тесси, не забыв наложить новые румяна поверх размытых, весело выбежала через дверь полуподвального этажа.
Энн Виккерс медленно, с трудом поднималась по лестнице. Колени у нее были, как ватные, спину раздирало когтями боли. Каждый тяжелый шаг отдавался на ступеньках, не покрытых ковром, глухо и уныло, словно барабанный бой, провожающий покойника. Она не пошла по выложенному гулкими шиферными плитами коридору на кружок Красного Креста. То и дело останавливаясь, держась одной рукой за перила, а другой за поясницу, она потащилась на второй этаж, потом на третий и по бесконечному коридору прошла в свою комнату. Там она заперла за собой дверь и замерла, согнувшись как в покаянной молитве, бессильно опустив руки.
– Хотела бы я быть, как вы, мисс Виккерс, – простонала она, с горечью передразнивая Тесси Кац, и добавила:-Хватит играть с собой в прятки! Два с половиной месяца. Все ясно. Но чтобы я… Энн Виккерс! И я даже не могу написать Лейфу, что у меня будет ребенок, пока он не подаст знака, что я ему нужна. Что мне делать? А моя работа в Корлиз-Хук? Ну, на ней, конечно, придется поставить крест.
ГЛАВА XVII
Передать яд осужденному убийце, чтобы он мог умереть достойно и один, а не перед строем алчущих крови священников, надзирателей и репортеров, лишив государство возможности удовлетворить свою кровожадность, – это значит совершить уголовное преступление. И не меньшее преступление – помочь девушке, осужденной на сплетни и злословие, которые бывают хуже смерти, избавив ее от того, чему дано странное название «незаконный ребенок». С таким же успехом можно было бы говорить о «незаконном урагане» или о «незаконной горе». Врач, который прописывает богатой женщине постельный режим и совсем ее запугивает, – хороший, замечательный человек. Врач, спасающий девушку от позора, – проходимец, укравший у общества удовольствие позлобствовать, и его сажают в тюрьму. Поэтому порядочным женщинам трудно найти врача, делающего аборты. Зато усердное служение пороку вознаграждается тем, что грешники легко находят пути избегнуть наказания.
Будь Энн карманным воришкой или профессиональным шулером, ей не составило бы никакого труда отыскать врача, которому она могла бы вверить Тесси Кац. Но поскольку она добросовестно служила человечеству (и получала примерно четверть жалованья секретарши страховой конторы и десятую долю жалованья очаровательно распутной актрисы), то ей было так же трудно разузнать о нужном ей враче, как обнаружить новое месторождение алмазов. Она расспрашивала шепотом сотрудниц Корлиз-Хук, намекала об этом Мальвине Уормсер, пока наконец вспомнив, что Элеонора Кревкёр безмятежно живет в грехе, не достала адрес спасителя. (У Элеоноры имелось шесть адресов так называемых «специалистов» с гарантией, что они осторожны, недороги и хранят врачебную тайну. Все это вместе с номерами телефонов было аккуратно внесено в черную записную книжечку.)
Особенно ей рекомендовали моложавого итальянца на Ист-Бродвее. Энн отправилась к нему и увидела типичного кинематографического врача – живого, веселого, с закрученными усиками и маленькой бородкой.
– Я… э-э-э… мне надо поговорить с вами конфиденциально, – запинаясь, произнесла Энн, чувствуя себя жалкой провинциалкой, а не уверенной в себе преобразовательницей общества. В приемной, отделенной от всего мира дверьми и портьерами (где их никто не подслушивал, кроме сестры, секретарши и еще одного собрата-спасителя, удобно расположившегося в ожидании за портьерой), Энн решилась:
– Доктор, я работаю в народном доме. У нас есть одна бедная девушка, работница, получающая очень низкую плату, и она… э-э-э… попала в беду. Он не хочет на ней жениться, и родители выгонят ее из дому. Помочь ей – значит сделать доброе дело. У нее, конечно, нет денег, но я… жалованье у меня небольшое, но вам будет сразу же уплачено, если вы берете не очень дорого.
Доктор закашлялся от смеха (он был добродушный человек, помогал трем родственникам в Америке и пятерым в Италии. Играл на кларнете и был первоклассным пловцом). Он наклонился над сидевшей Энн, погладил ее по плечу и ободряюще сказал:
– Ничего, ничего, деточка! С врачом не надо стесняться. Ведь это наше дело! Война… я все понимаю. Может быть, и я уеду на Пьяве, и тогда бог знает, сколько я оставлю здесь обиженных девушек! Конечно, военное время… Совершенно нормальное явление, милочка. А вы, наверное, восхитительная возлюбленная! Когда у вас в последний раз были?..
– Когда… Я же вам говорю, это не для меня! Как вы могли подумать? Просто смешно! Я повторяю: это одна еврейская девушка, моя подопечная.
– И вы собираетесь платить за нее из вашего жалованья сотрудницы благотворительного учреждения? Гм. Ну что же, придется вам… ведь и врачам нужно, знаете, жить… придется попросить вас уплатить за нее вперед.
– Хорошо. Сколько?
– Ну-у… Скажем, пятьдесят долларов. Это минимальная плата, с моей стороны это чистая благотворительность.
– Хорошо. Когда мне привести ее? Я захвачу с собой деньги. А сколько вы возьмете за то, чтобы подержать ее здесь или где-нибудь в другом месте дня три – четыре после операции, чтобы все сошло благополучно?
– Десять долларов в день. У меня наверху отличная комната. В эту плату входит и сиделка на часть дня, и я сам буду присматривать за ней, как за родной сестрой. Не беспокойтесь. Вы будете довольны. Держу пари, вы станете присылать ко мне всех своих подопечных. Вы порядочная образованная девушка, я сразу это понял… Я просто шутил.
Энн пошатывало, когда она брела к метро. Странно, какую слабость она чувствовала в последнее время.
Направляясь к доктору, она взвешивала, не воспользоваться ли и ей его услугами. Нет, это исключено! Невозможно!
Это не был физический страх. Она не сомневалась, что этот развязный наглец хорошо знает свое дело. Но даже если бы опасность существовала, она и тогда не испытывала бы страха. Она сейчас не боялась умереть. Напротив, смерть была бы отличнейшим выходом. Но ей, сотруднице Корлиз-Хук, целнтельнице страждущих душ и голодающих кошельков, казалось унизительным отдать себя в руки этого резвого шарлатанишки.
В последние дни она твердо решила последовать примеру Тесси. Но, очевидно, этот путь для нее закрыт.
Самоубийство?
Но она только и могла, что повторять про себя это слово. «Самоубийство». Для нее оно было нелепым, лишенным смысла набором звуков, вроде «абракадабры», и никак не означало поступок, который способна деловито совершить практичная Энн Виккерс. Торжественно затыкать дурацкими комками бумаги щель под дверью и потом открыть газ! Надеть лучшую ночную рубашку и, тщательно выбрав позу, выстрелить себе в лоб! Какая чушь!
«Либо у меня не хватает воображения, либо его слишком много – не пойму!»
Рожай в таком случае! Покрой себя позором! Пускай! Перемени фамилию, уезжай с ребенком и честно работай судомойкой!
«Да, легко говорить! – издевалась она над собой. – Но понравится ли еще тебе мыть посуду до конца своих дней? И еще неизвестно, справишься ли ты с этой работой!».
О господи! Где же выход для женщины, которая была так глупа, что забыла про свое достоинство, про свое «я» и всю себя отдала другому человеку; которая была так наивна, что поверила мудрецам, проповедующим, будто любовь благороднее холодного бесчувствия или жеманной робости; которая приняла за правду легенду о том, что «Тристан и Изольда» и «Ромео и Джульетта» и «Песнь песней» Соломона, читаемая со всех протестантских кафедр, благороднее сентенций Полония? В чем же выход для женщины, которую в соответствии со своими обычными биологическими принципами создал всемогущий бог, а не секретарь ХАМЖ?
Операция у Тесси прошла благополучно и без всяких последствий (в отличие от многих других случаев, как вынуждена была признать Энн). Через неделю она уже вернулась на работу. Она была притихшая и без кровинки в лице, так что румяна еще заметнее выделялись на щеках, зато она была спасена от общественной смерти.
Они подружились – Энн и работница из меховой мастерской. Тесси узнала массу неприличных, но увлекательных вещей от своего итальянского доктора и бойкой сиделки. Энн услышала от Тесси (не поднимая глаз от майоликового сервиза), что после пяти месяцев аборт бывает смертелен.
А она уже три месяца шла по этому опасному пути.
От Лейфа Резника не было писем две недели, да и то последнее содержало вымученно шутливый рассказ о пьяном полковнике и несколько слов о дальнейшем сближении с Бирнбаумами… и какой умница этот старый адвокат, и какие очаровательные девушки Лия и Дорис.
Ни слова о том, когда его пошлют во Францию, когда он будет проезжать через Нью-Йорк.
«Я должна его повидать! Я поеду в лагерь! Может быть, он удивляется, отчего я не еду, думает, я не хочу», – в сотый раз терзала она себя и в сотый раз добавляла: «Глупости, не такой уж он робкий ягненок. И не бессловесное существо. Он дал бы знать, если бы хотел».
Но, несмотря на все свои мучения, Энн должна была сознаться, что никогда еще она не чувствовала себя так хорошо. Она могла работать по четырнадцать часов в сутки. Она махнула рукой* на свою репутацию среди сотрудников Корлиз-Хук и от этого действовала еще более отважно и энергично. Она где-то раскопала торговца, который прошел попеременно стадии еврея-бедняка, потом благоденствующего еврея-антисемита, а сейчас находился на той высшей ступени богатства, когда мог позволить себе оказывать евреям покровительство. Энн уговорила его открыть в своем поместье в Лонг-Айленде лагерь для еврейских бойскаутов. (Будь там известно имя Энн, ее и по сей день проклинали бы жившие в Лонг – Айленде по соседству с лагерем и евреи и христиане, которые просыпались чуть свет от того, что потомки Гидеона плескали водой из фонтана на лужайку и распевали во все горло: «А путь-дорога вьется, вьется!»)
Она заставляла своих подопечных как следует убирать классы. Она безжалостно уволила целомудренную пожилую даму, преподававшую гигиену половой жизни, и заменила ее легкомысленной молодой женщиной, но зато более осведомленной. (Все работники народного дома, особенно заведующая, вслух возмущались подобным жестокосердием, но почувствовали большое облегчение, лишившись целомудренной дамы.)
Ходили слухи, что заведующая намерена удалиться на покой и что место ее займет Энн.
Услышав это, Энн помрачнела. Прежде она успеет стать отверженной.
Избегая дружеского любопытства других сотрудников, она, когда удавалось, обедала одна.
Однажды вечером, месяца через три после того, как она проводила Лейфа, она зашла в нижний зал Бреворта, чтобы пообедать в одиночестве. Зал с зеркалами вдоль стен на французский манер гудел от литературных разговоров. Но Энн не знала ни авторов, ни издателей. Она почувствовала себя в безопасности, усевшись за столик у стены. Пошло предвкушая удовольствие от еды, она заказала нашпигованный салом кусок мяса, улиток и го-сотерн. Она подняла голову и постукивала краешком меню по стулу, думая, как бы ухитриться раздобыть бесплатные учебники и дешевого преподавателя для класса русского языка, где занимались две работницы шляпной мастерской и дряхлый, но воинствующий атеист. И вдруг ее рассеянный взгляд сосредоточился. Она похолодела. Из сумятицы незнакомых лиц выделилось вдруг лицо капитана Резника. Но теперь на его плечах красовались не двойные капитанские полоски, а золотые листья майора. И он обедал с девушкой в белом шелковом платье, юной, с зеркально-черными, блестящими волосами. Он был так увлечен, что не заметил, как Энн прошла по залу.
Катастрофа была настолько велика, что Энн ничего не почувствовала.
Она выковыривала вилкой улиток, как серьезная маленькая девочка, играющая ракушками в саду. Но не съела и половины. Так же серьезно она разрезала мясо, но даже не попробовала его.
И тут Лейф поднял глаза и увидел ее. Впоследствии Энн не могла вспомнить, кивнула ли она ему, улыбнулась, сделала вид, что не замечает, или же в смятении проделала и то, и другое, и третье. Он, очевидно, не знал, как ему поступить. Потом, нагнувшись к девушке, сказал что-то настойчиво и нежно и решительно направился к Энн с деланной улыбкой на лице. Склонившись, он поцеловал ей руку с изысканностью испанского гранда и пробормотал:
– Дорогая! Как чудесно! Я только полчаса как приехал. Собирался сразу же тебе звонить. Мне пришлось сопровождать дочь одного моего друга… она там за столиком… Лия Бирнбаум, очень милая девушка из Скрэнтона, ребенок еще, конечно… я обещал ее отцу показать ей город. Я только отвезу ее в отель и после восьми освобожусь, самое позднее в девять. Ты непременно должна выпить с нами кофе, когда кончишь обедать. Она будет ужасно рада с тобой познакомиться. Конечно, она еще ребенок, Backfisch, [96]96
Девочка-подросток (нем.).
[Закрыть]хотя и очень умная для своего возраста. Я ей, конечно, все рассказал про тебя, какую ты замечательную работу ведешь и… о, она будет ужасно рада с тобой познакомиться и… послушай! Ты свободна после девяти или, для верности, после половины десятого? Мне еще надо кое-кого повидать. Ты не могла бы зайти в «Эдмонд»?
Она молча ждала, пока он кончит барахтаться, ни разу не протянув ему руку помощи. Потом мрачно ответила:
– Нет, это невозможно. Но мне очень нужно тебя видеть. Приходи в Корлиз-Хук в десять, если хочешь. Успеешь за это время распрощаться со своей Лией. Ах, извини. Так ты придешь в десять?
– Д-да… Хорошо.
Она не стала пить с ними кофе. Она молча ушла. Она была уверена, что он опоздает, но он явился за десять минут до назначенного часа. «Ну ясно! Плохой же я психолог. Он должен был прийти раньше. Это дает ему возможность чувствовать себя правым», – размышляла Энн по дороге из своего кабинета в коридор первого этажа, где ее ждал Лейф.
Странно, что лицо, прежде выделявшееся в любой толпе, казавшееся особенным и милым, сейчас, среди учащихся, которые шушукались в коридоре, выглядело чужим и заурядным.
– Спустимся вниз. Там нам не помешают, – сказала она и повела его в клубную комнату Д, где Тесси призналась ей и где она призналась сама себе.
Она чинно села в кресло. Впоследствии, вспоминая это свидание, она ненавидела себя за эту надменную чопорность. Отчего она не разбушевалась – величественная в своей ярости?
Он закрыл дверь и стоял, придерживаясь за стену вытянутыми пальцами правой руки. Он чуть не плакал.
– Энн! Энн! Почему ты такая? Что я сделал? Я хотел устроить тебе сюрприз!
– Ты мне его устроил! Прости! Прошу тебя, будь честен. Я все могу вынести. Ты помолвлен с этой девочкой Бирнбаум?
– Помолвлен? Что ты, бог с тобой!
– Значит, мы с тобой можем сочетаться счастливым браком?
– Должен сказать, моя милая, что в твоем голосе я не слышу, чтобы тебе безумно этого хотелось.
– А тебе?
– Отчего же? Я хочу.
– Когда? Ты, очевидно, на пути во Францию?
– Для тебя очевидно даже то, чего вовсе нет! Прости, я не хотел… Дело в том, что торопиться незачем, у нас есть время, чтобы проверить, чего мы действительно хотим. Видишь ли, меня оставили при лагере, я получил майорский чин, ты, наверно, заметила! Может быть, мне и совсем не придется ехать во Францию. Так или иначе, несколько месяцев я еще пробуду в Леффертсе.
– Ах так! Тогда, разумеется, спешить некуда. – Она изо всех сил старалась, чтобы в словах ее не зазвучала горечь, но это ей не удалось. – Поздравляю. Ты, правда, даже не удосужился сообщить мне об этом и вообще не писал.
– Я был ужасно…
– Мне необходимо выяснить положение. Я не собираюсь вмешиваться в твою жизнь… то есть собираюсь, но в определенных пределах. Просто я хочу знать, как мне быть дальше. Ты любишь Лию, так ведь? Я наблюдала за вами.
– Да. Как старший брат.
– Хм!
– Ну и что тут такого? Холостяцкая казарменная жизнь…
– А, вот что! У меня… у нас с тобой… будет ребенок.
– Боже мой!
– Меньше чем через шесть месяцев. Ну так что?
– О, я женюсь на тебе! Черт возьми, я женюсь на тебе! Я сдержу свое слово!
– Вот все, что я хотела знать. Я не буду твоей женой. Будь добрее с Лией! Спокойной ночи!
Она выбежала через боковую дверь прежде, чем он успел остановить ее, примчалась к себе в комнату и приготовилась плакать, но не заплакала. Вместо этого она вдруг расхохоталась, присев на краешек кровати с запретной папиросой в зубах и чувствуя себя свободной и полной решимости. Плакать? Нет, все это только смешно! Уж слишком законченная картина: невинная провинциалка, обманутая столичным соблазнителем, который находит богатую невесту и жаждет уклониться от брака со своей жертвой.
Плачь, поруганная, обманутая красавица, обезумевшая от горя! Явись, разгневанный отец с длинными бакенбардами и дробовиком в руках! На телефонной книге, на которой театральный бутафор начертал слово «Библия», дай клятву Всевышнему о мести! Вернись, бравый капрал, друг детских лет, проявивший чудеса героизма на войне. Будь тут как тут, с мешками золота, веди ее к алтарю, не откладывая счастливого мига, дабы спасти ее от позора, и пусть вероломный Лафайет Резингтон погибнет под колесами мстящего за нее нью – йоркского экспресса!
«Именно это я и чувствую! В сущности, его вины тут не больше, чем моей, и что самое забавное – мне совсем не хочется быть его женой. Совсем!»
Тяжело ступая, она подошла к комоду, достала его поношенные красные шлепанцы из-под белья, отделанного лентами, которые она купила специально ради него. Она хотела засмеяться над собой, над шлепанцами. Но ничего не вышло. Она сунула шлепанцы в стенной шкаф, и прошло некоторое время, прежде чем она опять была в состоянии думать.








