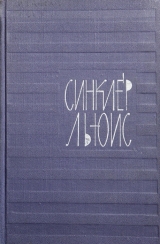
Текст книги "Энн Виккерс"
Автор книги: Синклер Льюис
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 35 страниц)
ГЛАВА XLIII
Мисс Гретцерел, молодая женщина из Швейцарии, с живым характером и истинно швейцарской любовью к языкам, чистоте и детям, была превосходной няней. Детская, устроенная именно для Мэта, а не для забавы его родителей, тоже была превосходна; в ней не было никакой лишней мебели: только кроватка, комод с детскими вещами и два простых стула. Никаких желтеньких утя г, никаких чувствительных изречений – голые стены, которые можно было безжалостно мыть и скрести. Этой комнате Энн отдала гораздо больше сил и времени, чем какая-нибудь неработающая молодая мать, обязанности которой составляют игра в бридж и танцы.
Десять раз на дню ей хотелось позвонить домой, мисс Гретцерел, но она этого не делала. Как ни бывала забита ее голова всевозможными служебными мелочами и заботами, все они улетучивались, едва она садилась в метро и говорила себе, что сейчас увидит Мэта. Приближаясь к дому, она всегда испытывала страх – не случилось ли чего-нибудь. Бросив в прихожей шляпку куда попало, она входила в детскую на цыпочках с таким волнением, словно ее сын был тяжело болен и надвигался кризис.
Она очень скоро убедилась, что Мэт, безусловно, самый красивый, самый крепкий, самый не по возрасту развитой младенец на свете. Она сдерживала себя и старалась не рассказывать об этом своим соседям за столом на званых обедах, но счастье переполняло ее сердце: этот необыкновенный ребенок скрещивал ножки, как котенок лапки, в три месяца он уже, несомненно, узнавал ее, его крохотные ноготки отличались идеальной миндалевидной формой, и он никогда не плакал – если на то не было причины.
• Огорчало ее только то, что она смогла кормить его грудью всего два месяца. Так она расплачивалась за то, что была, как это почему-то принято называть, «свободной женщиной».
Рассел, по-видимому, любил Мэта не меньше, чем она, и Энн нередко от души желала, чтобы Рассел проявлял свои чувства к сыну не так бурно, как по временам она желала, чтобы он вообще не так бурно проявлял себя. Он притаскивал нелепые игрушки, которые ребенку были явно ни к чему: прехорошеньких мохнатых ягнят, щенят и кисок, в пушистой шерсти которых гнездились стрептококки; смешных деревянных мишек, которыми Мэт дубасил себя по лбу, от неожиданности поднимая воинственный рев. И к тому же Рассел сюсюкал, разговаривая с ребенком. «Мусики, пусики, кусики, тусики!» – лепетал он и щекотал ему пятки. И тем хуже, если глупому малышу все это очень нравилось и он повизгивал от наслаждения. В такие минуты Энн даже начинала сомневаться, действительно ли Мэт – будущий Вольтер и действительно ли он сын Барни.
И в довершение всего Рассел, если только его не останавливало народное возмущение, повадился показывать младенца гостям после того, как его уложили спать.
Этому кощунству положила конец мисс Гретцерел. Но восстать против нежного отца ex officio [203]203
По обязанности (лат.).
[Закрыть]ее подстрекнула Энн.
Так прелестна была миниатюрность ребенка, так увлекательно было наблюдать за тем, как он растет, так стремилась Энн сдержать свою клятву, что он не повторит ни одной из ее собственных ошибок, порожденных невежеством и неопытностью, так велика была ее наивная, святая уверенность, будто он гораздо красивее других детей, снимки которых показывали ей друзья, – что все это вместе взятое плюс работа, плюс возросшая опасность свиданий с Барни так поглотили ее, что растущая решимость Рассела возобновить супружеские отношения вызывала у нее только некоторую досаду и раздражение.
Бегство от жизни, свойственное Расселу, выражалось, в частности, в том, что физическая сторона любви существовала для него только в темноте и безмолвии. Но теперь от злости он сделался весьма многословен и прямолинеен. Он напоминал Энн, как он был великодушен, приняв ее обратно и дав свое имя ребенку, который, возможно, вовсе и не его ребенок. Он намекал, что qpa не перестает думать о своем любовнике, а может быть, даже спит с ним. Так как все это была сущая правда, Энн, человеку достаточно справедливому, было не так легко отвечать ему с искренним возмущением.
Ей хотелось сложить свои вещи в чемодан, взять под мышку Мэта и уйти навсегда.
Но она не могла уйти из-за Мэта.
И как раз теперь она не могла уйти к Барни. Не только из-за его репутации, не только из-за опасности, угрожавшей ему после ревизии, но и потому, что его старшая дочь выходила замуж. Она «сделала отличную партию» – ее жених готовился к дипломатической карьере и был сыном юриста акционерного общества и владельца виллы на Лонг-Айленде.
Отделы светской хроники нью-йоркских воскресных газет помещали фотографии «мисс Сильвии Долфин – самой очаровательной невесты нынешнего марта».
Энн показала фотографии чрезвычайно заинтересованному Мэтью (когда Рассела и мисс Гретцерел не было поблизости) и объяснила:
– Это твоя сводная сестра, Мэт. Узнаешь ее в этом новом туалете?
Мэт срыгнул.
Непреодолимое, пожалуй, ребяческое любопытство привело Энн к церкви, где происходило венчание. Все, что имело отношение к Барни, было для нее очень важно. Забравшись поглубже в толпу у паперти собора святого Патрика, Энн из-за спины старой ирландки, смахивавшей сзади на кузов такси, смотрела, как выходит из церкви свадебная процессия.
Сильвия выглядела, как…
«…как настоящая новобрачная. У меня, пожалуй, никогда не было такого вида», – подумала Энн.
И ее муж…
«А у него типично университетский вид. Кем же он приходится мне?»
Следом вышел Барни, под приветствия почти как в Таммани-холле. Она вдруг впервые заметила, что он довольно высокого роста. А может быть, такое впечатление создавали блестящий цилиндр, легкое пальто в талию, светлые перчатки, гетры, кгкие носят английские аристократы, и трость с золотым набалдашником? Энн смотрела на него с радостным телячьим обожанием. «Это мой муж!» – хотелось ей сказать толстозадой ирландке.
Но главным магнитом для нее была Мона, миссис Долфин, безупречная и ни в чем не виноватая, которую Энн иначе не называла мысленно, как «Эта проклятая баба! Эта пиявка!».
Изогнувшись, высунувшись из-за прикрытия, рискуя быть замеченной, Энн наконец увидела Мону, шедшую рядом с Барни.
Да, она была так же холодна и высокомерна, как и на портрете на площадке лестницы, и длинное соболье манто с высоким воротником раструбом сидело на ней неподражаемо. Хрустальная – это верно. Но в ней не было того внутреннего света, который ей придал портретист. Она казалась бесцветной. И нос у нее был поострее и губы потоньше, чем на портрете, и вообще она начинала походить на мумию.
«Изящна и безжизненна. И Барни, этот неистовый фений, вынужден жить с нею?» – подумала Энн.
На обратном пути в метро, пока еще обожание мисс Фелдермаус, зависть миссис Кист и просьбы заключенных поговорить с ними и разобраться в их бедах не вернули ей сознание собственной важности и принадлежности к числу Великих женщин, в спертом воздухе подземки, стиснутая людьми, валившимися на нее на поворотах, чувствуя, что ремень выворачивает ей руку из плеча, Энн представляла себе, как можно было бы описать ситуацию со стороны: богатый и влиятельный судья Долфин и его красавица жена, обладающая своим состоянием, оба принятые в том самом лучшем обществе, где дочерям покупают виконтов, эти почтенные супруги присутствуют на бракосочетании своей дочери с человеком, который вскоре получит право смешивать коктейли для третьих секретарей португальского посольства, а из толпы на эту великолепную процессию глядит вместе с остальными трудящаяся женщина, покинутая любовница Барни…
«Но ведь это не так, Барни? Что бы я делала, если бы это была правда, если бы Барни меня разлюбил? Думаю, что умерла бы. Думаю, что даже Мэт не заставил бы меня жить».
Эти мысли не давали Энн покоя. Мисс Фелдермаус была удивлена (хотя и отнеслась к этому философски) той резкостью, с какой Энн говорила о консервированных бобах.
В четыре часа позвонил Барни в одной из своих обычных ролей – от имени Еврейского приюта для несовершеннолетних правонарушительниц – и выразил надежду, что доктор Виккерс найдет время заглянуть к ним в пять часов, чтобы поговорить с одной из самых трудных девочек. «Вам, несомненно, будет интересно», – говорилось в телефонограмме.
Приют оказался тайным баром на Восемьдесят четвертой улице, и хотя вокруг было сколько угодно несовершеннолетних правонарушительниц, они подвергались воздействию только коктейлей.
При появлении Энн Барни поднялся с торжественным видом, театральным жестом водрузил на голову цилиндр и несколько раз повернулся перед ней.
– Ну как, хорош? – спросил он. – Похож я на герцога Вестминстерского? Возможно, ты никогда меня больше таким не увидишь.
– Но чем объясняется подобное великолепие?
– Разве ты забыла? Я тебе говорил. Сегодня была свадьба Сильвии.
– Да, конечно. Теперь вспоминаю. Жаль, что я там не была.
– Правда? (Майк! Два коктейля!) Я бы позаботился о том, чтобы тебе послали приглашение, если бы я предполагал… Я думал, что тебе не хочется знакомиться с Моной. Тебе бы она не понравилась. Мне по крайней мере она не нравится! Но мне очень жаль, если…
– Неважно. А вдруг, увидев тебя таким красавцем, я бы попыталась оттащить тебя от нее.
– Сделай это на следующей свадьбе! Моя вторая дочь уже помолвлена. За тебя, дорогая!
Это был единственный раз, когда Энн, хотя бы умолчанием, солгала Барни Долфину.
Два исстрадавшихся человека в низкосортном притоне изо всех сил старались изобразить беспечность и веселье.
Благополучно сбыв с рук Сильвию. Барни освободился от части своих обязательств, и Энн совершенно помешалась на мысли сбежать к нему от все более навязчивых ласк Рассела. Он превратился – ей, конечно, было жаль его, она на него не сердилась, понимая, что причиной было именно ее сопротивление, – но он буквально превратился в развращенного подростка. Он врывался к ней в ванную, он говорил непристойности, в которых не было ничего остроумного. Он нарочно (она была в этом уверена) проколол грелку и, когда его постель промокла, пытался под этим предлогом разделить с ней ложе до конца ночи и не без оснований рассердился, когда она отослала его в гостиную на тахту, потому что «ей ужасно хочется спать… как раз сегодня… не обижайся».
Она не пыталась искать себе оправдания.
«Я с грустью начинаю сознавать, что восхваляемый обычай хранить целомудрие может быть гораздо грязнее и подлее проституции. Я гнусно обращаюсь с беднягой, а он ведет себя как нельзя более порядочно и, может быть, даже слишком. Мне нужно как-то выбраться отсюда. Но как, когда у меня Мэт? Все равно нужно. Снять домик где-нибудь на окраине. Мэт, Гретцерел, и я, и приходящая прислуга за пять долларов в неделю, чтобы помогать с обедом и мыть посуду. Мне это по карману».
Бывают же такие неприятные совпадения! Именно на следующий вечер, высказав ряд колких замечаний нравственного порядка, Рассел закончил свою горячую проповедь следующим образом:
– И еще одно. Ты воображаешь, что ты прекрасная мать. Как бы не так! Я наслушался твоих разговоров. Ты рассказываешь всяким старым наседкам, как ты обожаешь возиться с Мэтом (мне по-прежнему не нравится это имя – «Уорд» было бы куда более современно и оригинально), и утверждаешь, будто тебе приятнее нянчиться с ним, чем командовать заключенными и выступать перед Всемирной Лигой Зануд и Реформаторов! Еще бы! Твоя жертвенная любовь исчерпывается тем, что ты платишь мисс Гретцерел, а она исполняет всю черную работу! Прежде всего, если бы ты хоть капельку заботилась о здоровье нашего ребенка, а не о своих удобствах и своей хваленой карьере, мы бы давно сняли дом за городом, чтобы мальчик рос на свежем воздухе, в тишине, со здоровой нервной системой, а не торчал бы в зловонном шумном городе!
– Рассел, но ведь когда мы поженились, я хотела поселиться за городом, а ты настаивал, что нам необходимо общаться с интеллигентными людьми…
– Ха! Интеллигенты! Знаешь, в чем разница между тобой и мной? Я способен расти. Я отбрасываю взгляды, которые изжили себя. Было время, когда я думал, что деловые люди-пустые брехуны и безмозглые дураки, а так называемые интеллигенты держат монополию на всякие идеи. А теперь я понял другое и хочу, чтобы Мэта, когда он вырастет, окружали люди умные, энергичные, с практической сметкой, которые занимаются делом, – маклеры, дантисты, агенты рекламных бюро и так далее, которых найдешь в Маунт-Вернон и Коскоб, а не какие-то там радикалы и пустозвоны-теоретики. А сейчас слушай меня внимательно, если только ты можешь на одну минуту отвлечься от собственной важной персоны! В ближайшее воскресенье мы возьмем напрокат автомобиль, поедем по уэстчестерскому шоссе и попробуем приглядеть дом в пригороде.
«Если я буду жить там, мне будет труднее видеться с Барни», – подумала Энн, а вслух кротко ответила:
– С удовольствием.
Рассел всячески подчеркивал тот факт, что только ради нее и своего сына Мэта он платит по двадцать пять центов с каждой мили за лимузин, в котором они отправились искать по фешенебельным пригородам землю обетованную.
Прошел год и две недели с тех пор, как она всю ночь ехала рядом с Барни Долфином в Виргинию.
Рассел говорил без умолку о депрессии, о пригородном сообщении Нью-Йорк – Маунт-Вернон, о количестве рыбьего жира, необходимого Мэту, о возможных результатах депрессии и о покупке недвижимости в Пелэме. Энн сидела чрезвычайно прямо на сизо-сером сиденье и курила одну папиросу за другой.
Они осмотрели с десяток солидных домов с гаражами на два автомобиля, настолько тихих, насколько это возможно вблизи большого шоссе. Дома стоили от двадцати до тридцати пяти тысяч. При каждом из них было не больше тысячи квадратных футов газона и одного-двух тенистых деревьев.
Энн знала, что у Рассела отложено десять тысяч долларов; сама она (истая дочь Уобенеки), несмотря на небольшое жалованье и энтузиазм, с которым исправившиеся преступницы брали у нее взаймы, ухитрилась скопить три тысячи долларов, бодро отказывая себе во многом. Это было все их состояние, о чем она и напомнила Расселу.
– Бог ты мой, мы ведь не обязаны выплатить все сразу. Внесем тысяч пять, а остальные будем выплачивать в течение десяти лет.
Ею овладел панический страх, какой, вероятно, испытывает обвиняемый, впервые попавший в тюрьму, когда он слышит приговор: «Десять лет каторжных работ». Неужели она попадется в ловушку? Неужели Расселу удастся каким-то чудом с помощью цепкой силы, присущей слабым людям, втянуть ее в это дело и она будет вынуждена жить с ним еще десять лет и помогать ему выплачивать долг, так как иначе она «подло бросит его после того, как он потратил столько трудов и купил дом для нее и ее ребенка»?
Она еще не видела капкана, но уже ощущала запах его холодной стали.
Благодаря ошибке вполне добропорядочного агента по продаже недвижимости они осмотрели дом недалеко от Скарсдейла, который Энн понравился. В четверти мили от каких бы то ни было дорог. Запущенный, затерявшийся среди особняков, оштукатуренных и кирпичных, самых разных стилей – тюдоро-джорджианского, испано-калифорнийского и коннектикутско-швейцарского, – на заросшем бурьяном участке неправильной формы стыдливо стоял фермерский дом, построенный в 1860 году. За него просили пять тысяч долларов. Стены были крепкие. В доме была большая общая комната, кухня, но без столовой, две большие спальни и одна маленькая, водопровод, но без ванной, и провинциальное крыльцо-веранда, откуда открывался вид на долину, поросшую кизилом.
Дом назывался «Голова Пирата». Когда Энн поинтересовалась происхождением этого названия, агент объяснил:
– Как вам сказать… просто его всегда так называли.
Энн быстро прикинула: одна спальня для Мэта и Гретцерел, другая для нее самой, третья комнатушка для Барни, – а будет он проводить в ней всю ночь или нет, никого не касается.
– Какой очаровательный старинный домик! – сказала она.
– Ты с ума сошла! Уж не говоря о том, что это развалина, здесь вдвое меньше места, чем надо, – возразил Рассел.
Всю дорогу обратно он хвалил самый стандартный дом из виденных ими за этот день. Он стоил двадцать пять тысяч, но они могли выплатить эту сумму с рассрочкой на восемь лет. Энн слушала, обливаясь холодным потом, как человек, которого везут в Синг – Синг, в камеру смертников.
Она завязла по уши, говорила она себе. Дольше тянуть нельзя.
Можно было бежать в Европу, отправиться в счастливое изгнание с Барни. Деньги у него еще были, несмотря на депрессию, и он почти ежедневно уговаривал Энн бежать. Но они были уже слишком стары для того, чтобы какая-нибудь европейская страна могла стать для них родиной. «Нам следовало встретиться и придумать эту затею, когда мне было десять лет, а Барни двадцать четыре. Какая непредусмотрительность!» А теперь они стали бы вечными туристами, лишенными цели, как орлы в зоопарке. И Мэт нигде не смог бы пустить корни: он сделался бы космополитом, тенью среди бледных теней, вращаясь в обществе американских графинь и женщин, чья единственная цель в жизни – высосать как можно больше денег из бывших мужей, с которыми они развелись, чтобы получать алименты и вести беспечный образ жизни без обязанностей, без гордости и чести; в обществе псевдопоэтов, сочиняющих псевдосвободные стихи, сомнительных полковников, никогда не служивших в армии, врачей, никого не лечивших, маркизов, не значащихся в книге пэров, в обществе лакеев, берейторов, наемных партнеров для танцев; в обществе тихих алкоголиков и достаточно откровенных кокаинистов – в мире, который, находясь в Европе, ничего общего с Европой не имеет, в мире далеко не очаровательных бездельников, далеко не смелых гангстеров и увядших орхидей. Нет! Уж лучше обречь Мэта на тяжеловесные нравоучения Рассела, чем на эту жизнь за красными плюшевыми портьерами, истертыми и грязными.
Она могла бы смириться, махнуть на все рукой, выработать в себе равнодушие и остаться навсегда женой и любовницей Рассела. Но хорошо ли для Мэта, если его мать будет навсегда озлоблена принесенной жертвой?
Или же уйти с Мэтом, взглянуть в лицо одиночеству, сохранив Барни любовником, если он на это пойдет. Но не надоест ли ему вечная игра в прятки? Как ни странно, не слишком разборчивый в средствах политической борьбы, готовый оказывать не очень законные услуги близким знакомым, склонный к мимолетным связям, Барни в то же время не любил интриг и тайн. Он никогда не надевал личины. Он был либо другом, либо открытым врагом. А как отнесется к этой связи Мэт, когда он вырастет, когда услышит сплетни и смешки своих школьных товарищей?
«Другими словами, – решила Энн, – как бы я ни поступила, все будет плохо, так стоит ли волноваться заранее? И не наивно ли считать, что от меня зависит, как поступить? Ясно же, что я буду просто плыть по течению и ничего не произойдет – ничего никогда не произойдет».
В пятницу 3 апреля 1931 года совершенно неожиданно произошло очень многое, положив начало всему остальному.
ГЛАВА XLIV
В пятницу 3 апреля в три часа дня заключенная номер 3921, отбывшая свой срок в тюрьме за шантаж и торговлю наркотиками и, как доверчиво полагала Энн, излечившаяся от героина, была освобождена. Перед освобождением номер 3921 (известная под именем Салли Свенсон, Сары Коган, Сью Смит и под многими другими именами) пила чай в кабинете начальницы, со слезами благодарности приняла десять долларов и заявила, что доктор Виккерс – ее благодетельница, вдохновительница и, по сути дела, ее ангел-хранитель.
В полночь в ту же пятницу Салли была арестована за то, что в состоянии сильного опьянения нанесла оскорбление действием вышибале вполне респектабельного и законопослушного тайного бара, а затем, следуя в тюремном фургоне в участок, ударила полицейского камнем, непонятно как оказавшимся у нее за пазухой, и распевала «Мадмуазель из Армантьера» в нецензурном варианте.
Поскольку в это время в Нью-Йорке не было никаких сенсаций, судебный репортер решил, что номер 3921 может дать неплохой материал, и поговорил с ней. Салли, которая отчаянно перетрусила, была исполнена раскаяния. По ее словам, все произошло из-за того, что в исправительной тюрьме, откуда она только что вышла, ее не только не наставили на путь истинный с помощью строгой дисциплины, а, наоборот, обращались с ней с такой малодушной мягкостью, что она вконец испортилась. Увидев, что репортер чрезвычайно заинтересован, и растаяв от мужского внимания, которого ей до последнего времени так не хватало, Салли добавила, что, когда ее отправили в тюрьму за какой-то пустячный шантаж, она была невинной деревенской девушкой, не знавшей вкуса алкоголя или никотина, уж не говоря о наркотиках, а пить и курить она научилась в тюрьме от избалованных и распущенных арестанток.
Этому рассказу газета отвела в субботу утром подвал на второй странице, как нельзя более кстати снабдив материалом для проповеди двух находившихся в затруднительном положении, хотя и прославленных манхэттенских проповедников, которые, пока не прочли газету, не имели представления о том, какое слово они скажут на следующий день жаждущей поучений пастве. Но так как темы своих проповедей они уже объявили заранее, то в воскресенье утром оба пророка произнесли под двумя разными названиями – «Гангстеры и евангелие» и «Когда наступит судный день?» – почти одинаковые проповеди, смысл которых сводился к следующему: основная причина новой волны преступлений, как свидетельствуют показания мисс Салли Свенсон, заключается в том, что тюрьма сделалась вертепом праздности и роскоши и страх больше не удерживает преступников от гнусных злодеяний. Один из преподобных специалистов по вопросам милосердия ратовал за возобновление телесных наказаний, второй выдвигал в качестве нового средства долголетнее одиночное заключение с тем, чтобы преступник мог только читать библию и размышлять о содеянных грехах.
Энн рассмеялась, прочтя в понедельник утром эти обличения. Ну кто же всерьез согласится с этими доктринами, столь популярными в 1800 году?.
Днем она получила анонимную телеграмму: «Смотрите проповеди достопочтенных инголда сноу сегодняшних газетах наконец люди разглядели тебя волк овечьей шкуре».
Уже с утра у нее на столе лежало девятнадцать бранных писем, из них три анонимных. Она не успела дойти до тюрьмы, а ей уже звонили из разных газет.
Она насторожилась и приготовилась дать бой, но решила (и, конечно, напрасно), что наиболее разумным будет избегать репортеров и всякой гласности. Она устроила себе выходной день, провела его в Коннектикуте с Пат Брэмбл и вернулась домой только к ночи.
Взяв во вторник за завтраком в руки газеты, она пришла в бешенство, забыв про кукурузные хлопья со сливками. Газета «Знамя», отличавшаяся склонностью к сенсациям, посвятила целую страницу обвинению, которое бедняжка Салли бросила исправительной тюрьме, и озаглавила статью «Толкают ли тюрьмы-дворцы в бездну порока и преступления?». Нашлось еще несколько проповедников, которые устремились спасать отечество. Один из них заявил в интервью, что у него есть достоверные сведения о том, что глава «некоей женской исправительной тюрьмы» курит папиросы вместе с заключенными и боится применять к ним решительные меры воздействия. Женская организация городка Флэтбуш, которой в течение многих месяцев никак не удавалось попасть в газеты, несмотря на самые решительные резолюции против России, виски, атеизма и совместного купания мужчин и женщин, сделала новую попытку, вынеся решение, осуждающее Энн и требующее произвести обследование Стайвесантской исправительной тюрьмы специальной комиссией, назначенной губернатором. На сей раз они добились своего. Их резолюцию напечатали в рамке, окружив ее такими расплывчатыми фотографиями, что изображенные на них дамы вполне могли сойти и за шоферов санитарных машин, и за интимный кружок Сафо, и за разъездную труппу исполнительниц «Как это бывает во Франции». Но газеты утверждали, что это «высокопоставленные дамы Флэтбуша, протестующие против вырождения тюремной системы».
– Комиссия для расследования, назначенная губернатором! – бушевала Энн. Вот теперь она поняла, что должен был чувствовать Барни!
Но центральное место на странице занимало интервью, которое дала газете заместительница Энн, добродетельная миссис Кист.
В отсутствие доктора Виккерс, которой почему-то вдруг понадобилось покинуть город, миссис Кист, по словам репортера, признала, что, возможно, они действительно обходились с мисс Салли Свенсон слишком мягко. Они проводили эксперимент, стараясь исправлять заключенных лаской. Сама миссис Кист не согласна с этим методом, так как обладает, пожалуй, более обширным опытом, чем многие пенологи. Но ее начальница, доктор Виккерс, и другие члены администрации-такие прекрасные люди, что она охотно поступилась своим практическим опытом и помогала им проверять их теории.
Самому тупому читателю становилось ясно, что, будь миссис Кист начальницей, на что она имела все права, она немедленно положила бы конец этой чепухе, перестала бы баловать злодеек и сделала бы из них ангелов с помощью таких новейших средств, как темный карцер, плетка, хлеб и вода.
Энн вихрем влетела в тюрьму. Еще не сняв шляпы, она нажала на кнопку и не отпускала ее, пока не появилась мисс Фелдермаус.
– Пошлите ко мне Кист, живо!
Вошедшей помощнице с тонкогубым рыбьим ртом она бросила:
– Вы дали интервью репортеру «Знамени», Кист?
– Ах, какой ужас, правда? Конечно, я его не давала! Они прислали сюда репортера, а я ему заявила, что не желаю с ним разговаривать, и только сказала, что мы охотно экспериментируем с новыми методами, а он взял и состряпал всю эту историю!
– Я должна была ехать сегодня в Филадельфию и выступать там на завтраке в женском клубе. Я попрошу вас, Кист, поехать вместо меня и советую вам выехать сейчас же. Вернетесь вы сегодня все равно поздно, так что отчитаться можете завтра утром. Вот вам записка – фамилия председательницы и адрес клуба, а это билет. Идите сразу же и постарайтесь поспеть на десятичасовой поезд. Я им позвоню и предупрежу, что едете вы. Фелдермаус! Соедините меня с Филадельфией вот по этому номеру, живо! До завтра, Кист.
Отделавшись от миссис Кист, Энн позвонила в «Знамя» репортеру, который, как она знала, был дружен с Мальвиной. Он расспросил кого-то, тот расспросил еще кого-то, а тот расспросил еще одного, и через пятнадцать минут первый репортер звонил Энн с сообщением, что миссис Кист собственноручно написала интервью для «Знамени». Репортер же добавил только вступление и два абзаца описательного характера.
В этот день Энн провела в тюрьме четырнадцать часов, с девяти утра до одиннадцати вечера, и большую часть времени за письменным столом.
Когда в полночь миссис Фелдермаус, полуживая, притащилась домой, она сообщила родителям: «Ну и денек! Ой, потеха! Нет, послушайте! Давным-давно не видела нашу Главную в таком раже! Она все ходила точно в воду опущенная, но сегодня разошлась вовсю-так и швыряет одного за другим с двенадцатого этажа, а сама и хохочет и хохочет. Да, денек что надо! И шеф у нас что надо! Посмотреть бы на ее сынишку! Бьюсь об заклад, он уже и сейчас одной рукой уложит Джина Туннея вместе с Максом Шмеллингом!»
Весь этот день Энн твердила себе: «И я еще пытаюсь решать! Какая глупость! Все решилось само собой, как я и предвидела. Энн и Мэт вдвоем, одни. И работа! Никаких мужей… Но, может быть, Барни все-таки будет Иногда заезжать ко мне и не слишком меня возненавидит за то, что я снова превратилась в Энн Виккерс!»
Она достала досье, которое завела на миссис Кист, подклеила туда интервью в «Знамени» и отклики на него и позвонила губернатору, который всегда был дружески к ней расположен и охотно поддерживал любую teреформу.
– Я слышал, что вам задали сегодня небольшую Трепку, – сказал губернатор. – Отлично! Это дает вам шанс сделаться когда-нибудь губернатором.
– Упаси бог! Заключенные вынуждены слушать мои речи, но свободная публика может подняться и уйти. Я хочу познакомить вас с некоторыми сведениями о моей заместительнице и моем враге, миссис Кист, которая метит на мое место. Ее интервью, которое она написала сама (у меня есть доказательства), послужит главным материалом для нападок на меня. Эта миссис Кист – двоюродная сестра Мика Денвера, руководителя одного из демократических избирательных округов, и свояченица Уолтона Пайбека, республиканского руководителя на западе штата, – они объединенными усилиями устроили ее на это место еще до меня. Ее исключили из предпоследнего класса школы округа Ченэнго за провал на экзаменах, и больше она нигде не училась. Когда в этом ужасном женском исправительном доме Фэрли, на северо-западе, произошел знаменитый бунт, она как раз работала там. Ее обвиняли в том, что она брала взятки с поставщиков и подвешивала непокорных к перекладине так, чтобы их ноги еле касались пола, в результате чего одна женщина умерла. Но дело замяли, и миссис Кист не судили, а просто позволили ей уехать, и она вернулась к нам на восток. – Перечислив еще с десяток фактов, Энн продолжала. – Я держала ее у себя, наблюдая за каждым ее шагом, чтобы она не могла навредить, спасала таким путем свою овчарню от политиканов, а сама делала, что находила нужным. Теперь я собираюсь ее уволить. Если она заартачится, я выдвину против нее все эти обвинения. Я убеждена, что она не подозревает, сколько мне о ней известно. Я вам, собственно, звоню узнать, поддержите ли вы меня?
– Вы ручаетесь за все эти данные? Есть у вас доказательства?
– Да, есть документы, а также имена и адреса свидетелей.
– В таком случае я вас поддержу. Желаю успеха, доктор.
– Спасибо, губернатор.
«Я бы хотела называть его «ваше превосходительство», – размышляла Энн, – и так, чтобы это звучало, как надо. Но у меня ни за что не получится».
– Фелдермаус! Соедините меня с Гудсоновской компанией по продаже недвижимости в Йонкерсе, побыстрей!
Агенту, водившему их с Расселом по Уэстчестеру, она сказала:
– Говорит доктор Виккерс из Стайвесантской исправительной тюрьмы. Вы мне показывали несколько дач. Что? Да, если вы непременно хотите, то я также миссис Рассел Сполдинг. Помните старый домик на краю Скарсдейла-«Голова Пирата»? Нет, мне абсолютно не нужен большой дом. К черту… простите, я хотела сказать… впрочем, именно это я и хочу сказать: к черту кафельные ванны и газовые мусоросжигатели. Вы просили за «Голову Пирата» пять тысяч. Какова низшая цена, на которую согласен владелец? Что? Ерунда! (А тогда в воскресенье она была такой кроткой и вежливой, настоящей миссис Рассел Сполдинг!) Я могу заплатить три тысячи шестьсот, причем две тысячи пятьсот сразу, а остальные тысячу сто – в течение двух лет. Да, передайте это владельцам и посоветуйте решать поскорее, а то я могу раздумать. Что? Ерунда, кто покупает при теперешней депрессии! Пусть скажут спасибо, что вообще получили предложение.








