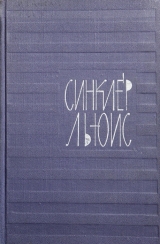
Текст книги "Энн Виккерс"
Автор книги: Синклер Льюис
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 35 страниц)
ГЛАВА XL
Теперь она твердо решила рожать. Мысль о том, чтобы еще раз убить Прайд, даже не приходила ей в голову. Может быть, потому, что на этот раз должно было выйти в свет солидное, надежное издание Прайд под редакцией Барни – не жиденький томик в дешевом переплете, который мог бы появиться при участии Лейфа Резника; может быть, потому, что теперь, сознавая собственное малодушие, она могла предъявить миру в качестве законного отца беднягу Рассела, тогда как в прошлый раз у нее не было мужа, чтобы заткнуть глотку сплетникам; может быть, потому, что она искренне, примерным образом раскаялась в содеянном убийстве и пришла к мудрому смирению; а может быть, потому, что для нее, сорокалетней женщины, это была последняя возможность иметь ребенка – кто знает! Она не знала и сама. Не исключено, что все четыре причины, осложненные десятком других побуждений, сыграли свою роль. Но Энн не пыталась разграничить их, не ломала над ними голову и не выдумывала для себя позу безупречной добродетели. Она просто ходила, распевая от радости: «У меня будет Прайд! У меня будет дочка! У меня будет дочка от Барни!»
Она выждала еще месяц, чтобы окончательно удостовериться, и только тогда сказала Барни.
Он воскликнул:
– Я страшно рад! Страшно рад! Но, может быть, ты недовольна?
– Что ты! Я так хотела от тебя ребенка.
– Не боишься?
– Ни капельки. Я сильная, как лошадь.
– В таком случае я просто не нахожу слов от восторга! Судьба готовила меня в патриархи. А тебя – в родоначальницы целого племени. Если бы мы с тобой встретились двадцать лет назад, у нас была бы дюжина ребят, отчаянных сорванцов, ферма в тысячу акров и библиотека в семь тысяч томов, и я был бы почти порядочным человеком, а не просто должностной фигурой. Энн! У нас будет малыш!
Этот разговор происходил в ее квартирке. Теперь они все чаще заказывали в ресторане внизу салат и отбивные и обедали вдвоем, не рискуя столкнуться с кем-нибудь из знакомых Моны, когда под взглядами, полными неприязненного любопытства, нужно сохранять равнодушие.
Барни оттолкнул ногой дурацкий ломберный столик, за которым они обедали. Закурил сигару. Энн наблюдала за ним. После приступа бурного энтузиазма он вдруг помрачнел и задумался.
– Энн, выслушай меня внимательно. Это не пустые слова, я говорю совершенно серьезно. Что мешает нам сейчас, когда должен родиться ребенок, смотаться отсюда всем втроем? Мы могли бы уехать куда угодно, на свете столько мест – Париж, Тироль, Алжир, Бали, Девоншир, Куба, – куда угодно! У меня достаточно средств, чтобы содержать две семьи. Дочери выросли. Я им больше не нужен. Так или иначе, они давно заражены лонг-айлендским снобизмом. Обвиняют меня в вульгарности, – разумеется, с полным основанием. Я попытаюсь получить у Моны развод, но даже если она мне его не даст – что за важность? Представь себе: вилла в горах над Ривьерой, завтрак на террасе-и никакого тебе тюремного коридора, никакой грызни со старухой Кист, и к чертям все эти залы суда, где я задыхаюсь, всех этих толстомордых политиканов, которые требуют поблажек! И мы не будем жить как неприкаянные изгнанники. Я когда-то всерьез увлекался филологией и с удовольствием бы к ней вернулся. Через полгода я снова смог бы взяться за Данте и Ариосто. [199]199
Ариосто, Людовико (1474–1533) – итальянский поэт, автор знаменитой поэмы «Неистовый Роланд».
[Закрыть]Да и для тебя, девочка, отыскалась бы пропасть интересных дел – ты же у меня невежественна, как кролик, понятия не имеешь ни о живописи, ни о музыке, ни о скульптуре, ни об архитектуре, а там бы ты во все это вгрызлась. И у нашего малыша были бы в жизни какие-нибудь интересы, кроме радио и баскетбола. Я говорю серьезно. Что нам мешает? Лично я в жизни не совершил ничего стоящего, как, впрочем, и ни один судья: все мы жалкие актеры, повторяющие реплики, которые сочинили для нас законодательные органы, – а они как драматурги ниже всякой критики. Ты, может быть, и успела сделать что-нибудь полезное. Воз-мож-но. Но не довольно ли? Неужели ты должна отдать себя без остатка всяким Китти Коньяк? Если бы ты согласилась, я собрался бы в две недели. Ну, как? Скажи «да».
– Барни, я не могу объяснить, что именно нам мешает-просто знаю, что это невозможно, и все тут. Главная причина, наверное, в том, что нам обоим необходима живая деятельность. Мы с тобой не сможем жить без работы, даже если польза от нее мало ощутима. Это только так кажется, что мы удовлетворимся чтением Ариосто, уроками музыки и раскопками на Крите. Ничего подобного! Все это скоро надоест, нас потянет домой, мы станем срывать злость друг на друге – и тогда я потеряю тебя. По-моему, я до сих пор тебе не надоела именно потому, что занята чем-то своим – я сама по себе кто-то, не просто «проклятая баба, которая вечно торчит на глазах». И моя работа мне нравится, да в сущности и ты любишь свое дело, просто ты сейчас нервничаешь из-за этого несчастного расследования. А Китти Коньяк для меня как роман, который я прочла на три четверти. Интересно же узнать, какой будет конец! И, кажется, мне удалось отучить от героина номер 3921 – Салли Свенсон, она же Коган… Ну, в общем, не могу. Давай договоримся встретиться через год – случайно – преднамеренно – и провести месяц в Италии. Но жить там и превращаться в собственную тень – нет, нет! Все равно хорошие тени из нас не получатся: при нашем-то румянце и корпуленции! Милый мой, мне так хотелось бы с тобой уехать! Но я не могу. И ты не сможешь. Ты, с твоей круглой физиономией и рыжей бородой и ужасающей репутацией Казановы, которую я обожаю!
Только в полночь, лежа без сна в постели (увы, в одиночестве) и представляя себе лимонного цвета виллу над серебристым песчаным пляжем, где они жили бы вдвоем, она сообразила, что, строя планы, они даже не вспомнили, что на свете существует человек по имени Рассел Сполдинг.
– Что бог разлучил с самого начала, того человек да не сочетает, будь он даже священник, – благочестиво вздохнула она.
И прошла еще неделя, прежде чем она, протестантка до мозга костей, осознала, как мучителен был для Барни, гордившегося знакомством с епископами и кардиналами, весь этот разговор о разводе, о вторичной женитьбе. Вряд ли она могла полностью оценить всю значительность его жертвы: ведь он бросал к ее догам священные покровы собственной души.
Она сообщила доктору Уормсер, что ждет ребенка.
Они сидели друг против друга перед камином, в той же самой квартире, точь-в-точь как тринадцать лет назад, когда Мальвина узнала про Лафайета Резника. Но нынешняя Энн Виккерс ничем не напоминала растерянную молодую женщину из народного дома, которую беременность застала врасплох. Теперь она светилась радостной, почти бесшабашной уверенностью, так что м альвине не понадобился ее участливо-ласковый тон.
– Как, опять? Боже мой, Энн, это превращается в привычку! Кто же отец на сей раз? Рассел или судья Долфин? Или, может быть, ты попала в дурную компанию?
– Я тебе ни слова не говорила про судью Долфина!
– Ни слова? Ну-ну! Зато я один раз видела, как ты на него смотришь. Деточка, ты смотрела на него не-прилично. Представляешь, если в церкви Джона Д. Рокфеллера вдруг запеть «Тристана и Изольду»?
– Ну, если уж на то пошло… К чему обманывать домашнего врача!
– Действительно не к чему. Впрочем, правду ему тоже говорить не обязательно. Ведь домашний врач, согласно общепринятому представлению, обладает такой врожденной тупостью, что верит, будто последствия пятидневной попойки-всего только «легкий приступ гастрита, доктор!» Значит, своего второго младенца ты собираешься рожать? Я бы…
– Рожать? И ты еще спрашиваешь! Я на седьмом небе от радости. Только прошу тебя запомнить раз навсегда: никакой это не «второй младенец». Это все та же Прайд, которой тогда не дали родиться. Теперь она дает нам возможность загладить свою вину.
– Вот как?! Интересное открытие! Не написать ли мне об этом сообщение в «Джорнэл оф америкен медикал ассошиейшн» или в «Крисчен сайенс монитор»? [200]200
«Крисчен сайенс монитор» – газета религиозной секты «христианская наука».
[Закрыть]Ну-ну, не обижайся! Ты похожа на маленькую девочку, которой попало ни за что ни про что, как раз когда она старалась хорошо себя вести! Вот-вот слезы закапают! Поверь, я рада не меньше тебя и держу пари, что Барни тоже. Как он к этому отнесся?
– Говорит, что у него нет слов.
– Посмел бы он сказать что-нибудь другое! Хорошо, хорошо, постараюсь обойтись без мужененавистничества. Твоего Барни я с удовольствием захороводила бы сама, хотя и в мое время – это было довольно давно – интересных мужчин находилось немало. Но я все болтаю, а у тебя явно есть какая-то нерешенная проблема. (Я ведь прихожусь твоей дочке почти бабушкой-ее по – прежнему зовут Прайд?)
– (Что за вопрос!) Да, проблема действительно есть. Должна ли я сказать Расселу, что ребенок не от него?
– Неужели он и так не догадается? Разве он может быть его отцом?
– Видишь ли, отдаленное подобие такой возможности существует. А при его неподражаемом самомнении ему и в голову не придет, что отец не он.
– В таком случае не нужно говорить.
– Почему не нужно?
– Почему? Господи боже мой! Скажи на милость, кто от этого выиграет? С твоей стороны это чистейшее проявление эгоизма, который ты принимаешь за высокое чувство чести. Что даст тебе такое признание? А ребенку? Так ли уж полезно Барни нажить смертельного врага? А Расселу узнать, что все это время он был добряком-рогоносцем? И, главное, так ли уж полезно будет Прайд в один прекрасный день услышать то, в чем ты собираешься исповедаться сейчас? Милая моя, «почему не нужно говорить» – это не тот вопрос. Вопрос стоит только так: «зачем говорить?»
– А затем, что Рассел все равно узнает и еще больше разозлится или расстроится. Я не умею лгать убедительно. Если бы я умела! И вообще обманывать его как-то нечестно: как будто выманиваешь конфетку у ребенка. Вот тебе или Барни я, пожалуй, могла бы солгать и не выдать себя. Но, может быть, ты и права. Я подумаю.
И, выйдя от доктора Уормсер, она из аптеки на углу позвонила Расселу. Было только десять часов.
– Да, да, приезжай, пожалуйста, приезжай! – обрадовался он.
Он встретил ее в холле и затараторил:
– Послушай, дорогая, у меня собрались кой-какие друзья: Таунсенд Бек, доктор Мартин, Джулия Кейси и парочка страшно важных владельцев отелей. Таунсенд – ты же его знаешь, считает себя непревзойденным остряком, черт бы его побрал! – пристал ко мне как смола: почему тебя нет, и где ты вообще живешь, и так далее. Я им сказал, что ты на днях вернешься, поскольку я теперь обосновался в Нью-Йорке. А тут так удачно! – ты как раз позвонила! Ты решила вернуться? Насовсем?
– Возможно. Там видно будет.
(«Рассел, конечно, будет для Прайд заботливым отцом. Он любит детей. Он с удовольствием станет катать малышей на себе, изображать медведя, играть в лошадки… Их не будет раздражать его инфантильная манера, его наивные нравоучения… Он будет читать им книжки. Даже менять пеленки. Он не будет являться домой пьяный. Не будет хмуриться, как Барни… Барни! Как мне тоскливо без него! А ведь мы только сегодня утром виделись…»)
Все эти мысли пронеслись у нее в голове, пока она вслед за Расселом шла в комнату, снимая на ходу накидку.
– Уважаемые да-а-а-мы и господа-а-а! Мне особенно приятно представить вам сегодня редкий и знаменитый экземпляр высшего млекопитающего – мою жену – и объявить, что доктор Энн Виккерс-Сполдинг…
(«Господи! Ведь по закону я, наверное, и правда миссис Сполдинг!»)
– …пришла к тому же выводу, что и ваш покорный слуга, председатель сегодняшнего собрания, относительно поставленного ими совместного эксперимента, а именно: метод раздельного проживания супругов, как бы ни был каждый из них загружен собственной работой, не дает абсо-вер-лютно никаких положительных результатов, а посему, принимая во внимание все вышесказанное, упомянутая доктор Сполдинг и ее благоверный порешили отныне снова объединить свои силы!
Бурные аплодисменты гостей, живописно расположившихся в креслах, на диванах, у рояля.
Рассел был преисполнен бодрой самоуверенности. Успехи на коммерческом поприще окончательно убедили его в том, что в обществе он неотразим, и теперь, с еще большим апломбом, чем раньше, когда ему приходилось решать вопрос о бесплатной выдаче дров и талончиков в муниципальный ночлежный дом, он разглагольствовал о тайнах управления дешевыми гостиницами: о иене хлопчатобумажной материи для постельного белья (за десять тысяч ярдов), об огромной роли желатина в приготовлении сладких блюд, о том, как оградить вестибюли гостиниц от вечно околачивающихся там бродяг (то же применительно к туалетам), об использовании щитовой рекламы: а) вблизи вокзалов; б) на шоссе, популярных среди туристов средней категории. Он демонстрировал образованность, достойную археолога или остеопата, и когда гости стали расходиться, один из «страшно важных владельцев отеля» отвел Энн в сторону и сообщил ей:
– Рассел вносит в наше дело массу свежих идей, можете мне поверить. Даже при том, что вы сами занимаете такой важный пост, вам должно быть чертовски приятно, что у вашего супруга такое богатое творческое воображение!
Он продолжал источать самоуверенность, даже когда они остались одни, не подозревая, что попал в засаду и обезоружен…
– Присядем, детка, на тахту, поговорим начистоту. Вот так-так! Я заговорил стихами! Ну, шутки в сторону, слушай внимательно. Я многое успел передумать. Я понял, в чем моя ошибка. Я почему-то не использовал в частной жизни те административные принципы, которые – да будет мне позволено со всей скромностью заявить – я небезуспешно применял и на поприще благотворительности и в новой сфере моей деятельности. Я предпочитал тебя уговаривать-даже в тех случаях, когда был абсолютно уверен в своей правоте, вместо того чтобы твердо настоять на своем. Разумеется, женщина с характером может только презирать мужчину, который слишком уж уступчив. Коммерческая деятельность меня очень многому научила: взамен голого теоретизирования я столкнулся с реальностью. (А ты еще накинулась на меня, когда я решил переменить профессию! Да это самый умный поступок в моей жизни!) Ну так вот… Подведем черту под всеми этими дипломатическими переговорами, отбросим всевозможные «если», «однако» и «между тем» и примем единственно возможное деловое решение, а именно: жить вместе, как и полагается нормальной супружеской паре, и точка! А если ты не можешь совмещать работу и домашнее хозяйство, – пошли подальше свою проклятую работу! Теперь я могу себе это позволить, невзирая на депрессию. Ты станешь другим человеком. Будешь сидеть дома, наслаждаться покоем, и все предстанет перед тобой в правильном свете. Ну вот! По рукам, и не будем больше к этому возвращаться – договорились?
– Боюсь, Рассел, нам надо и еще кое-что обсудить.
Она кинула шляпу на кушетку, пересела в глубокое кресло, закурила папиросу. Уж если терпеть пытку, так по крайней мере с удобствами! Он смотрел на нее, расплываясь в улыбке, – еще немного, и его своенравная маленькая возлюбленная, которая втайне все-таки обожает его, окончательно признает себя побежденной.
– Рассел, есть причины, по которым, может быть, мне следовало бы вернуться к тебе и делить с тобой стол и постель…
– Фи! Что за обороты! Будь романтичнее, Энн.
– …но наш уговор должен базироваться на той самой реальности, о которой ты говоришь. Рассел, у меня будет ребенок.
– Что?! – По-видимому, он вспомнил ту ночь, которую случайно провел у нее немногим более двух месяцев назад, и просиял. – Но это же великолепно! Любовь моя, я вне себя от радости! Я же всегда хотел ребенка, больше всего на свете!
В два прыжка он очутился рядом, распростерся у ее ног и покрыл ее руки страстными и мокрыми поцелуями.
– Ребенок! Играть с ним, смотреть, как он растет, учить его… Может быть, наш ребенок сумеет избежать ошибок, которые совершали его родители! Моя работа наконец приобретет какой-то смысл! Я пошлю его учиться в Прннстон! Будет, конечно, мальчик! А мне-то и в голову не приходило, что ты согласишься иметь детей!
– Рассел! Все не так просто. Может быть, я это тебе зря говорю, но ребенок не твой.
– То есть как? А чей же?
– Ну, прежде всего мой.
– Кто этот человек?.. Постой, сколько месяцев?
– Два с небольшим.
– В таком случае… Погоди-ка. В таком случае это может быть мой ребенок!
– Да, это возможно. Но маловероятно. Слушай меня внимательно, Рассел. Я не намерена подвергаться допросу или запугиванию и не намерена изображать публику на представлении трагедии из твоей жизни. Ребенок мой и только мой. Я не имею ни малейшего права что бы то ни было от тебя требовать. Ты можешь выгнать меня на мороз, – правда, это будет немного смешно: на дворе июнь, у меня есть деньги на такси и собственная, вполне приличная квартира. Я неисправима! Ребенок у меня будет, и я этому очень рада. И будет, кстати, не мальчик, а девочка. Но у нее должна быть семья. Из тебя, как мне кажется, выйдет хороший отец. А девочке отец особенно необходим. Хотя она прежде всего моя и только моя. Я не предъявляю к тебе никаких претензий, у тебя нет по отношению ко мне ни малейших обязательств. Но ты утверждаешь, что хочешь, чтобы я вернулась, и хочешь ребенка. Решай: принимаешь ты меня вместе с этим ребенком, с моим ребенком (и это, пожалуй, все, что тебе предстоит узнать о его происхождении), или нет?
– Боже правый, да не говори ты хоть сейчас как чопорная старая дева, которая отчитывает мальчика-посыльного!
– Пожалуй, я действительно выразилась несколько высокопарно… Что делать, нелегко говорить об этом небрежным тоном. Не каждый день случается такое положение!
Оба рассмеялись. Атмосфера разрядилась. Но он сразу же снова принял серьезный вид.
– Энни, не стану притворяться, будто меня все это не огорчило. Я так надеялся, что ты захочешь ребенка от меня – когда-нибудь, со временем. И ведь вначале ты меня любила. А потом – не знаю, что я такое сделал; дорогая моя, я до конца не мог ничего понять: ты вдруг ко мне так охладела, я так надоедал тебе, так раздражал! Дорогая, как я страдал! Во-первых, из-за тебя. Во-вторых, из-за того, что я всегда до умопомрачения хотел маленького… Я вырезал из женских журналов фотографии малышей и прятал их в столе…
Всегда представлял себе, как я под вечер прихожу домой, а мне навстречу по бетонной дорожке топает такой трогательный карапузик, и я беру его на руки и поднимаю высоко-высоко, а он визжит от восторга и лепечет: «Па-па…»
Он обливался потом, обнажая перед ней свою наболевшую душу.
И она вернулась к нему, чтобы у Прайд был отец, после того как две недели почти целиком провела с Барни – угрюмым и необычно молчаливым.
ГЛАВА XLI
Переносить беременность в сорок лет Энн было нелегко. И все же гораздо легче, чем считали ее заботливые друзья. Они с таким удовольствием, с таким самоотверженным упоением давали ей советы, ахали и охали, без конца выясняли, что именно она намерена делать, и упрашивали ее не делать этого!
Рассел настаивал, чтобы она ложилась спать ровно в девять часов. В результате она неизменно просыпалась в четыре часа утра и до восьми ворочалась в постели, а кроме того, всегда была рядом, представляя собой удобный объект для его любовных поползновений. Пэт Брэмбл-Помрой звала Энн пожить в Нью-Рошелле; таким образом она сменила бы один вид усталости – от городского шума – на другой, от ежедневных поездок по железной дороге в Нью-Йорк и обратно. Джулия Кейси (из ИНОБЛа) рекомендовала вегетарианский стол и солнечные ванны. А миссис Кист, заместительница Энн, произнесла целую проникновенную речь:
– Ах, боже мой, мы все так рады, что у нас родится маленький! Весь персонал Стайвесантской исправительной тюрьмы считает, что это будет наш общий ребеночек! Но если позволите – один дружеский совет: почему бы вам не взять отпуск месяца на четыре и не посвятить себя целиком этому священному долгу?
И Энн, отвечая любезным тоном:-Большое спасибо, миссис Кист, но как я могу взвалить на вас лишние обязанности? – про себя бушевала: «Вот-вот, уйти в отпуск, чтобы ты тем временем успела выполнить свойсвященный долг – подкопаться под меня и выжить меня с этого места!»
Не приходили в ажиотаж только два человека: доктор Уормсер и Барни Долфин.
Энн уговорила Мальвину быть ее акушеркой.
– Все эти толстокожие акушеры, – повторяла она, вспоминая свои наблюдения в народном доме, – утверждают, что беременность – «естественный процесс», и делают из этого удивительный вывод, что от утренней тошноты не тошнит, а схватки не причиняют боли. Сейчас я не нуждаюсь в сочувственном сюсюканье. Мне не надо, чтобы со мной нянчились. Я хочу, чтобы со мной обращались так, как я заслуживаю по должности. Но когда придет время, я хочу получить полную дозу сочувствия: тогда другое дело!
Барни не тратил лишних слов, не выводил ее из себя, спрашивая по пятнадцать раз на дню: «А как ты теперь себя чувствуешь?» Он просто обнимал ее и прижимал к своему широкому плечу, где и было ее законное место.
Прожив с Расселом около двух недель, она поняла, что поступила как последняя идиотка, и не исключено, что собственная глупость ее доконает. Она сама соорудила себе ловушку, и, повторяя, что поступает так из деловых соображений, во имя будущего благополучия Прайд, бросилась в нее очертя голову и услышала, как защелкнулась дверца. Теперь она точно так же была лишена свободы, как любая из ее арестанток, – даже в большей степени: в тюрьме по крайней мере они хоть в своих камерах были свободны от назойливых глаз.
К концу этих двух недель Рассел представлялся ей подушкой, прижатой к лицу, диетой, состоящей из одних кремовых пирожных, клубничного мороженого и содовой воды, неиссякаемым источником историй на сон грядущий, пастушьим рожком, который без устали выводит «Дикую розу Ирландии», горячей ванной, надушенной нарциссом, в которую ее положили, связав шелковыми веревками…
Все это время он был так дьявольски предупредителен, так хотел, чтобы она признала, как дьявольски он предупредителен, вел себя так дьявольски кротко и всепрощающе – проклятье, ну просто не обойтись без «дьяволов»!
Он обращался с ней, как с ребенком, которого уличили в воровстве или каком-нибудь гадком поступке и которого любящие родители хотят лаской вернуть на путь истины.
Рассел блаженствовал. В первый год Великой Депрессии, [201]201
Великая Депрессия. – Так американские историки называют первую половину 30-х годов, когда экономика страны, потрясенная кризисом 1929 года, продолжала переживать состояние застоя.
[Закрыть]когда десятки тысяч служащих оказывались выброшенными на улицу, когда всем урезывали жалованье, годовой оклад Рассела увеличился с двенадцати до пятнадцати тысяч. В нем открылся неведомый прежде талант по части мясного бульона, общих душевых, способов борьбы с кражей гостиничных полотенец, экономии электричества с помощью использования лампочек в минимальное количество свечей – и прочих ярких метафор и эпитетов, без которых немыслимо искусство управления дешевыми отелями. А в этом году люди, которые раньше платили за комнату три доллара в сутки, искали номер за доллар, и разве плохо, что выгоду из этого извлекал именно Рассел Сполдинг, не просто делец-коммерсант, а инженер-промышленник во всеоружии передовых идеалов!
Он успешно продвигался к цели: пятнадцать тысяч годовых – уже немаловажный этап; теперь его больше не подавляли ни громкие звания жены, ни ее ораторская популярность. Дня не проходило, чтобы его самого не приглашали выступить – во всяческих клубах, на съездах работников обувной и кожевенной промышленности, на ежегодном банкете Ассоциации поставщиков провизии и рестораторов. А когда он станет миллионером, он облагодетельствует стипендией какой-нибудь колледж и уж не удовольствуется каким-то куцым ярлычком доктора права – он получит и степень доктора филологических наук, и доктора церковного права, а возможно, и доктора богословия.
Теперь он с полным основанием мог посмеиваться над претензиями своей «маленькой женушки», игнорировать ее несносное тщеславие и окружать ее заботой и вниманием-и каким беспощадным вниманием! Он не только укладывал ее в постель ровно в девять, но входил в спальню в половине десятого, отбирал у Энн детективный роман, который она читала на ночь, гасил свет и плотнее укрывал ее ватным одеялом, хотя она и без того была плотно укрыта. Утром он приносил ей чай, а если она еще спала, будил ее, чтобы посмотреть, как она радуется такой нежной заботливости.
И хотя он не знал, какой мерзавец ее погубил – знакомые говорили что-то насчет судьи Бернарда Доу Долфина, но этого, конечно, быть не могло, потому что сам он ни разу его не видел, да и Энн никогда не получала от него писем, не говорила с ним по телефону, – итак, не установив еще его личность, великодушный Рассел все же принял все меры, чтобы избавить бедняжку Энн от приставаний этого гнусного типа.
Она обнаружила, что ее письма аккуратно распечатываются над паром. Милый Рассел, он так и не научился снова заклеивать конверты как полагается! Она знала, что при любом телефонном разговоре дверь ее спальни тихонько приотворяется – деликатно, чуть – чуть, чтобы удобнее было подслушивать.
Со вздохом она подумала, что без преувеличения может сравнить себя с заключенными: ни одна арестантка у нее в тюрьме или даже в Копперхед-Гэпе не находилась под таким неусыпным надзором, как Энн Виккерс в своем добровольном заточении. Но она сносила все без единого резкого слова, хотя дыхание у нее прерывалось от еле сдерживаемой ярости, потому что знала: стоит ей сказать одно резкое слово – и за ним последует тысяча, и в тот же день она уйдет от Рассела, и Прайд останется без отца.
– И вообще, – укоряла она себя, – Рассел проявил уйму доброты и великодушия, и надо уж выдержать роль до конца.
Но, конечно, она не выдерживала роли – и каждый день видела и с отчаянием целовала того самого маловероятного судью Долфина, который не писал ей писем и не звонил ей домой.
Для обследования судов штата губернатор назначил комиссию из членов законодательной палаты, в состав которой вошли также несколько судей в отставке и два – три декана юридических факультетов. Это было то самое расследование, которого опасался Барни, но, судя по всему, он интересовал комиссию не больше любого другого судьи. Комиссия работала спокойно, опрашивая всех судей, всех судейских чиновников. Прессе, поначалу оживившейся в надежде на какой-нибудь заманчивый скандал, все это вскоре надоело.
Барни облегченно вздохнул.
– Кажется, обойдется. Они действуют не слишком – то умно. Буль я сам в этой комиссии, я бы вывел кой – кого на чистую воду, – ворчливо заметил он.
Какой-то приятель уступил ему на время квартиру, куда он и Энн приезжали позавтракать, а если днем не удавалось выкроить время, то ближе к вечеру – выпить чаю. Они готовили себе сами или просто обходились пшеничными хлопьями со сливками. Квартира помещалась в огромном жилом доме, на набережной Ист-Ривер, и трудно было предположить, чтобы Энн могли здесь выследить; но на всякий случай она нанимала такси (безумная расточительность!) и выходила на углу кварталах в двух-трех от дома. Ей все время казалось, что за нею следят. Следит Рассел, следит миссис Кист, которая только и ждет, чтобы занять ее место, следят враги Барни… Конечно, было бы неплохо, если бы Рассел или миссис Кист поймали ее с поличным, и все кончилось бы раз навсегда; но она не могла допустить, чтобы по ее вине пострадала репутация Барии, – скорее она готова была отказаться от него… почти готова.
Их разговоры за завтраком вертелись вокруг все тех же постоянных забот.
– Энн, моя ненависть к нашему милому Расселу катастрофически растет и начинает приобретать кровожадный оттенок.
– Нет, я не могу сказать, что я его ненавижу. Я просто… Он просто вызывает у меня физическое чувство тошноты. Я в тюрьме.
– Не больше, чем я, деточка, – я попал в плен к тебе… А ведь я всю жизнь действовал по правилу: «Полюбил – позабыл»! Ведь я когда-то кичился своей искушенностью, своей твердостью! И вот теперь – подумать только! – я, судья Бернард Доу Долфин, Барни, влюбился, точно какой-нибудь юный Ромео, – прихожу сюда, сижу на полу, и ты кладешь мне голову колени, а я стараюсь при этом сохранить осмысленный вид… Нет! Дольше так продолжаться не может. Надо бежать. Пускай Прайд заранее привыкает к тому, что ее родители не связаны узами законного брака – в ее нежном возрасте это проще. Уедем!
И они чуть не уехали. Все шло к этому. Но началось расследование, и Барни не мог – или считал, что не может, – «подать в отставку под обстрелом», а тем более бежать, как дезертир. И хотя причина была банальная, хотя дело было в одной только традиции, им обоим она казалась существенной и не подлежащей сомнению.
Но они продолжали встречаться каждый день – романтические влюбленные, уже не первой молодости; и грызли пшеничные хлопья, сидя в чужой комнате с псевдобревенчатым потолком и окнами с жалюзи, которые выходили в кирпичный вентиляционный колодец диаметром в три фута, – вместо того, чтобы потягивать лакрима-кристи в лоджии, залитой лунным светом.
Казалось, что они кружат в омуте и уже не может быть никаких перемен: все так же, без конца, Энн будет ожидать рождения ребенка; все так же у нее в ушах будет непрерывно отдаваться болтовня Рассела, а миссис Кист, хлюпая длинным уксусным носом, будет все так же следить за ней в надежде, что ей придется подать в отставку; и дома у Барни Мона будет встречать его вульгарные выходки все тем же холодным презрением.
И вдруг он взорвался.
Когда она пришла в эту мрачную чужую квартиру – их единственный дом, – он встретил ее словами:
– Все! Решено и подписано. Вчера я заявил Моне – без всякого повода с ее стороны, напротив, она была необычайно мила и даже выдала мне виски с содовой – так вот, я ей заявил: «По-моему, тебе все это доставляет мало удовольствия. Не хочешь ли со мной развестись? Основания я представлю. А о моей репутации не беспокойся. Ее и так впору отправить на свалку».
– Ну и как же…
– Хорошего мало. Она заявила: «Развода я тебе никогда не дам, хотя очень и очень хотела бы избавиться и от тебя и от твоих вульгарных приятелей. потому что я чту святость семьи, и чту нашу религию, и по-прежнему надеюсь, как надеялась все эти годы, преданно и бескорыстно, что в один прекрасный день ты одумаешься, бросишь своих любовниц и оценишь наконец всю чистоту моего чувства». О боже! Представляешь себе говорящую хрустальную люстру? Вот так.
– И много у тебя приятельниц?
– С тех пор как я встретил тебя? Ни одной. Ни единой. Ты мне веришь?
– Да.
– Вот и прекрасно. Тем более, что на сей раз это чистая правда. Но на твоем месте я поостерегся бы делать из этого прецедент. Милая моя…
– Барни, ты же знаешь: если мы когда-нибудь будем вместе – все втроем, – мне совершенно безразлично, поженимся мы официально или нет. Пусть у Моны остается брачное свидетельство, – лишь бы у меня был ты! Я с тобой раньше об этом не говорила, но я знаю, что ты убежденный католик, и знаю, чего тебе стоило это решение – расторгнуть брак и жениться вторично.








