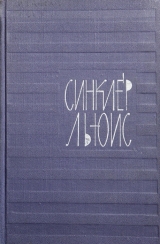
Текст книги "Энн Виккерс"
Автор книги: Синклер Льюис
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 35 страниц)
ГЛАВА XX
В продолжение двух лет Энн Виккерс заведовала народным домом в Рочестере. Со стороны могло показаться, что она преуспевает. Ее приглашали выступать в женских клубах, на церковных собраниях, в школах для девочек, с докладами на такие различные и вопиюще бессмысленные темы, как «Пути американизации» и «Значение европейских народных песен для обучения иммигрантов». Дело в том, что в Рочестере жила богатая старуха, патронесса народного дома, которая была столь либеральна, что разрешала венгерским цыганам исполнять цыганские танцы с условием, чтобы они при этом учились обращаться с кассами «Националь» и фордами.
В двадцать девять лет Энн получила от рочестерского университета почетный диплом магистра искусств. А в ежегодном списке «Тайме Реджистер» «Десять самых полезных женщин в Рочестере» она значилась шестой. В ее доме сто шестьдесят семь европейцев настолько изучили английский язык, что могли уже читать про убийства и адюльтеры в бульварных газетах; двести семьдесят девушек научились шить и готовить, чтобы впоследствии шить для себя платья, обходившиеся им лишь на шестьдесят один процент дороже таких же готовых платьев, купленных в универмаге, и за пятнадцать центов приготовлять питательный овощной суп на четверых, который в готовом виде в бакалейной лавке стоил бы по меньшей мере десять центов.
И, несмотря на все это, не было дня за эти два года, как и в последний год ее пребывания в Корлиз-Хук, чтобы Энн не усомнилась в полезности народных домов. Круг их деятельности был слишком узок. Они охватывали лишь ничтожный район, не затрагивая соседних районов, в большинстве не имевших собственного народного дома и лишенных возможности предоставлять беднякам развлечения, образование, вспомоществование в случае экстренной необходимости и советы. Энн пришла к выводу, что эта система приносит не больше пользы, чем ее прародительница, старая добрая система, согревавшая душу и вызывавшая слезы умиления и заключавшаяся в том, что старшая дочь приходского священника (оставшаяся незамужней) забавлялась тем, что разносила уголь, одеяла и желе тем больным прихожанам, которые больше других лебезили перед священником и помещиком.
Точно так же в современном варианте, в народном доме, бойкий на язык, пройдошливый еврейский мальчишка с большими черными глазами, разносивший подарки рабочим и громче всех выкрикивавший приветствие флагу на слетах бойскаутов, получал дополнительные гольфы и добавочную порцию мороженого, а позднее и стипендию в зубоврачебной школе, в то время как угрюмый уличный мальчишка, который умел только отлично резать по дереву и отмалчиваться, не получал ровно ничего.
Народный дом (так по крайней мере считала Энн) был площадкой для игр, гораздо менее благоустроенной, чем официальные городские площадки. От него несло кислым запахом благотворительности. В нем учили людей, но учили плохо. Профессиональные учителя городских школ были лучше и гораздо терпеливее добровольных энтузиастов (очень напоминавших учителей воскресных школ в детстве Энн). Исполненные добрых намерений и невежества, эти энтузиасты в течение года или около того сообщали беднякам – евреям, итальянцам и грекам – кое-какие сведения о Джордже Вашингтоне, двойной бухгалтерии и об употреблении зубной щетки. В вечерних школах дело было поставлено лучше. А честолюбивые юнцы – единственные, ради кого стоило стараться, – занимались самостоятельно и узнавали еще больше.
Заслуги народных домов, как считала Энн, исчерпывались тем, что они породили такие профессионально-деловые организации, как «Общество сестер помощи на дому» Лилиан Уолд и современную организованную благотворительность.
Но, конечно, в организованной благотворительности была масса своих недостатков, вздыхала Энн. Слишком много бюрократизма. Сплошь и рядом составлению списков нуждающихся семей придавалось больше значения, чем необходимости облегчить их нужду. Работники филантропических организаций делались черствыми от постоянного соприкосновения с людскими бедами. Но то же самое происходило с хирургами, однако никто не предлагал передать хирургию в руки сердобольных бабушек и старых дев. Организованная благотворительность была по крайней мере деловитой. Она оказывала помощь, основываясь не на приятных улыбках и заискивании своих подопечных, а на степени их нужды. Она не ограничивалась одним районом – в ее намерения, во всяком случае, входило охватить всю страну. И заботило ее не желание данного подопечного стать более хорошим поэтом, или поваром, или бутлегером, или научиться «свободному танцу» (такие деликатные святые устремления следовало бы оградить от грубых прикосновений снисходительных покровителей), а его потребность в пище, обуви и деньгах для квартирной платы.
Что касается самой Энн, то ей так же осточертело жить в народных домах, как, вероятно, Жанне д'Арк надоело бы жить в каком-нибудь тонном женском монастыре. Энн опротивели эти культурно-развлекательные пункты, возносившие свои кирпичные готические башни над забегаловками, мелкими прачечными и кошерными мясными лавками, и свое знамя чопорности и жеманства – над толпой, которая и в горе и в радости жила полной жизнью, занимаясь ли изготовлением колбасы, шутками или любовью.
В свое время в качестве сотрудницы народного дома было очень скучно выполнять правила (или ловко обходить их): притворяться, будто за обедом получаешь удовольствие от жесткой баранины; скрывать, что куришь, когда комната полна синего дыма; из года в год с энтузиазмом относиться к запланированной, но задержавшейся карьере Айки, который давно должен был оставить торговлю жареной рыбой и получить степень доктора натуротерапии.
Но быть заведующей оказалось еще хуже. Что за радость нарушать свои же правила или выговаривать сотруднику за курение, если куришь сама? А главное, теперь уже нельзя было избежать встреч с патронами – богатыми дамами, бодрыми священниками, маклерами-эстетами, философствующими банкирами-анархистами. Все они финансировали народный дом и тем самым, уплатив меньше, чем когда-то платили за здорового чернокожего раба, покупали душу и тело заведующей домом.
С тем же тихим ужасом, с каким мальчик вспоминает лагерь, где в течение одного кошмарного лета его заставляли одновременно заниматься спортом, музыкой, быть веселым и переполненным гражданской праведности под всевидящим оком худосочного, но всесильного учителя в трусиках и очках, так Энн вспоминала годы, когда ей приходилось сидеть на публичных обедах, уставившись в хлопчатобумажную скатерть и тяжелые грубые тарелки, и слушать, как немолодые девицы хихикают над историей, рассказывая которую местный остряк осмелился употребить слово «чертовски».
«Уж эти мне дома! – стонала Энн. – Учить девушек писать короткие рассказы, вместо того, чтобы обучать их ремонту аэропланов! Учить гончарному делу литовцев, из которых вышли бы превосходные фермеры! Учить внуков великих талмудистов манерам клубных джентльменов из провинции! Учить плести корзины, видя в этом наилучший путь к созданию на земле Царствия Божьего! Стараться из порядочных шоферов делать массажистов!»
Энн сознавала, что устала и потому несправедлива. Ведь она могла вспомнить и недюжинных людей и плодотворную деятельность: борьбу против брюшного тифа и мух, кампанию за организацию бесплатных спортивных площадок и фондов помощи беднякам. И все же коренной недостаток народных домов, – решила Энн и вдруг распространила этот недостаток на всю филантропию в целом, как церковную, так и частную, – заключался именно в том, за что как раз больше всего и хвалили благотворительную деятельность в оптимистических проповедях, восторженных журнальных статьях и в туманных разглагольствованиях доброжелательные благодетели: что благотворительность «сближает имущих и обездоленных, благодаря чему богатые могут расширить и углубить свои симпатии к беднякам в результате непосредственного общения с ними и постичь, какое благородное сердце часто бьется под синим комбинезоном, а обездоленные получают возможность совершенствоваться благодаря дружескому общению с теми, кто способен помочь им словом и делом».
«Еще бы! – с озлоблением думала Энн под влиянием этого бунтарского настроения. – Разумеется! Превозносите до небес жалкие душонки благотворителей! Дайте им потешить свое самолюбие! Пусть их любуются собой, считая себя выше обездоленных! Поощряйте их осуществлять свою благородную деятельность умеренно и практично!
В Советской России не внушают каменщику, что лучше бы ему торговать, или быть страховым агентом, или сочинителем реклам, или же работником народного дома! Каменщика там учат, как лучше класть кирпичи. И русские получают работу, пищу и образование не как милостыню – все это принадлежит им по праву!»
На конференции деятелей социального обеспечения в Нью-Йорке Энн познакомилась с Арденс Бенескотен.
Нью-йоркские сплетники передавали, что мисс Бенескотен унаследовала пятьдесят миллионов долларов. Она действительно унаследовала семнадцать миллионов от своего отца-горняка (то есть это вовсе не означало, что он ходил грязный и рисковал жизнью под землей. Откровенно говоря, ему редко случалось видеть рудники. Он сидел в своей нью-йоркской конторе и придумывал, как избавиться от старателей с обветренными лицами, открывших руду и обратившихся за финансовой помощью к одному из любезных, хорошо одетых агентов мистера Бенескотена). Несмотря на свои пятьдесят лет, мисс Бенескотен была незамужней, что, по-видимому, нисколько ее не огорчало. Она жила с подругой, учительницей пения, некогда знаменитым колоратурным сопрано. Мисс Бенескотен славилась своей благотворительностью. Она раздавала скромные денежные суммы и щедрые советы миссиям пятидесятников в Испании и католическим миссиям в Небраске, богадельням для вдов офицеров-южан и негритянским студентам-выпускникам, школе исцеления верой и психиатрическому институту, пансиону для собак и крохотному музею, куда за месяц заходило два человека поглазеть на монеты с Крита и Лесбоса. Не реже двух раз в неделю в газетах упоминалось ее имя как одного из членов комитета, ратующего за поощрение мексиканского искусства или повышение брачного возраста. И не реже чем раз в месяц на их страницах появлялась ее фотография: мисс Бенескотен закладывает краеугольный камень или (когда, с большой неохотой оторвавшись от своей смиренной филантропической деятельности, она занимала на краткий миг свое законное место в высшем обществе) мисс Бенескотен на лужайке в своем баварском Schloss'е [109]109
Замок (нем.).
[Закрыть]в Ньюпорте, окруженная племянниками и племянницами, среди них Торнтон Бенескотен, известный игрок в поло, Нэнси Бенескотен, недавно разведенная, и Хью Гарисон Бенескотен, судья.
На заседании одного из комитетов, где ей представили Энн, мисс Бенескотен отрывисто буркнула:
– Я вчера слышала ваше выступление о зубоврачебных клиниках. У вас есть здравый смысл, дорогая. Прошу вас сегодня ко мне перекусить.
Ее столовая была так же тускло освещена и почти так же велика, как депо. Им подавали блюда, даже о названиях которых Энн не имела ни малейшего представления, хотя впоследствии узнала, что это были яйца ржанки, заливное из фазана, винегрет из спаржи и bar-Ie-duc. [110]110
Сорт французского варенья (франц.).
[Закрыть]
– Мисс Виккерс, я наблюдала за вами на конференции. Я даже навела о вас справки в Корлиз-Хук, в Рочестере и Клейтберне… да, и еще в тюрьме – где вы там сидели… Забавно! Я сама довольно широко занимаюсь благотворительностью. На мой взгляд, она не в пример целесообразнее большинства официальных организаций (Стоун, подлейте шампанского мисс Виккерс.) Меня не связывают никакие идиотские правила. Помогаешь, если случай кажется достаточно забавным. Ведь такая благотворительность менее неприятна – это для вас что-то новенькое, верно?
И вот Энн бросила свою работу в народном доме и стала заведовать при дворе этой современной владетельной герцогини раздачей милостыни.
Энн был отведен небольшой щегольской кабинет, отделанный в черных и серебристых тонах, на третьем этаже дворца Бенескотен на Риверсайд-Драйв с диктофоном, стенографисткой и четырьмя телефонами – один был общий, второй – городской, для частного пользования, третий соединялся с коммутатором, который обслуживал один из слуг, и четвертый – с апартаментами мисс Бенескотен.
Главная обязанность Энн заключалась в том, чтобы отвечать на письма и телеграммы, в которых содержались просьбы, и отделываться от посетителей. После того как в первое утро Энн прочла всю полученную почту, одновременно отвечая на телефонные звонки таинственных личностей, которым было необходимо видеть мисс Бенескотен лично-«это не займет и одной минуты, дело такое, что его нельзя объяснить по телефону», – Энн почувствовала некоторое сострадание к мисс Бенескотен и была немало обеспокоена количеством сограждан, хотевших поживиться за чужой счет. Среди двухсот писем в этот первый день было, в частности, болтливое послание вдовы плотника из маленького городка, которая сообщала, что у нее хватает средств на жизнь, но спрашивала, не заберет ли к себе мисс Бенескотен ее дочь (не забыв прислать деньги на билет в пульмановский вагон) и не введет ли ее в общество. «В благодарность она, конечным делом, охотно вам поможет по дому, чем может. Готовить она у меня не обучена, но чем другим поможет охотно, только на уборку и мытье полов не согласна, работы эти слишком тяжелые для такой девушки, когда она французский язык читает, как я нашенский». В другом письме молодая женщина просила рояль, так как из нее «давно вышел бы музыкальный ундервуд, если была бы такая возможность». Имелось семь просьб уплатить по закладным. Шестнадцать просьб ссудить деньги с обещаниями вернуть ссуду не позднее чем через месяц; просьбы исходили от лиц безупречной репутации, готовых, если бы мисс Бенескотен стала очень настаивать, предложить в залог «настоящие старинные стоячие часы, прямо не знаю какие старинные», кафе-мороженое в городе Хохокус, обручальное кольцо и богословскую библиотеку.
Молодой человек, рисунки которого были признаны «профессором Отто Штаубом, лучшим преподавателем музыки в Мемфисе, а также писателем и лектором» равными рисункам Фредерика Ремингтона [111]111
Ремингтон, Фредерик (1861–1909) – американский художник, иллюстратор и скульптор.
[Закрыть]и Франца Гальса, [112]112
Гальс, Франц (1580–1666) – голландский художник, портретист.
[Закрыть]просил пять тысяч долларов, чтобы поехать в Париж и завершить там свое образование. «Прошу ответить немедленно, так как я сейчас строю планы на будущее».
Восемнадцатилетняя девушка категорично утверждала, что:
«…хотя весь мир ополчился против меня и все эти годы пытался заглушить мой голос, я не сдавалась. Ничто меня не остановит! Я создана для успеха! Так предопределено! Да! Меня ждет УСПЕХ. Я буду самой знаменитой писательницей США. Так вот, дорогая мисс Бенескотен, Вы наверняка получаете массу писем от незнакомых людей с просьбами о помощи, и, возможно, Ваш секретарь выбрасывает их в мусорную корзину, но я не прошу помощи. Мне не надо денег взаймы. Я предлагаю следующее: если Вы просто дадите мне 3 000 (три тысячи) долларов, я закончу книгу (роман), которую я сейчас пишу и даже уже начала. У меня задуман великолепный сюжет, никем еще не использованный, а также образы и т. д. Если Вы пришлете названную сумму, я ЗАПЛАЧУ ВАМ ВДВОЙНЕ, когда окончу роман. Как видите, я прошу не одолжения и считаю, что даже при всех Ваших акциях, облигациях и пр. Вы не сделаете более выгодного помещения капитала! Кроме того, насколько я понимаю, Вы заботитесь о благе человечества, а, удовлетворив мою просьбу, Вы поможете заблудшему миру, дав ему услышать Новое Слово, ибо мой роман не просто занимателен, но содержит высокую мораль и разрешение многих проблем, которые сейчас кажутся миру неразрешимыми. Я знаю, что Вы умная женщина, стоящая выше общественных предрассудков, поэтому, мисс Бенескотен, не теряя времени, пошлите чек на 3 000 (три тысячи) долларов обратной почтой, но, конечно, если Вам вдруг захочется прислать больше, то я нисколько не обижусь. Простите мне эту маленькую шутку.
P.S. Не знаю почему, может быть, я немножко ясновидящая, но у меня такое ощущение, что если бы мы с Вами встретились и взглянули друг другу в глаза, мы бы сразу стали друг для друга Элис и Арденс, даже если Вы и гораздо старше меня. Пожалуйста, не забудьте о моей просьбе. Какой будет грандиозный сюрприз, если Вы пришлете деньги сразу, обратной почтой!»
Были там и просьбы пятидесяти двух организаций, оказывающих помощь человечеству всеми известными способами, начиная с изучения мистики чисел и кончая снижением цен на обойные гвоздики.
Но письмо от старой женщины, у которой на руках был параличный муж, действительно звучало искренне. При всем своем богатом опыте, приобретенном в народных домах – настоящих проходных дворах для всяких попрошаек (наравне с кабинетами священников и редакциями газет), – Энн еще не настолько очерствела, чтобы у нее не сжалось сердце при виде этих дрожащих строк, нацарапанных на дешевой бумаге в бледно – голубую линеечку.
Энн задавала себе вопрос, кого больше презирал бы настоящий, ортодоксальный, стопроцентный большевик, свободный от всяких идеологических уклонов, – Арденс Бенескотен за ее уверенность в том, что божественным провидением ей предназначено распоряжаться семнадцатью миллионами долларов, или авторов просьб, пресмыкающихся перед миллионершей. Из двухсот писем Энн ответила ка двенадцать и отложила еще шесть, чтобы показать мисс Бенескотен.
Энн должна была каждое утро в 11 часов являться к мисс Бенескотен с докладом. Она ожидала, что будуар прославленной благотворительницы будет суровым, как келья монахини. Но ошиблась. Пройдя через гостиную, обставленную в стиле Георга III, Энн очутилась в огромной спальне, выдержанной в цвете слоновой кости и розовых тонах: огромная кровать с золотыми нимфами по уголкам, пуфики с ручной вышивкой, камин из розового мрамора, туалет, похожий на витрину парфюмерного магазина. Мисс Бенескотен покоилась в шезлонге, курила тоненькую сигару и весело болтала со своей подругой – проживавшей в ее доме экс-примадонной мадам Кароцца.
– Вот, Налья, мой новый секретарь для нищих, мисс Виккерс – очень милая особа!
Мадам Кароцца злобно взглянула на Энн.
– Могу я вас побеспокоить на минутку, мисс Бенескотен, или лучше потом? Я покончила с письмами. Мне кажется, что вот эти шесть случаев заслуживают внимания, особенно письмо от старой женщины с больным мужем.
– Что? – В голосе мисс Бенескотен не слышалось ни нежности, ни обычного ее благоволения к женщинам. – Мне казалось, Энн, что я вам все объяснила. Отдельные люди нас не интересуют, кроме, разумеется, по-настоящему забавных, стоящих экземпляров. Помнишь, Налья, ту прелестную девушку? Это было действительно интересно, у нее были такие оригинальные идеи о применении черного стекла! Я устроила ее в декоративную мастерскую. Но все эти несчастные старики, мне их очень жаль, конечно, и положение их плачевно, но пусть они обращаются за помощью к своим родным. Мы можем браться только за перспективные случаи, вы поняли, Энн?
Но доверчивой Энн понадобилось целых три дня, чтобы понять, что она не должна раздавать милостыню от имени владетельной герцогини, что мисс Бенескотен ни капли не интересуется благотворительностью и что смысл пребывания у нее Энн сводится к тому, чтобы делать рекламу в прессе далеко не щедрым щедротам мисс Бенескотен. По фунту конфет каждой из десяти тысяч фабричных работниц – вот это забавная благотворительность и настоящая сенсация, с фотографиями мисс Бенескотен, прославленной мадам Кароцца и княгини Франджипанджи, раздающих из фургона конфетной фабрики Гластоп Кэнди К0 первые две сотни коробок. (Конфеты стоили не 5 тысяч долларов, как писали газеты. Арденс деловитостью не уступала своему покойному отцу: она выторговала у Гластоп Кэнди Кэ партию конфет за 780 долларов, сославшись на то, что фабрика получит бесплатную рекламу. И не десять тысяч коробок, а только шесть тысяч.)
Какую славу, какое ощущение своего могущества могла извлечь мисс Бенескотен, уплатив проценты по закладной старой миссис Джонс, живущей где-то в коннектикутских горах? Зато когда Арденс основала Английскую Деревню Юных Художниц – прелестную колонию с веселенькими красными крышами в Кэтскилз – и открыла деревню под звуки симфонического оркестра, который, по ее приказанию, Энн выклянчила бесплатно, в воскресных нью-йоркских газетах этому событию была отведена целая страница, и Арденс получила медаль от Лиги Графического Искусства и красивую грамоту на пергаменте от Общества Сопротивления Урбанизации Произведений Искусства.
Энн была обязана писать занимательные отчеты о последних благодеяниях Арденс, лично вручать их с заискивающим видом редакторам воскресных газет и как бы невзначай ронять: «Да, кстати, я захватила с собой несколько новых фотографий», – после чего выкладывать на стол кипу снимков за последнюю неделю – «Мисс Арденс Бенескотен, наследница магната горной промышленности, открывает вечернюю школу для работников прачечной; слева направо – граф Дондеста, первый секретарь итальянского посольства, мисс Бенескотен, преподобный доктор Слоу, епископ Аляски, Билл Мэрфи, представитель Профессионального союза работников прачечных».
Порой Энн чувствовала себя в доме Бенескотен гостьей, порой интеллигентной горничной. По нескольку дней подряд она виделась с Арденс лишь на коротких домашних совещаниях и уходила завтракать одна в маленькое кафе в верхней части Бродвея. Потом без всякого предупреждения (так что приходилось отменять свидание с Пэт Брэмбл) она получала приказ явиться на торжественный завтрак для того, чтобы мисс Бенескотен могла похвастать ею перед президентом какого-то колледжа, криминалистом, швейцарским психиатром или иным благодетелем человечества, на которых в тот день мисс Бенескотен желала произвести впечатление своим интеллектом и своим венецианским стеклом.
Энн жила в гостинице, такой же убогой и унылой, как отель «Эдмонд», но зато могла принимать в своем номере близких друзей-Пэт Брэмбл, Мальвину Уормсер и двух-трех бывших коллег по Корлиз-Хук. Гостиница была отрадно дешевой. Энн понимала, что пробудет у Арденс считанные дни, и откладывала деньги. Арденс не скупилась: Энн получала восемь тысяч в год, а не три, как в Рочестере. Энн хотелось сорить деньгами, она подолгу стояла перед витринами, любуясь туфельками из змеиной кожи и шляпами от Тэлбота. Но больше, чем покупать вещи, ей хотелось попутешествовать полгода или спокойно отдохнуть вдали от учреждений и казенных бумаг, в которых страдания человеческой души сводились к двум-трем цифрам. Энн опять захотелось узнать, существует ли еще личность по имени Энн, способная любить, совершать глупые поступки, или остался лишь одушевленный автомат, именуемый мисс Виккерс. Она продолжала работать у мисс Бенескотен, следуя изречению «поживиться за счет египтян» и вопрошая себя, а не была ли и хваленая деятельность Моисея довольно подлым мошенничеством. Но, как бы то ни было, каждую неделю ее счет в сберегательном банке приятно увеличивался на девяносто долларов. Не проходило дня, чтобы Энн не мечтала вырваться отсюда, не говорила себе, что пора позволить себе роскошь уйти самой, пока ее не уволили. В доме Бенескотен было достаточно поводов для раздражения. Арденс бывала то резка, то, в умилении перед собой после очередного благодеяния, приторна, точно перезрелый банан. В доме случались скандалы. Дворецкий (настоящий англичанин из Стилтона) никак не мог решить раз и навсегда, кто же Энн – прислуга или «из благородных» (Энн и сама этого не понимала, но ее это меньше заботило, чем дворецкого). У мисс Бенескотен была личная секретарша для ее собственной переписки, не имевшей отношения к Ведомству Праведности и Рекламы, которым распоряжалась Энн, – вот та, бесспорно, была из благородных. Она именовалась «светским секретарем» и была дочерью адмирала. Она часто рассказывала Энн об адмирале. Если она заходила во время совещания и слышала, что Энн настойчиво требует от Арденс да Иъ наконец ответ Приюту для престарелых почтовых служащих, которого они ждут уже целый месяц, дочь адмирала подбегала к Арденс, чмокала ее жирную руку и, бросив злобный взгляд на Энн, восклицала: «Ах, мисс Бенескотен, они все помыкают вами, как хотят! Дорогая, не позволяйте им докучать вам!»
Энн удерживали здесь две причины: прозаичный счет в банке – надежный и полезный, как большинство прозаических вещей. – и случайные визиты Линдсея Этвелла.
Он был почти лыс; его переносицу пересекала глубокая вмятина от роговых очков, которые он надевал при чтении. Однако Линдсей Этвелл выглядел очень молодо: поджарая фигура теннисиста, ясные глаза, седые военные усы и кирпичный румянец. Его лысина была не бледная и лоснящаяся, а загорелая и очень мило покрытая веснушками. От него веяло свежим воздухом, совершенно непонятно почему, ибо Линдсей Этвелл, хотя он и проходил иногда пешком по сорок кварталов, не любил верховых прогулок по парку в обществе светских янки и семитов, копирующих Роттен-Роу. [113]113
Роттен Роу – аллея в Гайд-парке в Лондоне, где английские аристократы совершают верховые прогулки.
[Закрыть]Равным образом отпуск свой он не посвящал целиком гольфу или героической кочевой жизни под открытым небом среди смолистых ароматов и туч мошкары. По крайней мере он утверждал, что проводит отпуск на лужайке виллы в Адирондаксе, [114]114
Адирондакс – фешенебельное место в горах штата Нью-Йорк.
[Закрыть]читая Конан-Дойля.
Энн давала ему лет сорок семь – сорок восемь.
Линдсей Этвелл был поверенным Арденс, наиболее образованным и наименее оглушительным представителем фирмы Харгрейв, Кунтц, Этвелл и Харгрейв.
В течение многих недель Энн была уверена, что он принадлежит к старой аристократии: Гарвард, [115]115
Гарвард – один из старейших американских университетов.
[Закрыть]Теннисный клуб с перспективой стать членом Сенчури-клуба, в детстве – летние вакации в Бар-Харбор и семья, восходящая к дням Плимутской колонии. [116]116
Плимутская колония – первое поселение английских колонистов, высадившихся с судна «Мэйфлауэр» в Новой Англии в 1620 году.
[Закрыть]Энн оказалась права только в одном: он действительно окончил юридический факультет Гарвардского университета. Что касается остального, то родился он в Канзасе, учился в Канзасском университете; в детстве каждое лето проводил весьма экзотично – удил сомов в степных омутах и читал Вальтера Скотта и Виктора Гюго. «Но во время войны я послужил геройски, – рассказывал он, – я работал в федеральной прокуратуре и подчас не уходил со службы раньше шести вечера». Его род восходил к кроманьонцам, но потом родословная обрывалась и снова начиналась с дедушки Этвелла, весьма уважаемого фермера в штате Огайо, пока его не прикончила просроченная закладная. Одним словом, Линдсей Этвелл был типичным корректным ньюйоркцем.
У него была несколько вычурная манера говорить, но он не казался Энн напыщенным.
Она часто видела его. Требовалось много судебной волокиты, чтобы собрать в одно целое клочки земли и составить участок в тысячу акров для Английской Деревни Юных Художниц. Кроме того, мисс Бенескотен беспрерывно советовалась с Линдсеем о том, какого ей пригласить архитектора – известного или хорошего.
Как-то Этвелл зашел в кабинет к Энн и со вздохом сказал:
– Вы знаете, мисс Виккерс, тут ничего не поделаешь. Я знаком с ней дольше, чем вы. Бесполезно даже пытаться уговорить нашу Арденс пригласить Типла просто потому, что он архитектор с воображением и со способностями. Нет, он никому не известен, тогда как мистер Тафтуол считается ведущим в своей профессии с тех пор, как прославился факонерским небоскребом, который целиком создал сам, если не считать общего проекта и деталей, – а их он, конечно, заказал кому-то другому. Кроме того, его агент по рекламе занимается своим делом с энтузиазмом, не то, что вы. Он будет с радостью сотрудничать с вами, добиваясь бесплатной рекламы не только для мистера Тафтуола, но и для Арденс. Вы должны понять, что в нынешнее время даже из красоты можно извлечь практическую пользу.
Энн опустила голову и, взглянув исподлобья на Линдсея Этвелла, с изумлением спросила:
– Неужели вы тоже раскусили Арденс?
– Т-с-с! Вы, чего доброго, скоро начнете критиковать президента Вильсона или «христианскую науку»! [117]117
«Христианская наука» – религиозная секта, основанная в 1879 году Мери Бейкер Эдди.
[Закрыть]
После этого разговора, приходя к Арденс, Этвелл всегда перед уходом оказывался в кабинете Энн, и они беседовали о Джеймсе Джойсе [118]118
Джойс, Джеймс (1882–1941) – ирландский писатель, крупнейший представитель модернизма в литературе. Приобрел широкую известность в 1910-е годы после выхода сборника рассказов «Дублинцы» (1914) и романа «Портрет художника в молодости» (1916).
[Закрыть]и на другие изысканные и безразличные темы. Однажды он любезно пригласил Энн пообедать у Шерри. Это произошло в тот осенний день, когда мисс Бенескотен сделала Энн выговор за то, что она тратит время на Приют для мальчишек – газетчиков, который был уже достаточно благоустроен и ничего не мог прибавить к славе Арденс, и в три часа Энн коротко заявила об уходе, проработав у Арденс ровно шесть месяцев.
В четыре часа она уже была в бюро путешествии.
Три дня спустя, в субботу, в двенадцать ночи, Энн отплыла в Англию. Планы ее не шли дальше Плимутского мола.
На пристани она была взволнована не зверинцем провожающих с их поцелуями, букетами и джином; она достаточно привыкла к легкомысленным сборищам Ист – Сайда. Ее взволновало ощущение силы и целеустремленности, таившихся в четких линиях парохода, в ослепительной белизне крашеной стальной обшивки, в чудовищно властном гудке. Мощь! Не изворотливое могущество мисс Бенескотен, а чистая мощь стали и пара… Й до Англии не больше часов, чем от понедельника до субботы нудного, усыпляющего сидения на службе! Она спустилась вниз, в удивительно компактную роскошь серо-розовой каюты.
Ее провожали Пэт Брэмбл, с усталыми глазами, как всегда уравновешенная, в белой кроличьей шубке со стоячим воротником, доктор Уормсер, мисс Данциг из рочестерского народного дома, мисс Идее и доктор Уилсон Тай из Корлиз-Хук. Было шумно, всю каюту завалили розами, конфетами и экземплярами «Не от мира сего» и «Возраста невинности». И вдруг в дверях появился улыбающийся Линдсей Этвелл.
– Как я рада! – с девичьей застенчивостью пробормотала Энн. – Откуда вы узнали, что я уезжаю?
– Это было не так уж трудно для проницательного юридического ума. Я слышал, как вы утром сказали дворецкому, что отплываете сегодня. А единственный пароход, который отплывает сегодня, – ваш. Энн, надеюсь, что путешествие будет великолепным. Сделайте для меня одну вещь! Поезжайте в Корнуэлл. Там есть изумительная деревушка Сент-Моген в долине Ленхерн, такая старинная, тихая, вся в зелени, с «перпендикулярной» башней, которая много старше Америки. Потом пройдите по взморью до мыса Пентайр. Летом, когда я там был, он утопал в дроке и золотом серпнике. Море оттуда кажется безбрежным и лиловым. Я просиживал там часами, прислонившись к рюкзаку. Расскажете мне про это, когда вернетесь. Счастливого пути, Энн!
Он ушел, и пароход заревел: «У-у-у! Тра-а-ап у-у – убра-а-ать! У-у-у!»








