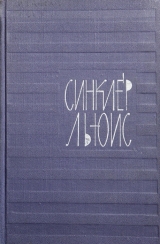
Текст книги "Энн Виккерс"
Автор книги: Синклер Льюис
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 35 страниц)
ГЛАВА XXXVI
Шли месяцы, а Рассел по-прежнему то предавался ребячливому самолюбованию, то радовался, какой он счастливчик, то чопорно негодовал, если у Энн ненароком вырывалось одно из тех словечек, которые он с хихиканьем смаковал в соленых анекдотах. Ни в одном из этих трех вариантов он не был естественен: естественность вообще была ему чужда, и это постоянное, сознательное разыгрывание какой-то роли мешало Энн чувствовать себя спокойно и естественно. Но по прошествии полугода их совместной жизни ей больше всего стали досаждать многие чисто внешние мелочи повседневного общения.
Больше всего Энн бесило то, что он называет ее «маленькой женушкой» и обращается с ней соответственно.
При этом он с полным одобрением относился к тому, что она занимает значительный пост и тем самым придает им обоим немалый вес в обществе; он не возражал и против того, чтобы она вносила деньги за квартиру и оплачивала счета бакалейщика; он бывал недоволен, если она не блистала на званых обедах, а также, когда она во всеуслышание произносила избитые истины, вроде того, что «главная задача пенологии – надежно оградить общество от преступных элементов». И вместе с тем в частной жизни она должна была оставаться «маленькой женушкой» – иначе как бы он мог рядом с ней сохранить все свое мужское величие? (Он рассказал ей, что одна девица нежно называла его «мой великанчик». Но нежность Энн имела пределы, и даже в самые сентиментальные минуты, когда он приносил ей шоколад и развлекал как мог, на подобный слащавый лепет она была не способна.)
Как-то Энн попросила мужа зайти в книжный магазин и купить «Gestalt Psychologie» [183]183
«Облик психологии» (нем.).
[Закрыть]Блётцена. Книга была ей срочно нужна. Энн собиралась положить ее в основу своего доклада в маунт-вернонском дискуссионном клубе. Домой она вернулась раньше Рассела и уже успела достать с полки порядком пропыленный немецкий словарь. Рассел ворвался в квартиру, как застоявшийся бык, и с лучезарной улыбкой протянул жене букет хризантем, видом и размерами напоминавший сноп пшеницы.
– Волшебные цветы! Спасибо, милый. А книжку ты принес?
– Какую книжку?
– Как какую? Ты же обещал! Немецкую, по психологии.
– Боже милосердный! Какие мы важненькие, какие мы учененькие! Вот мы сейчас доберемся до сути вещей и всем покажем, сколько в нашей маленькой головке разных сурьезных мыслей! И на что нам эта то-о-олстая ску-у-у-ушная книжища? И что бы мы с ней стали делать?
Он хотел игриво потрепать ее по щеке, но Энн в негодовании отпрянула.
– А, черт! Хорошо! Больше не буду обременять тебя просьбами! Сама куплю, что мне нужно!
– Что ты, что ты? Неужели ты обиделась? – еле вымолвил оторопевший Рассел.
В этот вечер к Энн зашла одна из бывших арестанток, освобожденная условно (каждый месяц они навещали ее десятками). Эта девушка отсидела год за кражу шелка из швейной мастерской, где она работала. Теперь, по ее словам, она хотела «начать честную жизнь», но не могла никуда устроиться, а от своей опекунши – дамы высоконравственной и высокопоставленной, сотрудницы Лиги спасения преступников-нерецидивистов «Маяк» – она не могла добиться никакой помощи, кроме чтения морали. Энн дала ей записочку к одной симпатичной, толковой и совершенно безнравственной женщине, у которой было ателье мод в Гринвич-Вилледж, и, улучив минуту, когда не одобрявший ее действий Рассел отвернулся, сунула девушке десять долларов (хотя с деньгами у нее было туго). Проводив гостью, Энн принялась расхаживать по комнате, не обращая внимания на Рассела, который с циничным видом развалился в кресле – когда-то любимом кресле Энн:
– Условное освобождение! Это ключ ко всей совокупности карательных мер, а между тем оно находится в полном пренебрежении. И нельзя винить одних сотрудников надзора. Почти все они по горло заняты текущей работой, а многие просто не имеют необходимой подготовки. Будь у меня побольше совести, энергии и здравого смысла, я бросила бы тюрьму и посвятила себя политической деятельности. Навела бы порядок в системе условного освобождения, добилась бы ассигнования на это дело миллионов долларов – не меньше чем на тюрьмы, если не больше, и обязала бы общество в законном порядке точно так же заботиться о бывших заключенных – столько перетерпевших, больных нравственно, – как заботятся о людях, больных физически – скажем, о чахоточных. И я уверена, что смогла бы добиться этого!
Рассел не замедлил отозваться:
– Какой светлый ум! Какая ясность целей! Батюшки мои, прямо народный трибун! Разумеется, деточка, что за вопрос! Стоит тебе выставить свою кандидатуру, как Таммани-холл [184]184
Таммани-холл – штаб-квартира демократической партии штата Нью-Йорк.
[Закрыть]со всех ног бросится выполнять твои распоряжения. Еще бы – Энни д'Арк!
Однажды Энн произносила речь на обеде у популярного в филантропической среде миллионера – того самого, который проявлял неизменную готовность финансировать все любительские театры, частные журналы начинающих поэтов, прокат советских фильмов и технические курсы для освобожденных преступников, но дальше обещаний не шел. С помощью простых фактов и внушительных цифр Энн доказывала, что из десяти заключенных, которых обучают какому-нибудь ремеслу, девять покидают тюрьму, так им и не овладев. Ее слушали внимательно. Она увлеклась и, быть может, немного священнодействовала, преисполнившись сознания собственной значительности, присущего игрокам в гольф, и забыла, что она миссис Сполдинг. И не случайно такой болью – не досадой, а именно болью – отозвались в ее сердце, где еще сохранились остатки нежности к Расселу, его сказанные во всеуслышание слова:
– Ну, а теперь, дорогая, после того как ты нам разъяснила этот сложный вопрос, может быть, ты дашь оценку положению в России и заодно расскажешь про биофизику?
Как ни странно – а может быть, в этом не было ничего странного, – Энн не меньше раздражала его манера публично петь ей дифирамбы: на званых обедах он рассказывал совершенно незнакомым людям, какой она выдающийся пенолог, какой психолог, какой превосходный администратор; с каким бесстрашием она усмиряла тюремные бунты где-то на юге и какую благожелательность и добросердечие проявляла впоследствии к бунтовщикам. А в такси по дороге домой, потратив столько сил на то, чтобы окружить ее ореолом славы, в лучах которой он не прочь был погреться и сам, Рассел одним ударом повергал ее с неба на землю, заявляя:
– Я очень рад, дорогая, что ты приятно провела время, но если бы ты хоть немножечко постаралась сдержать свой поток красноречия, доктор Винсент тоже смог бы произнести за вечер несколько слов.
В особенно долгие дорожные объяснения он пускался всякий раз, как кто-нибудь из новых знакомых называл его «мистер Виккерс».
– Я сказал этому кретину, что он ошибается. Я, безусловно, не более чем муж знаменитой фрау Виккерс, доктора, профессора, директора и тому подобное, но при этом в деятельности на благо общества я занимаю и свое собственное, скромное, незаметное местечко!
Справедливость требует признать, что такого рода обиды он сносил все же более благодушно, чем агрессию со стороны какого-нибудь очень юного или очень старого профессора, который осмеливался вступать с Энн в спор о психологии заключенных. Когда авторитет фирмы Сполдинг-Виккерс оказывался под угрозой, Рассел, этот испытанный боец, выпрямлялся во весь свой медвежий рост и, потрясая кулаками, рычал:
– Многоуважаемый, позвольте вам сказать, что мисс Виккерс, помимо знаний теоретических, обладает огромным опытом практическойработы!
После таких вечеров в нем снова просыпался пылкий любовник.
Но такие вечера случались редко. Чаще всего он развлекался тем, что низвергал на землю мраморную Диану, которую с таким усердием сам же возводил па пьедестал.
Она не всегда сносила его выходки безропотно.
Когда он переходил границы всякой шутки и издевался над ее постоянством, над тем, что она истосковалась life371 по любви, когда он давал волю непритворной злобе и заявлял, что как пенологу ей грош цена, а как администратору и того меньше, – тогда на сцену выступала та Энн Виккерс, которой приходилось иметь дело с убийцами. Он моментально сникал и начинал пресмыкаться пред нею, рассыпаясь в извинениях, – и тогда она презирала его. Она презирала и его хвастливую болтовню: будучи всего-навсего опытным специалистом по разбазариванию чужих денег, он всерьез считал себя социологом.
А похвастать он любил. Он именовал себя ученым. Он говорил: «В моей исследовательской работе я могу показаться бесстрастным, но на самом деле у меня есть одна непреодолимая страсть – страсть к точности».
Если у него действительно есть эта страсть, думала Энн, перед нами еще один пример тех великих неудовлетворенных страстей, какие знает история.
Стремясь всеми силами укрепить свое единовластие, честолюбивый Игнац не упускал случая и пофлиртовать – «потискать» кого-нибудь, пользуясь термином той эпохи. Он принадлежал к людям, которых всегда тянет похлопывать и поглаживать. Даже в мужской компании он вечно хватал собеседника под руку или хлопал по плечу; а в обществе женщин его разве что силой можно было удержать от того, чтобы он не чмокнул кого – нибудь в щечку, не прислонился к чьему-нибудь плечику, не обнял слегка за талию или, в самых многообещающих случаях, не погладил ножку. Через восемь – десять месяцев после женитьбы Энн уже привыкла, что на больших вечерах он обязательно уединялся где-нибудь на кухне или на балконе с самой бойкой, самой блондинистой, одетой в самую короткую юбку девицей из числа присутствующих на вечере юных интеллигенток, и по прошествии некоторого времени оба возвращались сконфуженные и раскрасневшиеся.
В такие минуты Энн испытывала острое желание его убить.
В ней говорила в общем не ревность. Такого рода чувства улетучивались по мере того, как из месяца в месяц она убеждалась, что для Рассела она отнюдь не святыня, а очередной пересадочный пункт на пути его следования. Ее самолюбие страдало от того, что он выискивал, как правило, самых пустоголовых девчонок. Если бы он заглядывался только на мудрых, величественных женщин, ей было бы не так обидно… По крайней мере она старалась себя в этом убедить………………..
А ведь она и вправду могла бы его убить-и жизнь ее почти не изменилась бы. В который раз Энн приходило в голову, что она находится по сю сторону тюремной решетки только в силу чистой случайности: ведь и она, и Мальвина Уормсер, и Пэт Брэмбл, и Элеонора Кревкёр легко могли бы попасть в тюрьму за убийство, за прелюбодеяние, за какое угодно преступление, не связанное с подлостью или предательством.
Она догадывалась, что в своих ухаживаниях Рассел не идет дальше поверхностного освоения территории. Она даже думала, что стала бы меньше презирать, его, если бы он нашел в себе смелость хоть раз довести дело до конца. К тому же он соблюдал конспирацию, так что у Энн не было повода устроить хорошую, здоровую семейную сцену и вышвырнуть его из дому. А найти такой повод ей очень хотелось, потому что оба они все глубже и глубже увязали в болоте непрекращающегося взаимного раздражения.
И уж, конечно, она не хотела, чтобы он стал отцом Прайд – он, такое безвольное, болтливое ничтожество, журчащий по камешкам жалкий ручеек.
Но над Энн тяготела извечная трагедия женщины: еще два-три года – и о Прайд нужно будет забыть. В сорок пять лет, достигнув расцвета духовных сил, она уже не сможет иметь детей. А Рассел и любой другой легкомысленный болван, которому и дети-то нужны только для того, чтобы тешить его тщеславие и слушать его раскрывши рот, если взрослым наскучат его разглагольствования, – вот он может заводить детей хоть в шестьдесят.
Карты были подтасованы, и никакая, самая ожесточенная борьба за женское равноправие не могла этого изменить.
Энн вступила в отчаянную схватку с самим временем: что победит – ее нежелание видеть Рассела отцом своего ребенка или неумолимо приближающийся день, когда никто не сможет быть его отцом? Нет, нет, все равно она не отдаст свою судьбу и судьбу Прайд в пухлые руки Рассела. Ни за что!
Она готовилась к отъезду в Атлантик-Сити, на конференцию работников женских исправительных заведений, и уже целую неделю занималась проблемой взаимосвязи тюремной дисциплины и режима питания. Она штудировала одновременно не меньше шестидесяти медицинских трудов на эту тему и, обдумывая вслух свой доклад, неосмотрительно цитировала Расселу мнения разных авторитетов.
Он вдруг взорвался:
– Иметь такую жену, как ты, – все равно что спать с подоходным налогом!
Энн тотчас же почувствовала угрызения совести.
– Милый мой, ты сердишься, что я совсем тебя забыла? Так уж я устроена: не могу думать о двух вещах одновременно! Дай мне только развязаться с этой чертовой конференцией, и ты увидишь, какой я стану идеальной женой. Я буду стараться изо всех сил и, может быть, еще сумею внушить тебе пылкую страсть – вместо простого любопытства!
Головокружительный поцелуй.
Участники конференции в Атлантик-Сити в один голос признали доклад доктора Виккерс о режиме тюремного питания блестящим, почти революционным. Самая твердокаменная надзирательница, вернувшись с конференции, увеличила у себя в тюрьме недельный рацион чернослива с пяти штук слив до девяти на душу, ввела дополнительно абрикосовый компот и распорядилась, чтобы каждое лето один раз арестанткам давали свежую кукурузу. Но сама Энн, потрясая своих слушателей, вспоминала Рассела, которого ей было жалко.
Энн была наделена редким и мучительным умением становиться на точку зрения других людей – даже своих противников. Укрощая Китти Коньяк, она не могла отделаться от мысли, что жизнь обошлась с этой женщиной несправедливо. Так и с Расселом: она понимала, что у него есть основания быть недовольным ее громкой известностью, ее демонстративной независимостью, что у него есть причины увлекать на балкон легкомысленных дурочек, которые, прильнув к его благородной груди, будут глядеть на него с обожанием. Рассел был человек сентиментальный, поверхностный, но не злой, и он отлично знал свое дело.
Поэтому, вернувшись из Атлантик-Сити, она принялась усердно разыгрывать из себя преданную жену – хотя такой способ, как известно, к добру не приводит.
Но на несколько дней в доме воцарились мир и покой.
Рассел был счастлив, если после работы она не высказывала никаких идей и могла кротко просидеть несколько минут, не отнимая руки, когда ему приходила охота спеть ей про сороку-ворону, загибая ее сильные пальцы. Он был счастлив, когда, вместо того чтобы предоставить кухарке свободу действий, она сама придумывала обеденное меню и выбирала самые фантастические, пикантные блюда, по которым томились его дерзновенная душа и луженый желудок: сардельки по-нюренбергски, куриный суп с лапшой, кореньями и всякой всячиной, жареные мясистые шампиньоны, похожие на шляпки гномов, маисовый пудинг, равиоли, [185]185
Блинчики с острой мясной начинкой (итал.).
[Закрыть]стилтонский сыр, вымоченный в портвейне, кукурузные вафли с кленовым сиропом… Все это он готов был проглотить за один присест.
Рассел быстро освоился и перестал с ней считаться: без предупреждения приглашал к ужину своих приятелей – и именно тех, которых она не любила; а если у служанки был свободный день, Энн приходилось самой бежать в кулинарный магазин и мыть потом всю грязную посуду.
Забавные случались сцены – неплохая иллюстрация конечных завоеваний феминизма! Однажды вечером в доме у Энн был сервирован ужин на четверых. После ужина доктор Энн Виккерс, начальник Стайвесантской женской исправительной тюрьмы, и супруга Вернера Бэлхема, которая была известна широкой публике как мисс Джейн Эмери и занимала высокооплачиваемый пост директора комбината художественной мебели, дружно отправились на кухню мыть тарелки, в то время как Рассел и сам мистер Бэлхем – литератор, создавший за последние два года сонет из восьми строк и сестет из пяти, – благодушествовали в гостиной, обсуждая повышение цен на недвижимость; они окинули своих жен снисходительным взглядом, когда те вернулись и, усевшись в уголок, заговорили о кухарках.
В свое время Рассел шагал по Пятой авеню в рядах первой суфражистской демонстрации и принимал участие во всех последующих кампаниях за женское равноправие; Вернера Бэлхема чуть не закидали тухлыми яйцами, когда он пропагандировал феминизм перед бостонскими ирландцами; их жены и работали и зарабатывали больше, чем они сами; но ни тому, ни другому не приходило в голову избавить жен от обязанности обдумывать завтрашний обед, подыскивать и в особенности рассчитывать прислугу, следить за тем, чтобы мужнины носки были заштопаны, чтобы перед отправкой белья в прачечную из манжет были вынуты запонки, чтобы телефонные сообщения о таких важных событиях, как предстоящая партия в гольф, записывались подробнейшим образом: кто звонил, имя, фамилия и адрес звонившего, место назначенной встречи и время отправления пригородного поезда. Им обоим трудно было понять, почему жена, придя домой поздно вечером с очередной конференции, не в состоянии побаловать мужа, быстренько соорудив домашнюю помадку, гренки с сыром или омлет.
Карты были подтасованы не в твою пользу, Энн. Исход игры предрешен и для тебя и для твоей прапраправнучки. Но коль скоро жизнь усадила тебя за карточный ' стол, лучше заранее быть готовой к тому, что карты подтасованы.
ГЛАВА XXXVII
Ни в чем – ни в регулярных запоях алкоголика, ни в постоянных вспышках мужской злобы или женской ревнивой подозрительности – жизненный шаблон не проявляется с такой удручающей последовательностью, как в отношениях супругов. Энн никогда не была рабски преданной женой, и всех ее усилий разыграть эту роль хватило не больше чем на две недели.
Она опять сорвалась с цепи и, как гончая, понеслась по следам лукавых врагов амнистии преступникам с одной судимостью, забыв в своем охотничьем азарте о том, что Рассел, по его собственному убеждению, неимоверно важная персона и что она обязана посвящать все свои высокие помыслы ему, а не расходовать их почем зря на те 2,6 процента преступников, которые, согласно отчету род-айлендской полиции, после условного освобождения становятся рецидивистами.
Разрыв произошел неожиданно.
Однажды Рассел примчался домой сияющий. У них был свободный вечер, великолепное жаркое на обед, и все представлялось в радужном свете. По необычайному оживлению мужа Энн догадывалась, что ему не терпится поделиться какой-то радостью, и едва она успела спросить: «Ну, что у тебя за тайна? Что-нибудь приятное?» – как он подпрыгнул на стуле и разразился потоком слов:
– Дорогая, наконец мне по-настоящему повезло! Помнишь старика Шилледи, у которого гостиницы? Он еще пожертвовал в ИНОБЛ кучу денег-помнишь? Так вот, ему пришла идея, что в будущем в конечном счете прибыльными окажутся не такие отели-люкс, как он до сих пор строил – их теперь слишком много развелось, – а все, что попроще и подешевле, что доступно рабочему люду и так далее. Он задумал начать строительство целой серии таких больших дешевых гостиниц, собственно говоря, меблирашек, только повыше рангом. Ну, а я, как ты знаешь, в институте занимался как раз такой штукой – жилищными условиями, столовыми и так далее; и вот, принимая во внимание мой солидный опыт, Шилледи предложил мне пост заместителя управляющего всем этим предприятием и двенадцать тысяч годовых – только подумай, вдвое больше моего нынешнего оклада! – да еще с перспективой из заместителя стать управляющим, а это значит не меньше тридцати тысяч per annum, per omnia secula seculorum! [186]186
В год, во веки веков (лат.).
[Закрыть]Правда, здорово?
– Боже мой… Рассел, неужели ты действительно на это пойдешь?
– А почему бы и нет?
– Да это же абсурд!
– А, черт возьми! Ну, знаешь, уж кто-кто, а ты бы помолчала! Сама же вечно издеваешься над благотворительностью, вечно отпускаешь шпильки по адресу тех, кто собирается «спасти мир» при помощи единого подоходного налога или запрещения табака!
– Верно, все это верно. Доктор Уормсер тоже утверждает, что медицина как наука ничего не стоит и что самое эффективное, что может сделать врач, – это вправить вывих, прописать слабительное, инсулин или хину. Но ведь она не променяет свою профессию на бакалейную лавку, даже если ей предложат миллион долларов в год! Пойми, Рассел, может быть, наша работа не приносит почти никаких ощутимых результатов, но все же это настоящая, благородная профессия, не хуже чем у художника, священника, юриста, учителя, врача или военного, и она накладывает на человека известные обязательства, – он связан с ней, можно сказать, почти мистическим долгом. И отказ от любимого дела – всегда трагедия. Ну к чему тебе эти деньги? Мы вдвоем достаточно зарабатываем…
– Вот-вот! Сейчас ты начнешь попрекать меня тем, что я зарабатываю слишком мало!
– Милый Игнац! Только таких слов от тебя и можно было ожидать – даже удивительно, что ты на самом деле их произнес!
– Если ты воображаешь, что я вечно буду цепляться за твой подол… Вот погоди, я стану миллионером, и тогда…
– И тогда ты купишь большое-пребольшое ружье и – пиф-паф! – перестреляешь всех краснокожих, а потом сядешь на паровоз и поедешь: ту-ту-у! По-твоему, для того чтобы загребать миллионы, достаточно ума семилетнего ребенка? Миллион долларов! Красота-то какая! А что наш милый мальчик будет делать со своими новенькими, хорошенькими денежками? Я тебе скажу: ты сам сделаешься филантропом и на торжественных обедах будешь разъяснять восторженным юнцам, что, бросив свою профессию, ты не отрекся от прежних идеалов! Ф-фу! Как хочешь, а я пошла гулять!
Были извинения, раскаяние, попытки загладить ссору, но на этот раз Рассел не сдал позиций. Он ушел из Института организованной благотворительности и приступил к своим новым обязанностям; и, видя, какую радость – впервые в жизни – получает он оттого, что, садясь в такси, не нужно заранее пересчитывать мелочь, Энн почувствовала, что была к нему несправедлива. И все же она не желала быть бесплатным приложением к фирме, созданной для того, чтобы наживать миллионы за счет рабочих медяков.
Срок аренды их византийских апартаментов истекал 1 января 1930 года – год и девять месяцев спустя после их свадьбы. Рассел по делам службы уезжал на западное побережье и поручил Энн подыскать им новую квартиру – более современную, достойную идущего в гору гостиничного магната: ранг по американским понятиям почти столь же высокий, как титул мыльного, автомобильного или стального короля.
Она нашла для него отличную квартиру, а свои книги, стулья и белье отвезла в свой старый номер в отеле «Портофино».
Вернувшись в Нью-Йорк, Рассел вихрем ворвался к ней, но его воинственный пыл погас под ее холодным взглядом.
– В чем дело? Почему ты уехала? В чем я виноват? – захныкал он.
– Ни в чем, дорогой. – Ее голос звучал уже вполне дружелюбно, и глаза потеплели. – Просто подвернулся удобный случай расстаться – а расстаться ведь так или иначе пришлось бы. К чему тянуть всю эту канитель, бесконечно пытаться что-то наладить, разочаровываться и начинать сначала, пока все это не осточертеет до смерти нам обоим? Зачем повторять опыт почти всех неудавшихся браков?
– Т-ты… ты хочешь развестись со мной?
– Не обязательно.
– Ну, в таком случае… Хорошо, хорошо, если хочешь, поживем некоторое время врозь. Оглядимся, все взвесим. Пойми, дело вовсе не в том, что мне будет стыдно смотреть людям в глаза. Конечно, начнутся сплетни – жена бросила… Но не в этом дело, клянусь тебе! Ведь я же тебя любил, Энн, я никого так не любил, как тебя. Я и сейчас тебя люблю! Да что же это в конце концов! Что я такое сделал? И что я теперь буду делать без тебя?!
Он стоял перед ней, хватаясь за голову, потерянный и беспомощный, и с его полного, немолодого лица на нее смотрели глаза перепуганного ребенка.
И Энн осталась совсем одна; в этом голом отеле ей жилось теперь даже более одиноко, чем до замужества: не заезжал, как бывало, Линдсей Этвелл, не звонил Рассел Сполдинг, а Пэт Брэмбл, она же миссис Помрой, бывала в городе редко.
Правда, Рассел появлялся каждую неделю и ходил за ней по пятам с жалобным видом. Один раз она позволила ему остаться на ночь. Но все получилось натянуто, слишком акцентированно, чтобы сойти за искренность.
Однако одиночество так угнетало ее и так очевидна была ненужность этой некстати приобретенной свободы, что в последних числах марта, когда Рассел робко заикнулся, что уже начались сплетни и ему стыдно смотреть людям в глаза, Энн согласилась вернуться. Но она выговорила себе еще месяца два – для того, чтобы разобраться в самой себе и подвести итоги; ей требовалась такая же передышка, как после Пойнт-Ройяла и допроса, который учинила ей Перл Маккег, после суфражистского этапа и Клейтберна, после народных домов, после Лейфа и Арденс Бенескотен.
И никакие географические карты не могли помочь в этом путешествии в глубь собственной души.








