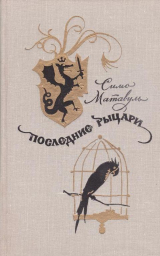
Текст книги "Последние рыцари"
Автор книги: Симо Матавуль
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 29 страниц)
ГОРБУНЬЯ МАРА
В канун рождества мы, пятеро холостяков, собрались в дружеском семейном доме. После ужина, в облаках табачного дыма, завязалась беседа о великом христианском празднике, о связанных с ним обычаях и т. п. Один из нас заметил:
– К нашим рождественским обычаям можно отнести и святочные рассказы, которыми просто кишат не только литературные газеты, но и политические!
– Я ни одного не пропускаю, – отозвалась хозяйка.
Красавец Милован, прозванный Банкиром, возразил:
– К сожалению, сударыня, не могу с вами согласиться. Я ненавижу эти предписанные традицией побасенки, воплощающие всю пошлость души буржуа и нуждающиеся в ежегодной во имя и честь Христова рождества порции идиотского лицемерия; главное назначение его якобы в морали, а на самом деле…
Его прервал общий смех. Хозяин шутливо промолвил:
– Вы очень галантны, доктор!
Поднялся шум. Никто не удивился выпаду Банкира, поскольку он был так же искренен, как и несдержан. Поэтому всерьез на него не обижались. Начитанный, остроумный, большой любитель парадоксов и враг писателей и буржуазии, что не помешало ему стать одним из «винтиков в ее машине», ибо, окончив юридический факультет, он поступил чиновником в банк.
Когда снова воцарилась тишина, хозяйка спросила:
– Так-таки без исключений, доктор? Неужели все святочные рассказы пошлы?
– Почти все, сударыня! Я признаю святочные рассказы для детей, разумеется, если они им доступны и доставляют радость, а это не так престо, как кажется. И вообще изо всех святочных обычаев оправданы только те, которые приносят радость детям.
– Можно подумать, что у вас есть такой на примете! – произнесла хозяйка.
Снова поднялся гомон, среди которого можно было различить голоса:
– Есть! Есть!
– Рассказывай!
– Обязательно!
– Простите, сударыня, – возразил Банкир, – я сказал, что признаю хорошие детские рассказы, но должен добавить: а также и те, в основу которых положены подлинные воспоминания детства и которые при этом не слишком приукрашены и банальны.
– Отлично, – согласилась хозяйка, – тот или другой, но вы нам расскажете.
– Хорошо, – сказал Банкир. – Если уж угодно, чтобы я вам докучал, извольте.
Вижу себя в пору, когда во мне начало пробуждаться сознание. Моя нянька Мима таскает меня на руках, целует, рабски выполняет все мои желания, поет мне даже тогда, когда я колочу ее ручонками по лицу; я уже знаю, что имею право мучить тех, кто мне подвластен, а никто не был мне более покорен, чем эта двенадцатилетняя девочка. Этому меня научил пример старших – ведь почти все они помыкали сиротой, нашедшей у нас пристанище.
Таким образом, самое начало моей духовной жизни было отравлено ложными понятиями и бесчеловечными поступками. Ложь взяла меня за ручку с первых же шагов в жизни!
Все складывалось так, чтобы я как можно быстрее продвигался по этому пути и чтобы все сильнее развивалось врожденное себялюбие. Мима часто ходила со мной в соседний дом, где на третьем этаже помещалась мастерская моей тетки – портнихи. Была она бездетная вдова, довольно состоятельная, средних лет и еще красивая. У нее работало несколько модисток, все молоденькие и хорошенькие, кроме одной горбатой старухи с длинным рябым лицом и рыжеватыми с проседью волосами, которую звали Мара. Собственно, она и не считалась швеей, потому что только сметывала швы, а больше прислуживала и бегала по городу. По имени ее никто не звал, она была для всех «Горбунья».
Здесь, в теткиной мастерской, меня баловали, закармливали сластями, таскали с колен на колени, и я уже чувствовал, как мягки и теплы девичьи бедра, как сочны их упругие губы! Разумеется, я никогда не садился на костлявые колени Горбуньи Мары, и ни разу ее тонкие бледные губы не коснулись моих щечек! Она представлялась мне средоточием всех доступных моему пониманию зол – различных «бо-бо», холода, темноты, материнского равнодушия к моим требованиям и т. д. Меня даже сердило, что Горбунья глядела на меня с нежностью, как мать, Мима, тетя и красивые девушки, и я радовался, когда модистки, мне в угоду, швыряли в нее катушками, щетками, скомканными платьями, обливали ее водой. Достаточно мне было сказать: «Ату Горбунью!» – как начиналась атака! Но больше всего я ликовал, когда вокруг нее заводили с громкими криками коло. Впрочем, радость моя никогда не была полной, потому что Горбунья не сердилась и охотно сносила все, что могло меня позабавить.
Помню, что первые события, сохранившиеся в моей памяти, происходили летом, я был в одной рубашечке, а Мима шлепала босиком. Когда мы возвращались по вечерам от тетки, нам приходилось проходить через прилегающую к мастерской темную комнату – кладовую. Мима бежала по ней, так же как и по темной лестнице, принужденно смеясь, как это делают дети, чтобы скрыть страх. Я прятал голову у нее на груди и тоже упражнялся в этом притворном смехе. Мима шептала: «Бежим! Бежим! Бука! Бука!» Я повторял за ней, испытывая настоящий ужас перед этим огромным «Букой», который, по моим представлениям, был гораздо больше и сильнее Горбуньи, хотя и походил на нее, – иными словами, был тоже какой-то Горбун!..
Засыпал я под болтовню Мимы; рассказы ее велись на понятном мне языке и не выходили за круг моих впечатлений. «Мама хорошая, тетя хорошая, девушки хорошие, Горбунья бяка, – ату Горбунью! Коло! Бука! Бука!» Единственная Мимина обязанность – смотреть за мной, – видимо, очень утомляла девочку, потому что она часто засыпала рядом со мной, а порой и раньше меня.
Каждый следующий день неизбежно протекал так же, как предыдущий. Поскольку мать была занята другими детьми и делами, а в мастерской меня встречали как желанного гостя, да и Миме там больше всего нравилось, мы постоянно и торчали в ней. Приход в мастерскую и возвращение домой через темную комнату внушили мне смутное понятие о времени, я понял, что время течет и ты зависишь от него; длинные и короткие тени на раскаленной улице заставляли работать фантазию; птицы и кошки на крышах, движение солнца по небу, перемена погоды, собаки и лошади на улицах, созревание плодов на деревьях, увядающие цветы – все это исподволь давало первоначальные понятия о жизни природы! Порой пройдет по улице процессия мужчин и женщин. Впереди человек несет длинную палку с перекладиной наверху. Следом шагает человек в необычной одежде; за ними идут еще несколько и поют; потом четверо несут что-то черное, длинное и узкое, а там уже тащатся остальные. Мне трудно что-нибудь понять, но я читаю на лицах моих девушек, что это, наверно, их «бука», потому что все они стоят, приоткрыв рот, бледные и мрачные, кое-кто даже роняет слезы. Чудные эти взрослые – их «буку» проносят с пением среди бела дня, они же не убегают со смехом от него, как это делали мы с Мимой, а пристально глядят ему вслед и долго остаются угрюмыми! Пускай бы одна Горбунья плакала! Это в порядке вещей, так и нужно ей, этой противной Горбунье, пускай всегда плачет, но почему же не радуются другие, когда уносят их «буку», чтобы где-нибудь бросить, – ведь как раз для этого его и утаскивают с пением! Смешные и непонятные эти взрослые! Говорят мне, будто это называется: «умер, умерла». Что это значит, в толк не возьму, но слово запоминаю, чтобы использовать его для Горбуньи: «умерла Горбунья». Мой словарь обогащается еще одним словом. Впрочем, он и без того слишком перегружен непонятными мне словами! Так идет мое развитие, и я уже начинаю делать выводы. Например, иногда мать или тетка шлепает меня. Это называется «наказанием». Иногда тетка немилосердно колотит младшую швею. И это называется «наказанием». Но, видимо, эту беду может принести и кто-то другой, потому что я вижу, что порой и по утрам девушки приходят заплаканные! Мне объясняют, что существует некто самый сильный, у которого власть наказывать всякого – и стариков и старух, и зовут его «бог»! Иных бог наказывает навеки, например, сделает кого-нибудь горбатым, как он поступил с Марой! И вот мне становится ясно, что именно бог и есть настоящий «бука» и что Мара перед ним в чем-то сильно провинилась. И еще я понимаю, что люди вправе ненавидеть и мучить уродов! Может быть, мне и объясняли, за что бог наказал Мару, этого уж не помню, однако своей детской логикой я пришел к такому заключению: «Боженька – бука!» За это – я отлично помню – меня стали бранить и уверять, что боженька добрый, он даже награждает, особенно послушных детей, в чем я убедился на николин день утром, найдя подле себя пару новых ботиночек, которые боженька мне послал в награду за примерное поведение! Но в конце концов, имея постоянно перед глазами Горбунью Мару, часто видя хромых, слепых, больных, изможденных стариков, искалеченных детей и зная, что все это «божья кара», я стал думать, что бог в самом деле добр к здоровым, чистым, сытым, богатым, но одновременно бука для всех прочих!
Как видите, в сущности, я имел уже понятие о буржуазном боге, понятие, которое позже, слегка приукрашенное, станет руководящим началом в жизни.
Наступила зима. Я судил об этом по тому, что боженькины ботинки были теплыми, Мима ходила обутая, мы старательно закутывались и одевались перед уходом в мастерскую, а в большой теткиной кладовой рано становилось темно и холодно!
Но кроме всего прочего, – и это было самое главное, – в ту зиму я в первый раз услыхал и удержал в памяти таинственное слово: Божич! В основном я осознал и его значение, поскольку оно связывалось с осуществлением моих детских желаний; я понял, что Божич – это вечер, когда в мастерской будет много тепла, много света, много игрушек и сладостей! По этому случаю я выпалил остальные известные мне два-три десятка слов, непрестанно повторяя «Божич! Хорошо! Бомбошка! Зузу! Зин!» Мима старалась расширить и дополнить мое понимание нового слова, помогали ей и остальные, и постепенно в моей голове сложилось примерно такое представление: «В мастерской, под золотым деревом, появится младенец, белый и румяный, в шелковой рубашечке, с золотой короной на голове. Это «боженькин сын», а зовут его «Божичем». Ребеночек не станет плакать, а будет спать. Ты его поцелуй, а тебе за это позволят взять все чудесные вещи, которые будут около него! Его мамы и Мимы возле него не будет!»
Разумеется, я заранее полюбил этого наивного младенца, которого так легко ограбить за поцелуй! Больше всего я полюбил его именно за наивность да еще за твердую надежду, что я и в дальнейшем смогу его обирать и выуживать у него все, что мне заблагорассудится. Надежды мои всячески поддерживались. Меня учили: «Ты только кланяйся да целуй, и Божич непременно исполнит твое желание!» Не таково ли, по сути, всеобщее представление о Христе?
Итак, настал и этот страстно желаемый вечер! Все произошло так, как мне обещали; мало того, вечер превзошел все мои ожидания! Первый сочельник настолько жив в моей памяти, что я могу описать его со всеми подробностями! Но после огромной радости случилось нечто непредвиденное и ужасное.
Горбунья Мара (видимо, растроганная праздником) выскочила как из засады, схватила меня и дерзнула поцеловать!
Подумайте только! Горбунья Мара чмокнула меня в щеку так крепко, как это делали Мима, мама и красивые девушки!
Можете себе представить мой визг, негодование матери, тетки, Мимы и всех моих придворных дам! И на этот раз не в шутку, а самым серьезным образом опустилась оплеуха на противное, рябое лицо Мары, и несчастная не в шутку, а взаправду залилась слезами и выбежала из мастерской, сопровождаемая градом брани!
Я успокоился, когда меня уверили, что Горбунья «умерла» и что ее унес большой Бука.
– Вот вам мои воспоминания о первом рождестве, – закончил Банкир.
– И это святочный рассказ! – промолвила хозяйка, и мы не поняли, был ли это вопрос или возглас недоумения.
– Однако рассказ не для детей, – заметил кто-то.
– И он не без морали, – бросил еще кто-то.
Банкир пожал плечами и сказал:
– Я ничего не приукрасил. Даю вам честное слово, все это правда!
– Дорогой мой, – подытожил я, – этот святочный рассказ я запишу. Ты не знаешь, какую заботу ты снял с моих плеч. Думаю, лучшие рассказы те, которые писатели «хватают на лету».
Банкир еще раз пожал плечами и заключил:
– Как хочешь, только добавь: «Рассказ человека, который не пишет рассказов».
1906








