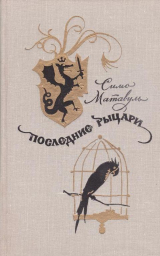
Текст книги "Последние рыцари"
Автор книги: Симо Матавуль
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц)
ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ
I
В центре города Х. – улица святого Франциска, это два ряда опустевших дворянских особняков, и среди них самый знаменитый – замок аристократов М-вичей: беспорядочное нагромождение разнокалиберных построек, возведенных в разное время.
С улицы прежде всего бросается в глаза высеченный в потемневшей стене над высокими воротами герб – дракон с короной на голове стоит на задних лапах, высунув язычище, и держит меч в передней лапе. Слева и справа высятся строения. Правое крыло – настоящий дворец, весь из тесаного камня, в два этажа, со стрельчатыми окнами. Левое – некогда крепостная башня; позже бойницы были расширены, превращены в квадратные неодинаковой величины окна, но и по сей день на три копья от земли в башне нет никаких отверстий. Оба крыла связаны двумя крепостными стенами; то, что в глубине, превратилось в приземистое помещение для слуг, стена же, обращенная к улице, служит обычной дворовой оградой и с давних пор хранит на своей груди упомянутого страшного дракона – рыцарский герб М-вичей, привезенный в XII веке, когда те бежали из Боснии в Приморье.
Еще несколько лет тому назад каждый день на заре, когда колокола звонили благовест, железные ставни двух окон первого этажа распахивались, и оттуда высовывалась голова. Была она довольно большая, с пухлыми щеками, карими глазами, прямым носом, подстриженными седеющими усами и в капе на затылке. Сидела эта голова на крепкой шее, шея – на нескладном туловище, туловище на коротких ногах. На мужчине была напялена крестьянская приморская одежда. С первого же взгляда становилось ясно, что это старый слуга, из тех, которые считаются скорее членами семьи, чем слугами, и которые говорят: «мы», «наш дом», «наша усадьба», – иной раз могут прикрикнуть на хозяина, а его детям влепить и затрещину. Вдохнув свежего воздуха, стриженый человечек сворачивал тюфяк, на котором спал, и исчезал с ним в дверях. Теперь с улицы взору открывалась довольно просторная комната. На стене, против окна, в серебряной лампаде перед распятым Иисусом мерцал огонек. Одесную нашего господа улыбалось добродушное лицо Пия IX, ошуюю – императора Франца-Иосифа. Под ними стоял старинный диван; перед диваном – большой письменный стол, зеленое сукно которого было усеяно чернильными пятнами; вокруг деревянные скамьи, над ними высокие полки, битком набитые кипами бумаг; в одном углу железный сундук о трех замках, над ним коллекция старинного оружия: дамасское ружье, два меча и пара пистолетов с длинными позолоченными рукоятьями; по бокам полотнища с изображением святых Франциска и Доминика.
Спустя примерно четверть часа слуга затворял окна и, отперев тяжелые дворовые ворота, выходил с зажженным фонарем на улицу. Светлело ли на улице, как, скажем, летом, перед восходом солнца, нет ли, но слуга неизменно держал в руке зажженный фонарь; покашливая, зевая и потягиваясь, он разгонял собак и кошек, забредших на эту тесную улицу и, перекидывался словами с проходившими бездельниками.
Продолжалось это иногда долго, иногда недолго, во всяком случае до тех пор, пока во втором этаже не распахивалось окно и оттуда не показывалась обмотанная белым голова.
– И-хан! – кричала голова, выговаривая имя по слогам.
– Я здесь, синьор! – отзывался слуга, снимая капу.
Имя «И-хан» не наше, во всем Приморье – поверьте! – нет другого человека с таким именем. Откуда оно произошло и почему пристало к толстяку, нам, к сожалению, несмотря на тщательные изыскания, так и не удалось установить.
Заслышав тяжелые шаги хозяина, спускавшегося за стеной по каменной лестнице, И-хан снова снимал капу. Вскоре на пороге появлялся огромный человек в черном, наглухо застегнутом сюртуке, в высокой шляпе и с увесистой палкой в руке. Ему было, видимо, за пятьдесят. Перекрестившись, господин начинал шевелить отвислыми губами, не двигаясь с места как раз столько, сколько нужно, чтобы его хорошенько рассмотреть; у него широкое, скуластое лицо, орлиный нос, голубые глаза навыкате, густые сросшиеся брови. Если представить себе его с усами, нахлобучить на голову шлем вместо итальянской шляпы, вместо мягкого черного сюртука надеть тяжелую кольчугу, вложить в правую руку длинное копье, к левому бедру пристегнуть меч, натянуть кольчужные наколенники, а вместо ботинок обуть в желтые сапоги – то вот тебе вылитый портрет одного из его предков, живших во времена бана Кулина в гордой Боснии. Казалось, рыцарь сошел с висящего в зале портрета в золоченой раме и сейчас отправится к бану на вече или, может статься, на кровавый бой и перед тем на пороге своего дома вручает себя господу богу… Хочешь другой портрет? Надень на него соболью шапку, накинь зеленый доломан с золотой бахромой, опояшь злой дамасской саблей, повесь на плечо тонкую латинку-скорострелку, посади на бешеного гнедого – и вот тебе сотоварищ Смилянича, Янковича, Мочивуне, Накича, Шупуковича и прочих наших славных военачальников-сердаров, которые не раз гоняли по Которам Османа Танковича, Талу Будалина, Удбинянов и прочих пограничных налетчиков, – настолько он похож на своих предков из средневековья! Однако сейчас, в половине XIX столетия, в немецкой одежде и в котелке, он просто синьор Илия М-вич, девятый Илия в роду и предпоследний отпрыск «старого доброго корня», как обычно говорится в древних сказаниях. И в силу того, что он часто похвалялся восемью тезками своего «древа», его за глаза называли «Девятый» или «Девятый в плуге».
– Пойдем, И-хан! – говорил обычно граф.
Старый слуга торопливо направлялся к одним воротам, останавливался подле них и дергал за веревку; через мгновение в воротах появлялся другой слуга с фонарем, а за ним выплывала его госпожа, маленькая, сгорбленная, с необычайно длинным лицом.
– Доброе утро, графиня! – приветствовал ее Девятый.
– Доброе утро, граф! – отвечала старуха, и процессия двигалась дальше.
Часто вспоминали они прежние счастливые времена, когда не менее десятка друзей их круга участвовали в этом утреннем шествии, а вот сейчас список поубавился – осталось только два имени, и только два светильника оповещали о шествии господ к ранней мессе!
К ним присоединялись две-три старухи мещанки, какой-нибудь чиновник на пенсии да старые служанки.
Граф с благоговением отстаивал малую мессу в древнем монастыре, где покоился прах по меньшей мере пятидесяти его предков, где находились их дары: алтари, образа и драгоценная утварь.
После службы возвращались в том же порядке. И-хан снова отворял окна первого этажа. Девятый, напившись кофе, выходил на улицу и размеренным шагом прохаживался вдоль дворца взад и вперед.
Школьники, женщины-водоносы, грузчики, пожилые крестьяне с окраин, проходя мимо, держались другой стороны улицы, и большинство их кланялось Девятому. А то набредет старый священник или чиновник, и редко кто не остановится, чтобы справиться о здоровье и предложить табачку. Бывало, правда, и иначе. Промчится по улице шалый крестьянский парень, да нарочно и заденет плечом старика. А другой, подгоняя нагруженного осла хлыстом, крикнет: «Пошел! Ишь разленился, как Девятый в плуге! Пошел, пошел!» Девятый не отличался покладистостью и за словом в карман не лез, а тотчас поминал мать и отца бесстыдника, а бесстыдник теми же словами поминал его предков до самого бана Кулина.
Подобные казусы происходили не часто, но и без них каждое божье утро приносило графу нечто раздражавшее его гораздо больше грубости простаков. Вот как будто на улице нет ни живой души, а граф вдруг останавливается и, сердито бормоча себе под нос, стучит палкой по мостовой. В чем дело? Оказывается, там, внизу, в конце улицы, в густых клубах дыма замаячила фигура высокого господина, молодецким шагом приближающегося к дворцу. Невольно дивишься его юношеской живости, но, приглядевшись ближе, убеждаешься, что долговязый мужчина – ровесник графа. Рыжие усы, без единого седого волоска, очень красят его мужественное лицо; впрочем, морщинки у рта и на лбу и тронутая сединой голова выдают его возраст. Взгляд у него уверенный и в то же время говорящий о том, что ему ни до чего нет дела. Это граф Славо Д., тоже «отпрыск доброго корня», не менее знатный, чем М-вичи. Славо, офицер его величества, тяжело раненный во время Венгерского восстания сорок восьмого года, был вынужден уйти в отставку. Жил он на солидный доход с имения и на пенсию. Единственные его родственники, две древние тетки, проживали вместе с ним в старинном дворце. Славо только обедал, ужинал да ночевал под кровом своего дома, а остальное время либо проводил в кафане, либо разгуливал по городу, не вынимая изо рта сигары. В церковь ходил по воскресеньям да по большим праздникам. Был он смелым, искренним, честным, сердечным, грубоватым и заносчивым, но всеми уважаемым человеком.
По мере того как Славо приближался, орлиные глаза Девятого грозно выкатывались, словно граф готовился его растерзать, но солдат спокойно проходил мимо, презрительно поджав губы. Взгляд Девятого, казалось, говорил: «Почему не кланяешься, бродяга?» А ответ, видимо, был таков: «Тоже еще аристократ нашелся! Тьфу!» И повторялось это каждое утро, если не шел дождь, вот уже в продолжение лет десяти. Вернувшись с войны, Славо относился к своему другу детства совсем иначе, однако спустя некоторое время он стал всячески выказывать М-вичу свое презрение. И причиной тому была не ссора. Перед другими Славо и не хвалил и не чернил Девятого.
Расхаживая взад и вперед, Девятый поглядывал на часы и всматривался в конец улицы, откуда появлялся Славо, пока наконец не замечал одного, двоих, троих или целую группу островитян; тогда Девятый отправлялся в комнату на первом этаже, усаживался на диван, надевал черную капу и принимался перебирать четки.
Разве могут островитяне пройти мимо старинного дворца М-вича? Улица святого Франциска единственный к нему путь, и совершают они его не только во время сбора винограда и не только для того, чтобы доложить господину об урожае. Высадившись на берег, мужчины и женщины с различных островов постоят на берегу и, прежде чем разойтись, окинут друг друга опасливыми и настороженными взглядами. Кое-кто отправляется по своим делам, но большинство медленно и молча идут к улице святого Франциска. Кроме отрывочных вопросов да ответов, не слышно никаких разговоров.
Однако стоит поглядеть на круглые, добродушные лица наших островитян, когда они наконец приблизятся к дворцу! Надежда, страх, затаенная ненависть, даже отчаяние – все это разом пробивается наружу. Вскоре сквозь открытое окно можно услышать такие разговоры:
– Синьор граф! За мною двести долга, проценты я внес в прошлом году, а у вас получается, будто долг вырос! Скажите, ради бога, как мог он вырасти?
– Слушай, ты! – зычным голосом отвечает Девятый. Граф почти всегда начинает разговор с этого: «Слушай, ты». – Ежели думаешь, что я тебя обсчитал, ступай-ка, брат, в суд… Нет, нет, нет, нет! И слушать не хочу, ступай в суд… Но даю слово: ты у меня попляшешь! Ни одного дня не стану ждать!..
– Клянусь Иисусом, нечем мне сейчас заплатить процент, – уверяет другой. – Нечем, хоть режьте! Но молю вас, как молит сей распятый, подождите, пока пришлет сын…
– Молчи, скотина! – гремит граф. – Разве люди могут молить, как Иисус? Прости, господи! – Он поднимается, снимает капу и истово крестится.
– Прошу вас, как бога, потерпите, пока сын пришлет денег из Омерики.
– Слушай, ты, хоть ноги здесь протяни, все равно не поверю, ты уже дважды обманул меня с этим своим сыном «из Омерики». Убирайся!
– Что же со мной, несчастной, убогой вдовой, будет, ежели ты не смилуешься, – причитает женщина.
– А при чем тут я, моя дорогая? По одежке протягивай ножки. Жаль мне тебя, но ничем не могу помочь…
– Как не можешь, ваша светлость, ведь…
– Образумься, женщина, я не в силах тебе помочь, бумаги ушли своим путем. Сейчас я не властен приказать суду остановить конфискацию имущества. Ступай, добрая женщина, ступай! Порой слышались и такие речи:
– Клянусь святым Франциском, твоим патроном, я дошел до… до… до… Эх! Бессердечный ты человек!..
Другой:
– Покончу с собой, поверьте, граф, утоплюсь; не жаль меня, смилуйтесь хоть над моими сиротами!
Третий:
– Клянусь всеми святыми, какие есть на небе, возьму адвоката, найду дорогу к губернатору, к министру, к королю, к самому дьяволу в пекло, разорюсь дотла, но не будет по-твоему!..
Но Девятый хорошо знал свой народ; знал, что бояться ему нечего, и потому на все угрозы лишь пожимал плечами и особо дерзких выгонял.
Только однажды доставил ему много волнений один крестьянин, у которого тоже чудесным образом вырос долг. После тщетных просьб крестьянин вытащил нож, и, не перехвати И-хан его руку, крестьянин всадил бы его в Девятого. С тех пор граф не ссужал больше денег горячим приморцам и кровопийцам-влахам, а отравлял жизнь островитянам.
Иной раз должников собиралось столько, что они не вмещались в комнате, тогда И-хан впускал их по очереди. В таких случаях Девятому помогал некий писарек, вечно шнырявший возле дворца, а И-хан, открыв железный сундук, прятал в него более крупные векселя и вынимал деньги.
Вот в какого зверя превратился рыцарь времен бана Кулина и сердар плеяды Янковича!
И вот почему дворянин Славо Д. до глубины души презирал дворянина Илу Девятого М-вича.
II
В год падения дожа и завоевания Приморья французами, которые ввели новые законы{26}, дающие народу большие права, началось переселение бездомного люда в приморские города.
Шли отовсюду и в самых разнообразных национальных одеждах; шли с боснийской и хорватской границ, с гор, из глухих углов, одни – в шерстяных штанах-пеленгачах и черных обшитых золотом тюрбанах, другие – в полотняных портах-беневреках, с распахнутой грудью, все больше молодые и решительные парни. Кто нанялся в полицию, кто – в услужение, но большинство перебивалось со дня на день, занимаясь контрабандой и воровством.
В их числе прибыл в город Х. некий Тодор Булин, рыжеволосый, веснушчатый парень с коротким туловищем и длинными ногами. Судя по одежде, был он, видимо, из Врлики; впрочем, один господь ведает, откуда он родом, чем занимался в прошлом и как его настоящее имя.
Тодор подрядился к священнику из пригорода и чем-то понравился ему. Священник задумал его сосватать и через год женил на одной вдове. Прозывалась эта счастливица Икой. Был у нее домик с порядочным огородом, где она разводила овощи, которые потом продавала на базаре. Примак Тодор – шутки ради его звали Тодор Икин – по-прежнему прислуживал священнику. Так прошло еще около года, и вдруг однажды зимней ночью в дом священника ворвались грабители, ранили его и начисто обобрали.
Долгое время не могли напасть на след грабителей. Наконец одного из них поймали. Он признался, что их вожаком был Тодор. Тодор угодил в тюрьму и спустя десять лет вышел из нее здоровым и раскормленным, словно из монастыря. Вернувшись домой, он стал работать в собственном огороде и у состоятельных крестьян. А на досуге рыскал по окрестностям и крал скот, пока однажды его не нашли мертвым около чужого хлева; пуля размозжила ему голову.
Осталась Ика одна с тремя сыновьями. Старший, Илия, уродился в отца – сущий бродяга. Двое младших, Яков и Периша, были славные парни, старательные и бережливые, а от Илии только зло и видели. Так оно и шло, а Ика все старела и старела. Яков с Перишей рылись в земле, как кроты, вели себя, как красные девицы, лелеяли мать, а Илия шлялся по улицам, таскал все из дому, заводил ссоры и пил.
Старики отродясь не знавали такого чудища, а крестьянские парни считали величайшей обидой, если кто-нибудь говорил:
– Илия Булин, вот ты кто!
Периша и Яков избегали своих сверстников, боясь, что те станут попрекать их братом. Труднее всего приходилось им по праздникам, когда по всему предместью звучали песни, когда их друзья толпами ходили по улицам, где собирались девушки, а они двое, точно прокаженные, умирали от скуки дома. Потому что хоть парни они и статные, но какая девушка на них посмотрит? Тотчас достанется от подруг этой «снохе Илии Булина».
В конце концов Периша и Яков выгнали Илию из дому.
Пристроился он помощником к одному веревочному мастеру – работа простая, верти себе большое колесо, и только. Продержался он целую неделю, потом нанялся живодером на бойню, затем побывал рыбаком, носильщиком, и так далее, чередуя частенько работу с отдыхом в кутузке, пока однажды не свалился на улице смертельно больной.
Тогда братья ночью перенесли его в дом.
Ика сначала убивалась над бредящим в жару сыном, а потом принялась себя утешать.
– Зло в нем от рождения, весь род у них такой! Вы, слава богу, в дядю уродились! Но, может, он исправится, если выживет.
– Дай-то боже! – сказали братья.
– Да, да, случается такое… Помните покойного Вуяна? Не правда ли, хороший был человек? А в молодости вел себя ничуть не лучше нашего Илии. Был единственным сыном, и все-таки терпение матери лопнуло, и она босиком пошла к врхпольской богородице и обратилась к ней с такими словами: «Пресвятая дева, либо сделай так, чтобы он исправился, либо возьми его к себе!» Вернулась, бедняжка, домой и застала Вуяна смертельно раненным: сосед в драке пырнул его ножом в пах. Но Вуян неожиданно выздоровел, сделался кротким, как ягненок, обзавелся хозяйством, женился – словом, стал человеком.
– Так вот, – продолжала она после долгого молчания, – и я, грешная, решилась дать обет, как Вуянова мать, вот оно и отзывается! Тяжко матери, коль дело до того доходит!
Братья заплакали.
Крепкий организм Илии справился с болезнью. Во время своего медленного выздоровления Илия получал то и дело гостинцы, которые покупались на заработанные тяжким трудом деньги братьев. Такое внимание растрогало Илию, и, когда силы к нему вернулись, он начал работать вместе с братьями, срываясь лишь время от времени…
Как-то в воскресенье, когда Ика была в доме одна, вдруг вбежал запыхавшийся Илия и запер за собой дверь.
– Что такое? – едва успела спросить старуха, как в дверь забарабанили камни.
Снаружи поднялся галдеж:
– Отворяй!.. Подавай нам его сюда, не то весь дом разнесем! – горланила толпа, непрестанно швыряя камнями.
– Не надо, братья, ради бога! – принялась просить старуха и, чтобы задобрить людей, отворила дверь. В тот же миг камень попал ей в грудь, и она упала как подкошенная.
Люди, испуганные невольно причиненным злом, разбежались.
Ика умерла на другой день.
Стражники схватили Илию.
Десять дней спустя разнесся слух, что община отдает трех человек в солдаты.
В то время в Далмации не существовало воинской повинности, однако общины насильно сдавали в солдаты непутевых людей.
На берегу собралось множество народу посмотреть, как Илию и двух его друзей под конвоем будут сажать на пароход.
Каждый пожелал им: «Скатертью дорожка!»
III
Поздним утром из графского дворца выходила маленькая полная женщина в шелковом платке, завязанном крест-накрест на груди, и с множеством золотых колец на пальцах, с тарелкой супа в одной руке и блюдцем с ломтиками лимона и померанца в другой. Женщина неторопливо входила в контору и, слегка поклонившись, ставила суп перед Девятым.
– Доброе утро, синьора Гарофола! – приветствовали ее островитяне. – Как почивали? В добром ли здравии?
– Здравствуйте, люди! – отвечала она землякам и шла с блюдцем обратно. – Пойдем, И-хан, молодой граф уже наверху.
И-хан направлялся за ней.
– Пи-пи-пи! Мой Попка! – звала Гарофола, с трудом поднимаясь по лестнице, которую почти целиком занимала своим широким задом. – Пи-пи-пи, мой Попочка! Он еще спит! Легче, легче, молодой граф, не будите его сразу!
Лет тридцать тому назад синьора Гарофола появилась во дворце в качестве кормилицы, потом стала прислугой, потом домоправительницей и в качестве таковой командовала даже И-ханом. Ходила молва, будто она украдкой поддерживала и пристраивала найденышей, которых горожане величали графами и графинями.
Покончив с супом, старый граф выходил во двор, за ним следовали писарь и крестьяне; граф поднимал голову к окнам бывшей крепостной башни, то же проделывали и остальные. И-хан и Гарофола тем временем распахивали окна и выносили на солнышко множество клеток с птицами, двух сычей на жердях, филинов, кречетов, горлиц и орленка; все это пернатое племя поднимало такой щебет, воркотню, крик и клекот, что могло оглушить и глухого.
И-хан торопливо сыпал просо, наливал воду и чистил клетки узников, а Гарофола только ласково разговаривала с ними, по-прежнему не выпуская из рук блюдце с ломтиками лимона и померанца.
Наконец распахивалось крайнее окно, и показывался высокий мужчина, лет тридцати, худой как щепка, лысый, беззубый, с красными, будто нарумяненными, щеками, рыжими щетинистыми усами и маленькими синими глазами.
– Доброе утро, молодой граф! – кричали островитяне.
– Доброе утро! – здоровался писарь.
– Доброе утро, папа! – приветствовал отца единственный сын и наследник графа Илы Девятого, граф Ила Десятый, и выносил старого облезшего попугая.
Вскоре в окне появлялась и Гарофола, и они вдвоем принимались промывать гноящиеся глаза птицы и смазывать ракией уцелевшие перья. Девятый не сводил с них глаз и наконец кричал:
– Бон джорно, Попка, бон джорно![28]28
добрый день! (итал.)
[Закрыть]
– Ответь папе! – уговаривал попугая Десятый.
– Поздоровайся, мой Попочка! – подхватывала Гарофола, и оба почесывали Попочку, а он потряхивал лысой головкой, словно силясь вспомнить, как полагается ответить на приветствие, и наконец орал: «Бон орно раф!»
Все довольны. А если старый граф бывал в добром настроении, он первым принимался рассказывать, каким умницей был Попочка в молодости. Вслед за старым графом то же повторяли Десятый, И-хан и Гарофола, которая часто твердила:
– Я вам говорю: это грех, прости господи, что он остался некрещеным; в молодости ума в нем было больше, чем у многих крещеных.
– Охотно верю, синьора Гарофола, – отзовется какой-нибудь хитрец, чтобы расположить в свою пользу влиятельную прислугу. – Почему бы не поверить! Ведь до чего же крохотная господская птица, а на нескольких языках говорит, и по-нашему, и по-итальянски, и по-немецки, а наши дети и в пять лет не знают столько слов на родном!
Если Девятый, сцепив руки, принимался вертеть большими пальцами, это означало, что он вспомнил о какой-то важной поправке, которую необходимо внести в заключенную недавно сделку, а так как без слуги в контору он не ходил, то, прежде чем отправиться, кричал:
– Пойдем, И-хан!
В ожидании слуги Девятый нетерпеливо расхаживал взад и вперед и наконец взрывался:
– И-хан! Ила! Корпо дела воштра мадонна! Господи прости! Слышишь, ты, осел, чего застрял, говорят тебе, есть дело!
– Будто я виноват, синьор! Думаете, мне очень приятно кормить этих птиц!
– Довольно! – кричал Девятый, стягивая пальцами кожу на лбу и собираясь с мыслями, чтобы выжать из себя какую-то фразу. Однако случались дни, когда эту святую тишину нарушал Попка. Насытившись и согревшись на солнышке, старый болтун начинал выкрикивать подряд все, что сохранила его память:
– Адиооо! Мала били мала. Ро-та, шагом марш! Раз! Два!
Тогда Девятый в бешенстве орал:
– Илия! Корпо дела!.. Сверну ему шею, если немедленно его не уберешь!
И-хан вероломно ухмылялся: ему доставляло большое удовольствие, когда хозяин сердился на попугая. Однако, если вслед за тем хозяин, диктуя, случайно пропускал какое-нибудь важное условие, И-хан, все еще обиженный, сурово напоминал о нем. Тогда Девятый поднимался, хватал И-хана за пуговицу жилета и милостиво хлопал его по плечу. Мир бывал снова восстановлен.
Прежде чем они кончали с делами, Десятый спускался вниз и, став столбом на пороге, пугливо таращил маленькие глазки.
– Папа, я пойду пройдусь!
Без такого доклада он уходить не смел.
Если отец в настроении, он ненадолго задержит сына – всегда на пороге, – пожалуется на тяжелые времена, на злостных неплательщиков, на свое мягкосердечие, из-за которого он в конце концов разорится. Если же он не в настроении, он лишь кивнет головой, но непременно при этом скажет:
– Слушай, ты, не смей только с тем встречаться!
– Бо-бо-же сохрани! Отец! Ни-ни-ни-ни, ей-бо-бо-гу! – покраснев по самые уши и заикаясь, выпалит Десятый. Заикался он при малейшем волнении, а краснел потому, что лгал, ибо с «тем», с графом Славо, он охотнее всего проводил время в кафане.
Десятый торопливо загребал своими длинными ногами, потряхивая при этом головой, ни дать ни взять прыгающая птица.
Улица на перекрестке упиралась в аптеку «У спасителя».
В этой аптеке вечно торчало пять-шесть досужих господ. Чаще всего это были толстый каноник из дворян, старый богатый доктор, скоробогач, воображавший, что не может прожить дня без лекарства, и некий шутник, о котором не знали, на какие средства он живет, но знали, что живет хорошо.
Десятый являлся в самую пору. Поджидали его всегда с нетерпением. Вздумай он пройти мимо, кто-нибудь обязательно остановил бы его.
Встречали его так, словно не виделись бог знает сколько времени.
– О каро, кариссимо мио![29]29
О дорогой, дражайший мой! (итал.)
[Закрыть] – тянул сквозь нос каноник.
– Да где же ты пропадаешь, дружище, а? Опять заболел? – спрашивал доктор.
– А ты знаешь, что случилось? – обращался с вопросом шутник.
– H…н… нет. А что, что? – торопил его Десятый.
– Как что, братец? Только послушай! – И он принимался плести всякие небылицы, чтобы его напугать, к примеру: по городу бродит бешеная собака; бежал из тюрьмы страшный разбойник, которого должны были приговорить к повешению; крестьяне взбунтовались против господ из-за поборов, и так далее.
Десятый бледнел, обливался потом, ни на миг не сомневаясь, что все это – сущая правда, хотя подобными баснями друзья потчевали его чуть не каждое утро. Натешившись, они отпускали его, и он крался по улице дальше, обходя встречных собак и вооруженных людей. Но прежде чем попасть наконец в Большую кафану, ему предстояло еще снести издевки и остроты юнцов всех сословий – уличных бездельников, приказчиков и мастеровых и, что больше всего его раздражало, – бесстыжие подмигивания молодых простолюдинок.
В будни молодой граф заставал здесь нескольких сидевших в сторонке офицеров, двух-трех отставных чиновников и среди них Славо Д. Десятый весьма вежливо здоровался со всеми, а особенно со Славо, который молча протягивал ему два пальца правой руки, поднимался и подходил к бильярду.
Десятый был прекрасный игрок. Кроме Славо, в городе ему не было равных, но каждый мог у него выиграть, сбив его с панталыку, сказав, например: «Этот удар не в счет, вы скиксовали!» Или: «Откуда у вас пятнадцать? Всего двенадцать, сударь!» И этого было достаточно, чтобы Десятый проиграл. Славо никогда так не делал; мало того, он не разрешал и другим его дразнить.
Перед обедом выходил на улицу и старый ростовщик в сопровождении своих должников и направлялся к монастырю. И-хан затворял окна и принимался разгуливать перед дворцом. Девятый, попрощавшись с островитянами, брал под руку своего старого друга, настоятеля фра Винценто – толстого итальянца, которого народ прозвал «фра Бочонком». Они, то и дело останавливаясь и споря на ходу, шли сначала по берегу, потом вокруг собора к рынку, где находилась Большая кафана и где к ним присоединялся Десятый. Оттуда они втроем поднимались по длинной улице, которая вела к уже упомянутой аптеке. Эта прогулка продолжалась добрый час. Процентщик шарил глазами по сторонам в надежде увидеть должника, которому следует напомнить о платеже, и в то же время внимательно слушал слова ученого друга о том, что сказал по тому или иному поводу святой Августин, Фома Аквинский или какой-нибудь знаменитый светский мудрец.
И-хан подходил к настоятелю, прикладывался к его руке, потом входил за господами во двор и запирал ворота на засов.
Каменные ступени вели в высокую галерею с деревянным потолком и полом, выложенным из мелких разноцветных камней, гладким и ровным, словно цельный кусок мрамора. Вдоль галереи шли пять двустворчатых высоких дверей черного дерева с великолепной резьбой. Средние вели в просторный зал с таким же полом и потолком, как в галерее; по стенам стояли огромные венецианские зеркала, висели в золотых рамах портреты предков М-вичей и провидуров. Вокруг расставлены были удобные стулья, обтянутые зеленым шелком. Из зала через двери поменьше можно было пройти в четыре комнаты, тоже заставленные роскошной старинной мебелью.
В конце галереи была лестница, ведущая на второй этаж, куда сейчас все трое и направлялись. Наверху расположение такое же, только вместо зала – столовая, да комнат больше, и они потеснее. Гарофола, накрыв широкий стол на четыре персоны, развлекалась с Попочкой, которого неизменно приносили из башни к обеду и к ужину. Девятый усаживался во главе стола, Десятый справа, напротив Гарофолы, а чуть подальше в сторонке И-хан. Старая, испитая кухарка с сизым носом, одетая наполовину по-крестьянски, наполовину по-городски, вносила суп. На обратном пути и она не могла не кинуть ласковое слово обожаемой птице.
Покуда они едят, послушайте, что нее, собственно, запомнил наш славный Попка.
Попугай являлся после Девятого старейшим обитателем дворца М-вичей. Помнил он единственного наследника, графа Илу Девятого, легкомысленным и богатым юношей еще при французах, когда были отменены дворянские привилегии. Попка помнил и свадьбу Девятого, помнил, как его кормила из собственных рук графиня Матильда, дочь знатных Д-чей, взбалмошная красавица аристократка. Попочка был свидетелем их первой любви, а в дальнейшем ненависти. Только один Попочка знал наверняка, правда ли то, о чем шептались в городе… Некий молодой полковник был частым, хоть и незваным гостем в замке. Наконец однажды на заре до Попочки донесся из большой спальной комнаты, что на втором этаже, писк маленького Десятого, а к вечеру того же дня испустила дух Матильда. Таким образом, не суждено было ни матери растить ребенка, ни полковнику стать его крестным отцом, как было условлено.
Попочка оказался великим утешением для маленького графа, которого кормили больше лекарствами, чем грудью Гарофолы.
Но вот Десятый достиг того возраста, когда дети идут в начальную школу, и отец нанял ему мэтра Луйо – отставного учителя. Но с болезненным барчуком Луйо мучился больше, чем некогда с пятью-шестью десятками бойких крестьянских ребятишек. С ними он хоть и возился целые дни, зато был для них царь и бог: одного поставит на колени на гравий, другого заставит стоять на одной ноге, третьего – вытянувшись в струнку, тому всыплет по задней части, этому отобьет ладони линейкой, а частенько схватит учебник закона божьего и давай молотить им направо и налево по головам да по спинам! Так справлялся он двадцать лет с оравой дьяволят, а сейчас перед одним… стал меньше макового зернышка! Теперь Луйо сюсюкает со своим учеником якобы от чрезмерной любви. И только когда знатный ученик совсем отобьется от рук, – скажем, воткнет учителю в бок иглу, – только тогда Луйо вскочит и… нюхнув табаку в два раза больше обычного, серьезно заметит:








