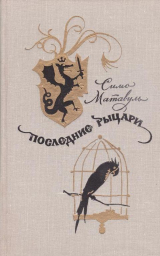
Текст книги "Последние рыцари"
Автор книги: Симо Матавуль
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 29 страниц)
– А он рад книге?
– Ах, без конца ее перелистывает, только о ней и говорит… всем уже надоел. Вас спросить хочет: может ли жираф унести человека, если тот повиснет у него на шее? Сколько человек может поместиться на слоне? Правда ли, что страус бегает быстрей лошади? И… бог знает еще что!
Они вышли на веранду.
Эмил сидел на том же месте и в той же позе, как и в первый раз, только на столике поверх карты лежала раскрытая «Зоология». Вначале он смущался, но, когда новый покровитель принялся рассказывать всевозможные фантастические истории о зверях, о необыкновенных приключениях храбрых охотников, мальчик осмелел и стал перебивать его бесконечными восклицаниями и вопросами.
С тех пор Влайко всегда задерживался возле мальчика и даже заходил к нему в комнату.
– Ну, как, Эмил? Слушается тебя этот разбойник Никодий? – С этого обычно начинался разговор.
Можете представить себе восторг Никодия и его преданность Влайко! В самом деле, никогда ни один властелин не имел такого преданного придворного!
Влайко приносил Эмилу конфеты, фрукты, картинки, карандаши, разные игрушки, но с матерью и бабкой здоровался, и только.
Влайко так привязался к больному ребенку и к честному старосербиянину, что, хоть и недоволен был жильем, менять его уже и в голову ему не приходило.
Сидит, бывало, чудак Влайко зимними мрачными вечерами в кафане и умирает от скуки. Сыграть, что ли, в шахматы, в карты, в домино? Почитать газеты? Поболтать со знакомыми? Нет, сыт по горло! Сидит, пыхтит, потом вдруг вскочит, наденет пальто и поскорее домой. Если Никодия и бабки нет дома, Влайко берет ключ с косяка, входит в темную кухню, поднимает Эмила вместе со стулом и переносит к себе в комнату, поближе к окну.
И пойдет у них, к примеру, такой разговор:
– Скажи, Эмил! Что, если нам сесть вон в ту красивую коляску и поехать далеко-далеко, на край света!
– А где край света, дядя Влайко?
– Ей-богу, далеко!
– А хорошо там, на краю света?
– О-го! Небо румяное и кругом высокие горы и море!
– Тогда нам надо плыть на корабле!
– Конечно!
А то бывал и такой разговор:
– Знаешь что, Эмил, давай-ка я тебя женю!
– А зачем, дядя Влайко?
– Женушка будет с тобой целые дни сидеть у окна и играть!
Эмил, чуть задумавшись, отвечал:
– Но если женушка уйдет, бабка опять меня в кухню запрет!
– Нет! – уверяет Влайко. – Я запретил бы женушке тебя покидать!
– А почему у вас нет жены?
– Э, я сначала тебя женю, а потом уж и сам!
– А у вас никогда не будет жены!
– Ты почем знаешь?
– Никодий сказал! Он мне все говорит!
– А ты веришь! Не надо, дружок! Он ведь глупый.
Эмил залился смехом.
– Вы всё говорите, будто он глупый, а он говорит, что вы самый умный человек в Белграде!
Однажды они сидели втроем на веранде. Перед Эмилом лежала географическая карта – они плыли вдоль восточного берега Адриатического моря на север. Эмил постучал пальцем и сказал:
– Вот Пиран!
– Что Пиран? – спросил Влайко.
– Врач сказал, что лучше всего было бы поехать на курорт в Пиран. Эмил запомнил это и не успокоился до тех пор, пока мы не отыскали город на карте. Поэтому он и нарисовал здесь купающихся детей.
Эмил внимательно слушал Никодия, потом повернулся к Влайко и медленно, взвешивая каждое слово, произнес:
– Врач сказал, что я умру, если не поеду в Пиран.
– Нет, он не так сказал! – крикнул Никодий.
– Так! – повторил Эмил.
– Чепуха! – вмешался Влайко. – Ты выздоровеешь!
– Бабушка говорит, что мне не лучше! И я хочу умереть.
Он произнес это так, как сказал бы: «Я хочу солнца!»
– Почему же тебе хочется умереть? – спросил Влайко.
– Потому что бабушка говорит, что тогда у меня ничего болеть не будет.
– Ах, твоя бабушка, твоя бабушка! – пробормотал Влайко, качая головой и перевел разговор на более веселые темы.
Так Влайко частенько проводил время. Друзья все реже встречались с ним, и, когда расспрашивали о причине его отсутствия, он неизменно отвечал:
– Это моя тайна!
Они представляли себе эту тайну так, как было наиболее вероятно и естественно предположить в его положении.
Но как-то в ненастный весенний день один из приятелей Влайко увидал, как он, меся грязь, шагает с удрученным видом в обществе двух женщин и юноши за гробиком…
И это осталось его тайной!
1897
ПОВАРЕТА
(Из жизни далматинского острова)
Между городом и островом в отблесках жаркого закатного солнца сверкает море. К острову ползет лодка, в ней двое: один гребет, другой сидит на корме. И хотя еще только начало апреля, солнце печет вовсю, и они повернули головы к далеким горам, вершины которых еще кое-где покрыты снегом. Лодка неповоротлива; гребец пожилой, по виду скорей грузчик, нежели моряк; на корме коренастый юноша, полный сил, в форме цесарского матроса. Отчалив от берега, пожилой принялся расспрашивать юношу: кто он, откуда, как долго служил, знает ли того или другого из его друзей, но вскоре умолк, потому что молодой островитянин Юрай Лукешич из Крапана, не являясь исключением среди своих земляков, не был ни разговорчивым, ни склонным к доверчивости. Он сидел и невозмутимо курил, созерцая безмятежные стихии – воду и воздух.
Мало-помалу открывался остров; прежде всего показался лес и среди леса высокая колокольня. Это на одном конце острова, на другом лежало село. Вековой сосновый бор, в чаще которого укрывался монастырь, отличает Крапан от всех остальных островов.
Неожиданно за Крапаном заалел горизонт, заиграли на поверхности дельфины, крупные рыбы большими косяками проносились мимо лодки. Юрай, вздрогнув, вышел из состояния безмятежного покоя и взял у старика правое весло.
Начало смеркаться, когда лодка врезалась носом в песок гавани. И в ту же минуту зазвонили монастырские колокола. Юрай выскочил из лодки и, обнажив голову, застыл, читая молитву. Старик гребец, прежде чем отплыть, тоже снял шапку, приветствуя Пречистую.
Юрай быстрыми шагами направился к улице, которую можно назвать главной, так как в городишке были еще две, ей параллельные, но покороче. По сторонам стояли темные от старости двухэтажные и трехэтажные каменные дома, окна у них небольшие, с зелеными ставнями; редко где не было дворика со стойлом для ослов и целым складом хвороста да трухлявых виноградных лоз для топки. Не будь молодой человек здешним и попади он на этот остров издалека и случайно, его охватил бы ужас – село казалось совершенно вымершим, нигде не видно ни живой души, не слышно человеческого голоса, точно всех чума уморила.
Но Юрай знал, что все его земляки в селах Рожина и Ядртовац, на другом берегу, где находились их поля.
Дом Юрая стоял в конце главной улицы. Подойдя к нему сзади, он неслышно обогнул его и наткнулся на девочку лет семи-восьми, которая стояла на куче лозы, возвышавшейся над дворовой оградой. Когда он появился перед девочкой – точно с неба свалился, – она чуть было не вскрикнула. Но матрос шепнул: «Йойи», – приложил к губам палец и, протянув руки, сказал:
– Ну-ка, прыгай! Хоп!
Девочка спрыгнула ему в объятья. Расцеловав ее, Юрай спросил:
– А ты что тут делаешь на хворосте? А где ма?
– Ма в кухне, – ответила Йойи и, ухватившись за его руку, запрыгала вокруг него. – А ты приехал? А я сверху прыгала, потому что Миш сказал, что побоюсь!
Юрай повел ее во двор со словами:
– Нельзя с такой высоты прыгать! Не девичье это дело! А Миш осел, если тебя подговаривает! Пойдем сейчас тихонько-тихонько, чтобы ма удивить!
– Напугаем ее, да? – шепнула Йойи.
Юрай остановился у дверей комнаты, которая занимала нижний этаж дома. Оба окна были распахнуты настежь; еще не совсем стемнело, и его взгляд смог охватить все; каждая вещь стояла на своем месте, там, где он ее оставил, и едва ли не там же, где она стояла при его предках; полки с кухонной посудой, два больших ореховых ларя, длинный дубовый стол, над ним большое распятие. Взгляд Юрая задержался на фигуре женщины, хлопотавшей у самого очага. Юрай кашлянул, женщина обернулась, на мгновение застыла… и кинулась к сыну. Они вскрикнули разом:
– Э, боже мой, Юрета!
– Ма! Дорогая ма!
Обнявшись, мать и сын заглянули друг другу в глаза – небольшие, синие, ясные, которые на наших островах передаются из поколения в поколение, так же как передаются круглые головы, полные щеки, жизнерадостность, крепкая вера, некоторое тугодумие и ограниченный запас слов… Мать, Луца, казалась старшей сестрой Юреты, старше лет на десять, не больше! У обоих был одинаковый курносый нос, небольшой закругленный подбородок, белые с румянцем щеки.
Посыпались вопросы и ответы, которые начинались с «а», как всегда, когда островитяне бывают взволнованы.
– А как ты, ма?
– А хорошо, Юрета, как ты?
– А хорошо! А па?
– А хорошо и па!
– А Миш?
– А хорошо и Миш!
Тут мать слегка нахмурилась, взяла самый большой трехногий стул со спинкой и подтащила его к огню. Сын уселся и принялся свертывать цигарку, а мать – чистить в корыте рыбешку.
Луца низко склонилась над корытом, и, когда заговорила снова, ее голос прерывался, словно от усталости.
– А писал, что приедешь… еще… дней десять назад.
– А верно! Обманул я вас!..
– А ты ездил вокруг всего света?
– А нет, но далеко, в Америку.
– Видел много стран?
– Много!
– И черных людей?
– И желтых!.. А что, урожай винограда хорош?
– А нет! Град побил! Набрали всего тридцать барилов вина да шесть масла!
После третьей паузы Юрета, понизив голос, спросил:
– А что нового?
Мать не ответила, и он добавил:
– А что Марица?
– А ничего хорошего! – ответила шепотом женщина. Юрета вскочил с криком:
– О владычица ангелов! Что такое?
– А ничего хорошего, ничего, ничего! – твердила женщина, покачивая головой, потом выпрямилась и глубоко вздохнула.
– Ради мук Христа, что с ней? Больна?
– Была!
– Ах… Она… умерла?
– Да!
Юрета упал на стул. Позеленев, он несколько мгновений тупо смотрел на мать, потом еле слышно произнес:
– Это правда, ма?
– Да! – подтвердила она и утерла рукавом глаза.
Юноша долго рыдал, вскрикивая: «Ма, ма!» Наконец он спросил:
– А что было, ради ран Иисуса?
– А чирей! На руке чирей вскочил! Старый Матия повел ее в город к доктору, и тот сразу сказал: «Худо». Потом позвали шептуху, и она тоже сразу сказала: «Худо». Потом Матия по обету пошел босой к Пречистой! И ничего не помогло! Завтра восемь дней, как ее красота да молодость в благословенной земле тлеют.
– Ой!.. А ты, ма, ходила к поварете?[44]44
бедняжке (итал.).
[Закрыть]
– Бог с тобою, несчастное дитя! Кроме меня, никто не знает, что ты избрал ее, а она, поварета, даже и не догадывалась.
– Ой! – вскрикнул Юрета и закрыл лицо руками. – Ой! Поварета моя и не знала, что я ей всю душу отдал, а я в море только о ней и думал. Вчера в городе купил ей кольцо, обручальное, на вот!
Поднявшись, он извлек из кармана коробочку с золотым кольцом и подал матери.
И снова сел, причитая:
– Ой, ма, я умру!
Луца опустила кольцо в глубокий карман своей юбки и сказала:
– Ты что, христианин или нехристь какой? Против бога идешь, что ли? Перестань, сейчас наши придут! Сраму не оберешься, ежели узнают, почему плачешь, ведь ты же ее не сватал, и никто не знает, что ты задумал жениться на ней, когда со службы вернешься! Помолись за ее душу и ступай!
Она взяла кувшин с водой и полила ему. Юрета сполоснул руки, глаза и ушел понурый вместе с сестренкой по тому же пути, по какому шел сюда.
Гавань была забита гаетами, ее оглашали крики толпы и рев ослов. Ведь каждая крапанская гаета (барка, что берет тонну и больше, с крытой носовой частью) везет на крыше осла, нагруженного дровами.
Сердце Юреты сжалось, когда в первом ряду он увидел Марицыного отца, Матию Танфара, в черной капице и двух его дочерей в черных платках. Сердце заныло еще сильней, когда одна из сестер, узнав его, воскликнула:
– Глядь-ка, матрос! Да ведь это Юрета тетки Луцы!
Это говорила Пава, средняя дочь Танфары, очень похожая на Марицу.
Люди стаскивали на берег ослов, и поэтому на Юрету мало кто обратил внимание, а он, окинув беглым взглядом всех Лукешичей, Яранов, Танфаров, Пребандов и Юрагов, их жен и детей, едва сдерживался, чтобы в голос не разрыдаться: «Где ты, прекрасный цветок крапанский, Марица Танфарова! Ах, когда услышу я из сада твой серебристый голосок, увижу твой стан, очи твои черные, белое твое личико!»
Марко Лукешич привязывал барку, когда сын остановился у него за спиной. Отец, сухой, крепкий сорокапятилетний мужчина, тянул за недоуздок осла Рижана, а Миш толкал его сзади. Йойи тщетно твердила: «Юрета приехал, вот он!» Но пока Рижан с поклажей не спрыгнул на берег, они даже не обернулись. Наконец Миш, живой шестнадцатилетний паренек, обнял брата, а Марко пожал сыну руку, сказав:
– Э, вот, ей-богу, нежданный гость! А как ты?
– А хорошо, па! – ответил Юрета. – А Миш растет?
– А как сорная трава!.. – заметил отец и зажженной спичкой осветил сперва Юретино лицо, а затем раскурил трубочку. Выпустив несколько клубов дыма, он положил руку на плечо Юреты и спросил:
– А ты, видно, здорово помучился?
– А почему, па?
– А потому, что очень бледный – и глаза красные! А мне Юрага сказывал, он за шесть недель до тебя из флота прибыл, будто ты здоров.
– Да мне что-то со вчерашнего дня нездоровится.
Мимо двинулись крестьяне; даже в темноте морская форма привлекала взоры. Слышались возгласы:
– А неужто это твой Юрета?
– А неужто это наш Юрета?
– Эй, Юри!
Марко не имел обыкновения толкаться в это время на тропинке. Знал это и старый Рижан, и поэтому он тронулся только тогда, когда толпа удалилась.
Йойи и Миш взяли брата за руки, а отец, покусывая чубук, завел с сыном разговор о всех мелочах, связанных с урожаями, работами, расходами за двадцать пять месяцев его отсутствия.
Луца встретила их во дворе. На скамье стоял глиняный таз с водой, рядом лежало полотенце. Дети увели Рижана, чтобы разгрузить его и поставить в стойло. Марко быстро снял гунь, рубаху и склонил над тазом свой смуглый торс с отчетливо выступавшими ребрами и позвонками. В одной воде он вымыл мылом руки, в другой – лицо, в третьей – шею. Когда жена помыла и вытерла ему спину, он прошел в дом переодеться в чистое. То же самое проделал и Миш, только плечи растирала ему Йойи.
На столе была приготовлена капуста, жареная рыба, каравай ячменного хлеба и кувшин с разбавленным вином.
Луца сняла с ног Иисуса четки и одни передала хозяину. Все пятеро выстроились перед распятием. Хозяйка произнесла: «Во имя отца, и сына, и святого духа! Аминь»; потом все в один голос прочли «Отче наш», «Богородице, дево» и другие молитвы, составляющие «розарие»[45]45
Молитвы по четкам (лат.).
[Закрыть]. Все это длилось около четверти часа.
Ужинали молча. Луца подталкивала Юрету, и тот пытался проглотить хоть что-нибудь. Марко долго пережевывал каждый кусок, подперев ладонью усталую голову. Только потянувшись первый раз за кувшином, он окинул быстрым взглядом Юрету, потом жену и произнес:
– Эй, ей-богу, до чего привередливым и нежным стал этот наш! Точно барышня! Погоди, вот суну тебе мотыгу в руки!
Кувшин по очереди обошел всех, и по знаку матери дети отправились спать.
Луца принесла кувшин поменьше и стакан. На этот раз вино было чистое, густое, красное. Марко поздравил сына со счастливым приездом и выпил до дна. Луца повторила поздравление и, отпив полстакана, поставила кувшин и стакан перед сыном. Одновременно отец положил перед ним трубочку, чтобы тот ее набил. И сказал:
– Ты ночевал в Задаре и целую ночь пил! Сразу видно! Ты и сегодня здорово клюкнул в городе! Сразу видно! Верно?
– Есть немного! – ответил, улыбаясь через силу, парень.
– А какого вы черта ходили в Америку?
– А я почем знаю, па? Пришел приказ, и айда! Так до нас ушел в Австралию броненосец «Мария Терезия».
– И он видел черных и желтых людей, – отозвалась мать, водя пальцем по столу.
– Неужто ты веришь матросам? – бросил Марко и, зевая, поднял голову к потолку. – Крепко врут, милая! А скажи-ка мне, сколько ты скопил?
– Пятнадцать талеров, па! – отозвался Юрета.
– А не густо! – Танфара сказывал, что привез двадцать!.. А, ей-богу, налей еще один, и давайте спать! А завтра, после малой мессы, пускай сходит в первую голову к дяде Йосе и тетке Марии.
– Само собой! – добавила мать.
Марко лениво поднялся и вышел. Луца зажгла маленькую лампу на масле и ушла вслед за мужем.
Юрета, положив локти на стол, затих. Вскоре сверху донесся громкий ритмичный храп супружеской пары, дополнивший картину повседневной домашней жизни. В голове было пусто; охваченный каким-то жутким предчувствием, Юрета стал внимательно вслушиваться в этот храп: в привычном звуке ему чудилось что-то таинственное, словно отмеривающее течение ночи, течение жизни, течение всего, что уходит в ничто! Хлопанье крыльев и сиплый крик вывели его из состояния полузабытья. Их петух первым отважился нарушить глубокую тишину на острове. За ним, стараясь перекричать друг друга, пустились и остальные. Когда все снова замерло, Юрету обуял страх; на память пришли сказки, слышанные в детстве, Вот разверзаются белые гробницы, что подле церкви Пречистой, и встают мертвецы, и прежде всех новопреставленные, еще не привычные к одиночеству! Вот и поварета Марица, не догадывавшаяся о его любви и узнавшая о ней только этой ночью; сейчас она спешит к нему за обручальным кольцом… Всколыхнулся огонь, скрипнула калитка, Юрета в ужасе вскочил. Но страх длился одно мгновение. Натура земледельца и моряка победила минутную слабость, и он, опустив голову, углубился в молитвы за упокой повареты!
Потом сел, положил голову на скрещенные руки и заснул.
Луца, как всегда вставшая раньше всех, застала его в той же позе. Она развела огонь, сварила кофе, поставила перед сыном и растормошила его. Юноша поднял голову и долго сонным, непонимающим взглядом смотрел на мать. Потом извлек свою новую, металлическую табакерку, свернул цигарку, закурил и принялся за кофе.
Мать, опустив глаза, присела против него.
Он заговорил первым:
– Ма, я сегодня не выйду!
– Даже в церковь? Забыл, что сегодня воскресенье?
– Никуда! Лягу наверху, а ты скажи, что заболел.
– Это грех! Мне сон приснился, перед тем как проснуться, на заре, когда сон от бога!
Луца надеялась, что сын спросит, кто ей привиделся, но, не услышав его вопроса, продолжила:
– Ее видела, поварету! Пришла, бедняжка, бледная, заплаканная, опухшая рука перевязана. Подвела меня к окну и здоровой рукой показала на море, а там большой корабль, а на корабле один ты. А поварета плачет и говорит: «Вот он! Подходит! А я не могу, тянет меня эта злосчастная рука, тянет в землю! А Юрета пусть возьмет Паву!»
Луца смахнула рукавом слезы.
Долго сидели они молча, потом мать подняла глаза на сына: к нему медленно возвращалась жизнь. Наконец он сокрушенно спросил:
– Это правда, ма?
– Да, сынок, да будет порукой пресвятая богородица.
– Ну что ж, да свершится воля божья! Поварета!
1901
ПИЛИПЕНДА
Пилип Баклина спал одетый, прикрывшись сермягой, у самого очага, лицом к огню. Слабенькое пламя лениво лизало дно висевшего на цепи казанка. Можжевеловые корни больше дымили, чем грели; дым заполнял темную хатенку, поднимался к самой соломенной крыше и силился вырваться сквозь единственное отверстие наружу. Но ветер то и дело загонял его обратно, отчего Пилип морщился, обнажая крупные желтые зубы под щетинистыми с проседью усами. Когда же ветер стихал и дым, пользуясь случаем, устремлялся вверх, можно было различить в одном углу расшатанную кровать, покрытую соломой, в другом – ткацкий станок с наброшенной на него одежонкой; у двери – плетенку для кукурузы, а над ней – покосившуюся полку с убогой посудой; подле очага еще два-три горшка и столько же трехногих табуреток. Вот и вся обстановка!
Во дворе стояла хозяйка, щуплая, некрасивая женщина, Пилипова Ела, уставившись на две брошенные на завалинку вязанки можжевеловых корневищ, смешанных с тонкими грабовыми поленьями, – все, что они с мужем с великим трудом выкорчевали и собрали за два дня в лесочке над селом. Ветер трепал ее одежду и непокрытые волосы, а она все перекладывала дрова, чтоб их казалось больше.
В загородке стоял Курел, маленький, рыжий, сильно поседевший тонконогий ослик: кожа да кости! На чердачке над ним – ворох ячменной соломы, корм Курелу на зиму, а под ногами на земле пучок соломы – завтрак, который он не торопясь поедает, соломинку за соломинкой. Его полный добродушия взгляд обращен то на хозяйку, то на петуха с двумя курами, которые копошатся у его ног, умильно на него поглядывая. Курел, видимо, сочувствовал им, особенно веселой и хорошенькой Пирге. Он охотно поделился бы с ней соломой, если бы она ее стала есть.
Двадцать таких домишек, да еще с десяток чуть побольше – вот и все село К., затерявшееся в Северной Далмации. Раскинулось оно по краю долины у подножия гор. Среди сгрудившихся строений пряталась старинная православная церковка. А на отлете, у самой околицы, воздвигалось большое богатое здание, должно быть католический храм, под стать какому-нибудь городу, а не беднейшему селу Петрова Поля.
Ела вошла в дом, с силой захлопнув за собой дверь. Пламя в очаге взметнулось от ветра, вода в котелке закипела. Пилип проснулся, сел и мутным взглядом обвел комнату. Когда он поднялся и, потянувшись, едва не коснулся руками камышового потолка, видно стало, что он настоящий «Пилипенда», как прозвали его крестьяне: долговязый, с длинной шеей и круглой головой. Штаны на нем сплошная заплата, капа, некогда красная, теперь почерневшая от грязи, напялена по самые уши. Когда он зевнул, казалось, что он вот-вот проглотит казанок.
Ела вынула из плетенки и поставила перед мужем глиняную миску, в которой оставалось на донышке горсти две кукурузной муки, скорей черной, чем желтой. Пилипенда, покачав со вздохом головой, высыпал половину в кипящую воду и, помешивая, стал варить качамак. Ела отнесла на место остаток муки, взяла щепотку соли и бросила в казанок. И оба принялись глядеть, как клокочет качамак, пожирая его глазами. Наконец Пилипенда снял казанок с огня, еще раз хорошенько размешал варево и выложил в деревянную миску. Оба вышли во двор умыться.
Затем, перекрестившись, неторопливо и сдержанно принялись за еду, непроизвольно измеряя быстрыми, вороватыми взглядами каждый взятый другим комочек. Покончив с едой, Ела заметила:
– Несчастная я, что мне делать?! Платка нету! Как простоволосая пойду завтра к причастию?
Пилипенда пожал плечами, напился воды и вышел во двор. Жена последовала за ним, и они вместе погрузили дровишки на осла. А потом встали неподвижно, словно окаменев, поочередно поглядывая на поклажу, осла и кур. Порой их тоскливые и опустошенные взоры на мгновенье встречались, но они быстро их отводили. Казалось, стоят две статуи, олицетворяющие голод и немощь. Наконец женщина, словно про себя, сказала:
– Что же нам делать, несчастным? За все это и на муку не выручишь, а ведь не могу же я пойти к причастию простоволосая; чего доброго, скажут, что и мы записались!
Пилипенда издал звук, похожий на рычанье лютого пса, и, вытаращив налитые кровью глаза на жену, про цедил сквозь зубы:
– А не записаться ли нам в ту… ту… веру?
– Избави боже! – воскликнула Ела и, отшатнувшись от мужа, перекрестилась.
Тогда Пилипенда вошел в загородку и вынес самую большую курицу.
Ела в ужасе вскрикнула:
– Неужто Пиргу? Пиргу хочешь продать?
Пилипенда промычал только: «Ага», – схватил длинный прут и зашагал, погоняя впереди себя Курела.
Дорога вела мимо строящегося храма. Услыхав, что его окликнули оттуда, Пилипенда обернулся, сплюнул и заторопился дальше, напрямик через поле.
Выбравшись на проезжую дорогу, он оглянулся на заснеженную Динару, окинул грустным взглядом все Петрово Поле, черневшее голой промерзшей пахотой, печально поглядел на деревушки, облепившие его по краям, и вдруг представилось ему, что над долиной кружит страшное чудище, которое вот уже четыре месяца душит народ.
Стояла зима 1843 года. По причине жестокого неурожая в Северной Далмации еще с осени начался голод. К рождеству в редком доме оставался еще хлеб. Из-за бездорожья зерно в те времена доставлялось в города морем, очень медленно, а обнаглевшие купцы непомерно взвинчивали цены. Жители лесных и скотоводческих районов еще пробавлялись кое-как, торгуя дровами, питаясь молочными продуктами и спуская за бесценок скотину, но на голом Петровом Поле нет ни леса, ни пастбищ. И только после того как умерло несколько крестьян от голода, Дрнишская община, к которой принадлежит Петрово Поле, начала работы по ремонту и постройке дорог, расплачиваясь с рабочими кукурузой. Сильный и старательный, Пилипенда зарабатывал пол-оки в день, а этого вполне хватало им с женой – оба их сына еще в конце лета ушли на заработки в Приморье. Но через несколько недель община прекратила работы, а уездные власти, запасшись зерном, стали снабжать им крестьян на таких условиях: католикам отпускали в кредит (то есть разрешали выплачивать деньгами после нового урожая), а православным предлагали кукурузу даром, с тем, однако, чтобы каждый глава семьи, получающий пропитание, перешел в униатскую веру. В народе началось смятение. Особенно упорная агитация велась в селе К., жители которого были сплошь православными. Старый, одряхлевший священник пытался образумить свою паству, однако кое-кто из зажиточных крестьян, напуганных голодом, принял униатство. Среди них староста, его помощник, сельский глашатай и еще семь-восемь хозяев. Называлось это: «Записаться в цесарскую веру!» Разумеется, нововерцам было запрещено посещать православную церковь.
Пилипенда шагал в город за старым Курелом, который еле перебирал своими тонкими ножками. Однако хозяин ни разу не подстегнул его, да и вообще он никогда не бил животное, жалея старого и верного помощника в борьбе за существование. Жалел он и несчастную Пиргу, которая вдруг закудахтала и захлопала крыльями, стараясь вырваться.
– Эх, Пирга, – сказал ей Пилипенда, – жаль мне тебя, но еще больше себя жалко! Оплачет тебя Ела, так-то!
Иногда, конечно, на свой манер, Пилипенда размышлял о злой судьбине, постигшей его и других добрых людей, и приходил к тем или иным умозаключениям; беспокойные вопросы чаще всего возникали перед ним, когда он вот так отправлялся со своим ослом в город.
– Господи, – взывал он к богу, – за что ты насылаешь на людей голод, если даже я, убогий хлебопашец, не могу от жалости смотреть на голодную скотину?! За что насылаешь беды на нас, на крестьян, которые славят тебя куда больше, чем сытая и распущенная немчура?! Но все же благодарю тебя и за то, что мы, бедные из бедных, тверже всех в нашей вере и любим душу свою больше брюха!
Но тут Пилипенда услышал шаги за спиной, и вскоре с ним поравнялся Йован Кляко. Этот пронырливый старичок лет двадцать пять тому назад участвовал в восстании, вспыхнувшем в Шибенике против епископа Кралевича, когда тот задумал обратить в униатскую веру православных далматинцев{38}. Теперь сам Кляко на старости лет изменил своей вере! Поздоровавшись, Кляко начал:
– Озяб небось, бедняга Пилипенда?
– Да окоченей я здесь посреди дороги, ты и то меня не пожалел бы!
– Эх, бедняга, а почему бы… а почему бы тебе не записаться?
Пилипенда отрезал:
– А не хочу, хоть бы мне сдохнуть пришлось от голода! Но и вы все долго не протянете, если даже цесарь подарит вам все Петрово Поле.
Для Кляко и его друзей Пилипенда был живым укором; усмехнувшись, старик стал оправдываться:
– Ах, Пилипенда, болезный мой, образумься, послушай меня! Сделали мы это не по бесовскому наваждению и не собираемся в ереси остаться, так только… знаешь… покуда перезимуем, малых детей, семью надо спасти, а там уж будет легче!
Пилипенда сплюнул:
– Не знаю, облегчения ищете или чего другого, только знаю, что во веки веков чести вам не отмыть!
Кляко нахмурился и едко заметил:
– Брешешь, Пилипенда, сам ты еще до пасхи станешь униатом!
Пилипенда остановился и крикнул:
– Я надеюсь на своего сербского Христа! Если поможет, спасибо, нет, тоже спасибо, потому он все дал и все может взять, даже и душу! А ты…
– Молчи, Пилипенда, – прервал его Кляко, – не забудь, что я цесарской веры!
– Ах ты собачий сын! – крикнул Пилипенда, замахиваясь палкой. – Погоди, я еще покрепче вобью в тебя эту веру!
Но Кляко убежал.
Тогда Пилипенда, не помня себя от гнева, изо всех сил ударил Курела. Ослик остановился, повернул голову и грустно поглядел на хозяина, а Пилипенду охватили такой стыд и такая жалость, что он опустился на обочину дороги и заплакал.
1901








