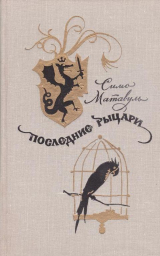
Текст книги "Последние рыцари"
Автор книги: Симо Матавуль
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 29 страниц)
На заре ветер утих. Белянка встала, умылась, причесалась, вздула огонь, взяла бадейку и веревку, вышла во двор, опустилась на каменную скамью перед домом, устало облокотилась на бадейку и пригорюнилась. Вышла Шундичка, злая с похмелья, поздоровалась:
– Доброе утро, молодая.
Белянка вскочила, поклонилась и поцеловала тетку в лоб, поцеловала глаза, щеки, шею, плечи и руки. Так обычай повелевает встречать всех старших в продолжение четырех недель.
Марта поцеловала молодую в лоб и спросила:
– Ну, приснилось тебе что на новом месте?
– Снилось мне, будто богородица к нам на помощь пришла!
– Благо тебе и дому этому! Как же ты ее видела?
– Не смею сказать. Наказала молчать!
– Ну-ну! – протянула Марта. – И это к добру.
Деверь Антун, в кабанице, проходя мимо, сказал:
– Ну, молодая, в добрый час! Пойдем.
Белянка поставила на плечо бадейку и двинулась за деверем. Они пересекли дорогу и обошли усадьбу Волка.
На выстрел от дома Волка чернела вязовая рощица. В нее-то и углубился юноша. Белянка вспомнила, что говорил ей отец после обручения: «Все у тебя будет! Дом – полная чаша. А к тому же там не так, как по всему Загорью, – не ходят по воду бог знает куда; колодец у самого дома и никогда не пересыхает».
Невестка зачерпнула воды. Антун сбросил кабаницу, снял гунь, засучил рукава, перекрестился, подставил пригоршни и в два счета помыл руки и лицо. Невестка вынула из-за пазухи полотенце, а деверь из-за пояса серебряные монеты, и, обменявшись, они поцеловались. Потом, наполнив бадейку, Антун потянул молодую за руку, и они сели.
– Чего только мы не плели вчера, правда, Белянка? – спросил он.
– Да нет, братец, разговаривали, как и все люди.
– Какое! Вино в нас говорило. А ты плакала.
– Да нет, братец, не из-за этого я, а… просто так.
– Больше всего мне жаль, что нет брата Крсты. Он самый из нас лучший, и сердце у него самое благородное.
– Да вы все добрые.
– Мийо блажит, когда выпьет, а на этот раз нет, сразу видно, что очень тебя любит.
Белянка вся закраснелась.
Юноша продолжал:
– И поверь, что все мы, и отец, и я, и Крста, будем беречь тебя как зеницу ока. А ты нас!
Белянка заплакала.
Так разговаривали деверь и невестка, пока не взошло солнце.
На обратном пути, поравнявшись с домом Волка, Антун остановился, а молодая взобралась на камень. У двери стоял высокий сгорбленный старик.
– Кобель, – шепнул Антун.
Вдруг почти над самым порогом показалась голова Волка в засаленной капе, заросшая седой, давно не бритой щетиной; он полз на четвереньках, опираясь на руки, как это делают малые дети.
– Храни нас Иисус! – прошептала молодая. – Неужто это Волк? Он паралитик?
– Явился черт за своим добром, – ответил Антун. – А следовало бы заглянуть к ним, расквитаться за вчерашнюю встречу!
– Нет, братец, прошу тебя, – взмолилась в смятении Белянка. – Бог судит каждого, но не каждого карает!
– Неужто и Юрагу Волка? – спросил, улыбаясь, юноша.
– И его, – серьезно подтвердила новобрачная. – И он крещеная душа.
Антун остановился и с удивлением спросил:
– Ты что плетешь, Белянка?
– Милый брат, не сердись. Мне сон был… о нем… такое привиделось, пресвятая дева Мария!
Антун долго смотрел на нее, все больше недоумевая, потом тряхнул головой и сказал:
– Только не вздумай обмолвиться перед отцом!
Девушка покачала головой, выпрямилась, насколько позволяла ноша, и решительно сказала:
– Я, братец, не перестану уважать всех вас, а тем более отца. Но что приказала пресвятая, сделаю, хоть бы это мне головы стоило!
Антун пожал плечами и зашагал впереди нее.
Застали они Ивана, Пирику и Марту уже за столом. Антун подсел к ним, а молодая принялась помогать батрачке. Поев, мужчины пошли по селу размяться, а женщины принялись за стряпню, Ивица завертел над очагом нового барана, а Шундичка, развалившись на хозяйском стуле со спинкой, распоряжалась по хозяйству.
За обедом опять произносили в том же порядке и те же здравицы, что и накануне. Перед сумерками Лирика, Марта и Ивица ушли, а домашние улеглись пораньше.
Молодожены поднялись первыми, чтобы избавиться от острот старика. Мийо разбудил его и брата, громко укоряя за потерянное время. Иван от души расхохотался и сказал:
– Сейчас, сейчас, птахи мои ранние.
Когда все сошлись к очагу, чтобы выпить по рюмочке, отец взял Белянку за подбородок и спросил, как она спала. И трое мужчин отправились на работу.
* * *
Оставшись одна, Белянка прочитала перед богородицей все молитвы, какие знала, и ушла по воду. Дойдя до камня, с которого накануне первый раз увидела Волка, Белянка опустила бадейку на землю и взобралась на камень. Старик сидел на скамье, а Кнез лежал у его ног. Белянка взяла ведерко с водой, твердым шагом двинулась вдоль стены, отворила калитку и остановилась перед скамьей. Волк, решив, что перед ним призрак, разинул от удивления рот, Кнез насторожил уши.
Белянка сказала:
– Хвала Иисусу и Марии, дядя Юрага! Я пришла…
– Что? Кто? Как? – пролепетал Волк, заикаясь скорее от страха, чем от гнева. – Кто ты? Чего хочешь?
– Я жена Мийо. Пресвятая богородица послала меня послужить тебе. Приказала во сне. Вот я и пришла.
И, взяв стоявший на земле глиняный кувшин, выплеснула из него застоявшуюся воду и налила свежей.
– Вот, дядя. Буду приносить тебе каждое утро. Так приказала пресвятая, да и еще в чем другом помогу. А сейчас до свидания!
Все это Белянка произнесла сбивчиво, горячо, так что Волк едва ее понял.
На другое утро Волк и Белянка поздоровались и больше не сказали друг другу ни слова, но Белянка привела в порядок весь дом.
В тот же день вечером Белянка объявила домашним, что она сделала и почему. Сказала ясно и коротко: «Была у старого грешника, напоила водой и логово ему очистила. Приказала мне это присноблаженная еще в первую ночь под этой крышей. И с сего дня я буду за ним ухаживать и подготовлять к христианской смерти».
Сыновья обратили свои взгляды на отца, вздрогнувшего при ее словах. Наступило глубокое молчание, во время которого старик несколько раз перекрестился. Наконец он сказал:
– Ты божья душа! С тобой в мой дом вошла благодать господня! Поступай как знаешь!
Чудесную историю о том, как молодая Лопушина изгнала дьявола из Волка, как заставила читать молитвы, исповедаться и расстаться с Кобелем, рассказывали повсюду, – и все это была сущая правда.
Волк был полон любви и преданности к Белянке, а она ходила за ним, как за отцом. С Лопушинами он открыто не мирился, но ссор больше не заводил. Прожил Волк еще два года и умер, как христианин, завещав Белянке все свое добро.
1902
БАКОНЯ В БЕЛГРАДЕ
В первое утро коронационных торжеств (7 сентября 1904 года){39} стою я у окна своей комнаты и в ожидании, пока поднимутся два моих гостя, наблюдаю за многолюдными толпами, валившими вдоль улицы, как вдруг раздается стук в дверь, и на пороге появляется статный, дородный, бритый мужчина в черном пальто до колен. В первую минуту я подумал, что это какой-нибудь актер, но, заметив его смущение, понял, что ошибся.
Спрашиваю:
– Кого вам?
Незнакомец не шелохнулся. Как взялся за ручку, отворяя дверь, так правая рука на ней и застыла, в левой он держал шляпу и толстую палку с серебряным набалдашником. Я повторил вопрос. Мужчина вошел, затворил дверь и, озираясь по сторонам, чуть ли не шепотом пробормотал:
– Хвала Иисусу!
И только тогда, когда, произнося эти слова, он отвесил поклон, я увидел тонзуру, большую фратерскую тонзуру, которая захватывала все темя, – настоящее гумно среди темного леса черной как смоль шевелюры!
Не слишком удивляясь, – кого только не было в эти дни в Белграде! – я ответил:
– И ныне и присно, отче! Милости просим!
Он приободрился и, улыбаясь, положил мне руку на плечо со словами:
– Коль узнал, что я фратер, угадай, кто я?
Боже! Эта фигура, это лицо, голос и особенно эти озорные большие черные глаза! ОН! Не кто иной, как ОН! И я крикнул:
– Баконя!.. Фра Брне двадцать пятый!.. Ты ли это?
Железные руки сдавили меня и прервали не только мои слова, но и дыхание! Мы расцеловались, как любящие братья, и, просто обессилев от волнения, опустились на диван.
Пока дыхание возвращалось ко мне, я вглядывался в его красивое лицо, искрящиеся глаза, из которых ключом била здоровая жизнерадостность, смотрел на бычью шею, сильные руки и уже округлявшееся брюшко, которое выпирало из-под застегнутого пальто. И тотчас перед моими глазами возник новопосвященный фра Брне младший, двадцать пятая почка святой лозы, фра Еркович XXV.
– Да, мой ркач, – начал он, – вот что с нами делает время… Однако опять же диву даюсь, как это я сразу тебя не признал!
– О-о-о! – воскликнул я. – Баконя в Белграде! Баконя мой гость!
Невольно пронеслось передо мной детство Бакони, и с уст сорвался обычный возглас старосты Космача Ерковича, Бакониного отца: «Баконя, несчастное дитя!»
В тот же миг в соседней комнате послышалось движение. Фратер в страхе поднял руки, покосился на дверь и прошептал:
– Только бог и ты знаете здесь мое настоящее имя! Дай слово, что никто другой его не узнает!
– Хорошо, однако…
– Нет, нет, нет! Дай мне слово!
– Хорошо, даю слово, но чего это ты, человече, так перепугался?
– Кто там, в той комнате?
– Мои гости, двое их.
– Далматинцы?
– Один сремец, другой далматинец.
– Та-ак… – протянул он, сильно побледнев, потом быстро схватил палку и шляпу. – Уйдем отсюда!.. Прошу тебя… Ради мук Иисуса, уйдем!
Я удивился, стал спрашивать:
– Что это с тобой вдруг, отец Брне? Как это уйдем! Почему уйдем?! Кого и чего ты боишься в моем доме? Разве ты не мой гость? Разве ты не останешься у меня? Как я могу допустить…
– Нет, нет, мой дорогой, мой милый, прости, но это невозможно! Сегодня никак невозможно! Завтра, послезавтра может быть, но сейчас, прошу тебя, выйдем со мной! Мне нужно о многом с тобой поговорить и кое о чем попросить. Итак, сделай милость, выйдем!
Он вышел, я за ним. На пороге мы столкнулись со слугой, который, по обычаю, нес гостю кофе, но Баконя отказался. Чуть подальше нам преградила дорогу моя жена. Смешавшись, я представил их:
– Это господин Брне Еркович, торговец из Синя, из Далмации! Моя супруга!
– Очень приятно! – затараторила она. – Приехали на торжества?
Красный как рак, Брне пожал протянутую руку, невнятно пробормотал что-то, потом поспешно добавил несколько внятных, но бессвязных слов:
– Благодарствуйте, госпожа, премного благодарен, но не могу, поверьте! Итак, прощайте, до рождества богородицы!
Жена подняла брови, а когда увидела еще и тонзуру, разинула от удивления рот. Я сделал ей знак рукой и сказал:
– Прошу тебя, извинись перед гостями, мне нужно выйти с земляком!
Баконя ринулся сквозь плотную толпу на тротуаре, словно убегал от кого-то. Боясь его потерять, я бросился за ним, в голову лезли разные мысли. Мы пробежали примерно шагов триста, когда дорогу нам преградили какие-то корпорации с оркестрами и следовавшая за ними толпа, Баконя юркнул в подворотню. Тут мы остановились, пыхтя, точно цыганские мехи. Людские толпы валили одна за другой под музыку и крики. В самом деле, Белград никогда еще не переживал такого! Хлопая глазами, фратер схватился за голову и пролепетал:
– Избави бог и пресвятая дева! Нет, брат, не привык я к такой толкотне! Это невыносимо! Со вчерашнего утра трясся в поезде, с вечера голова идет кругом, увидишь, все мое лечение пойдет прахом, чего доброго еще хуже станет!
– Какое лечение, милый Брне?
– На курорте в Топуске! Пробыл я там, милый мой, пять недель, лечился от проклятого ревматизма! Но скажи мне, прошу тебя, что это, откуда такая бездна народу, откуда эти знамена, музыка? И народ чудной! И военные, и крестьяне, и голодранцы!
– Не знаю! – отозвался я. – Надо купить программу, тогда увидим, что это такое и что затем последует! Но главное торжество, коронование, состоится завтра.
– Это я знаю! Потому-то и прошу, очень прошу раздобудь мне билет в церковь, ведь без письменного разрешения, говорят, никого не станут пускать! По правде говоря, из-за того главным образом к тебе и зашел! Хотя, само собой, разыскал бы тебя и так, потому и поднялся ни свет ни заря! И для чего мне все прочее, ежели не увижу коронации? Скажи, правда ведь?
– Да! – подтвердил я. – Хорошо, что вовремя позаботился! Вот через несколько минут толпа поредеет, и я пойду с тобой и добуду тебе пропуск.
– Наверняка?
– Не сомневаюсь!
Фра Брне по-детски подпрыгнул от радости и обнял меня.
– Скажу, чтобы написали: «Его преподобию фра Брне Ерковичу двадцать пятому!» Именно так! Пусть знают, что у нас, далматинцев, один род может дать двадцать пять фратеров подряд в течение трех столетий!
– Черт подери! – воскликнул Брне в полном блаженстве и, чуть помявшись, добавил: – Можешь еще вставить и слово «настоятелю».
– Ах так! – воскликнул я. – Значит, повысили? Такой молодой и уже настоятель! Поздравляю! О, корпо ди бако[47]47
Клянусь богом (итал.).
[Закрыть], настоятель в сорок лет!
– Сорок два! Сорок два! – поправил он с притворной грустью.
– Хорошо, сорок два! Ну и что? Ты же сейчас не мужчина, а лев! Итак, ты настоятель и прибыл из Топуска, а из Далмации выехал пять недель тому назад! Но, знаешь, клянусь богом, уж очень забавно получается, как я узнаю обо всем этом. Прошел час, как судьба столь необычным образом и на столь необычном месте спустя так много времени столкнула нас, а я все еще лишь урывками да между прочим узнаю о том, что должен был тотчас и без всяких обиняков слышать от тебя. Пора наконец спросить тебя, как ты?
Но фра не слушал меня, – ни одно слово не дошло до его сознания; нахмуренный, с остекленевшим взглядом, он что-то напряженно обдумывал. Потом он промолвил:
– Пожалуй, не стоит!
– Что не стоит?
– Не стоит писать мое настоящее имя, пусть уж будет так, как ты сказал давеча своей супруге: «Торговец из Синя».
Я испытующе заглянул ему в глаза и заметил:
– Хорошо, но, дорогой Баконя, не обессудь, твой страх переходит всякую меру и наводит на разные мысли! Храни бог и богородица, может, ты согрешил чем и…
– И перебежал сюда! – закончил он, посмотрев на меня с сожалением и укором. Не беспокойся! Хвала богу и пресвятой богородице, может, я и не примерный священник, но ренегатом быть не собираюсь. Изменить своей вере, своему народу, как сделали некоторые, приехав сюда и женившись… Да избави боже! Просто не хочу, чтобы знали губернатор и провинциал; ведь… не хватает еще, чтобы они услышали в эти смутные времена{40}, что я был в Сербии! А теперь пойдем, толпа поредела! О боже, до чего голова кружится! Не привык я к такой суете! Должно быть, в больших, самых больших городах постоянно так, скажем, в Вене или в Риме!
– Пойдем! – промолвил я, взглянув на облачное небо. И мы двинулись. – Да, – продолжал я, – никогда еще здесь не было подобной пестроты и стольких наречий, хотя Белград и в обычное время своеобразнее Рима и Вены.
– Чем?
– Тем, что в нем живут люди со всех концов света. Здесь можешь услышать испанский, немецкий, венгерский, албанский, румынский и так далее! Кроме того, в этом необыкновенном городе вечно какая-нибудь кутерьма!
– А-а! – Баконя встретил мои слова с явным удовольствием и вытаращил глаза. – А-а! Кутерьма, говоришь! Но сейчас, полагаю, народ успокоился?
– Как же, успокоится он! – сказал я, указывая на шумную толпу.
– Ну, это другое дело, сейчас праздничная суматоха, а я спрашиваю…
Его прервал подъехавший извозчик. К счастью, он оказался хорошо мне знакомым, иначе он, как и все его товарищи, содрал бы с нас втридорога. За поездку, которая согласно тарифу стоила динар, они запрашивали дукат, а то и два. Я велел везти нас в учреждение за билетами в церковь, а оттуда гнать через центр на окраину Врачара.
Быстро уладив дело с пропусками, – я взял сразу и Баконе, и двум своим гостям, – я снова сел в экипаж и молча протянул ему все три билета. Прочитав: «Господину Браниславу Ерковичу, торговцу из Далмации», он вспыхнул. Прочитав имя второго гостя из Приморья, Баконя вздрогнул и воскликнул:
– Так ведь я его знаю и он меня!
– Можешь не волноваться, по описанию моей жены он все равно догадается, что заходил ко мне именно ты. Да и как мне, Брне, братец мой, лгать людям? Одно дело дать слово, что я тебя не выдам, а иное дело уверять, будто ты другое лицо! А к тому же я-то себя знаю – разве я смогу удержаться от смеха? И чего ты боишься в конце концов? Даст он тебе слово не выдавать, и дело в шляпе! Не все же вокруг тебя сыщики да шпионы! А теперь развеселись, смотри, слушай и рассказывай!
Мы добрались уже до первого перекрестка Врачара. Баконя взглянул направо, на широкое Топчидерское шоссе, окаймленное красивыми домами и садами, на лесистые холмики.
– Да, в самом деле красиво! Прекрасный город, чудесный! По правде говоря, с утра, как вышел из дому, все сам с собою спорю; то говорю: «Загреб красивей», то «Белград красивей»! Мостовая у вас, упаси бог, какая скверная, да и домишки, подворотни, дворы встречаются, прости господи, немногим лучше, чем в Зврлеве! Но зато какие дворцы, какие виды – одно очарование! Кабы все эти красивые здания выстроить в ряд, то, полагаю, сразу стало бы видно, что Белград красивей Загреба!
– Мудрые слова! Позже, когда все увидишь, поговорим и об этом. Сейчас смотри по сторонам и попутно спрашивай, а тем временем и поговорим на свободе, как птицы! Гони, парень! Вот видишь, летим, как птицы! Развеселись, Баконя, несчастное дитя! Баконя, несчастное дитя!
– Иди к черту! – промолвил Баконя уже растроганно.
– Баконя, убей тебя гром! Баконя, на виселице кончишь! Да в кого ты уродился, Баконя, дьявол тебя побери! Словно в тебе течет кровь ста ркачей! Баконя, несчастное дитя! Убей тебя гром!
– Клянусь богом, точно, точно! – сказал он, давясь от смеха. А это «точно» означало, что я не только воспроизвожу слова отца, старосты Космача, но и произношу их так, как он.
– Отец жив ли?
Фра Брне стал серьезным.
– Тринадцать лет, как преставился, через два года после старухи!
– Бедный Космач! Бедная Хорчиха! – промолвил я. – А кто из стариков живет еще в Зврлеве?
– Никого, кроме дяди Шакала. Ему за девяносто перевалило!
– Ей-богу, Шакал жив? И здравицы произносит?
– Только когда выпьет! Здоров, как дуб!
– Вот бы еще разок поглядеть на него да послушать, как он провозглашает: «За здоровье милости вашей достославной, что всегда остается для нас достопамятной».
– Ну его к бесу! Что тебе пришло в голову! А похоже, очень похоже, но… Самое интересное то, что он знает, что его здравицы вошли в книгу, и страшно гордится!
– Коли мы уже начали, давай по порядку! Кто сейчас староста в Зврлеве?
– Брат мой Заморыш!
– Так и полагается! Яблоко от яблоньки недалеко падает! А кто твой наследник по духовному сану?
– Заморышев сын. Зовут Ивицей, а прозывают Корешком. Клянусь богом, парень ничего себе и учится неплохо!
– Так, так! Значит, все по-старому! А много ли из Культяпок, Ругателей, Обжор, Сопливых и прочих ростков святой лозы Ерковичей?
– Больше, чем нужно!
– А в монастыре кто из стариков жив?
– Никого, кроме Навозника. Через два года ему сто стукнет! Как тебе сказать, и жив вроде и не жив. Чуть видит, чуть слышит, чуть и двигается, ничего не знает, ничего не помнит, только всегда его голод мучает! О чем ни спросишь, отвечает: «Есть хочу!» Порой среди ночи начинает кричать: «Дайте есть!»
– Это ему передалось то, что всегда являлось самым существенным в святой обители! Вокруг грешного повара Навозника, который сам был удивительно слабым едоком, десятками лет стояла такая атмосфера ненасытности, что в конце концов и он заразился обжорством! А ты, Баконя, много переменил приходов?
– Немало, был всюду, где и покойный дядя, и вот наконец я на его месте, настоятелем!
– Все по-прежнему, как в старые времена и как лучше быть не может! Но, дорогой друг, еще один вопрос: что с Цветой?
Баконя покраснел, молитвенно воздел руки и покачал головой:
– В эту твою пачкотню, которая называется «Баконя фра Брне», ты вставил какую-то Цвету! Как тебе, милый, не стыдно! Довольно там и всякой другой писанины! Помню, мы не раз об этом толковали и пришли к выводу, что ты хватил через край, впрочем… Погляди, до чего красиво!
Мы миновали Врачар, вдали показалась Авала, справа волнистые холмы и Сава. Приказав извозчику остановиться, обводя рукой окрестности, я сказал земляку:
– Видишь, Брне, такова почти вся Сербия, только не всюду подобное обилие воды. Но земли уйма, и леса много, и пастбищ пропасть, и скал, и гор!
– Ну и красота! Ну и красота! – повторял он растроганно.
– И все это наша страна, милый, наша кровь, наш род, наш язык, красивый и сладостный.
Слезы выступили у него на глазах. Он тряхнул головой и сказал:
– Да, что правда, то правда! Как услышу, что весь народ, и простой люд, и господа, от короля до солдата, от министра до ремесленника, все, все, все говорят по-хорватски, душа радуется! Вот так-то!
– Гони на Топчидерское шоссе, – крикнул я извозчику, – потом через Батал-Джамию на Дунай и в крепость{41}, а оттуда обратно в город.
Баконя тщетно заводил речь о том, чем полна была его голова, – о недавних страшных событиях в Белграде{42}, которые особенно живо рисовались его воображению здесь, на улицах, где он видел людей, которые, возможно, принимали в них участие, но я неуклонно возвращался к тем временам и событиям, когда сидящий рядом со мной человек был бойким Баконицей, а потом пригожим молодым францисканцем, и упорно отклонял все наслоения позднейшего времени.
– Значит, ты и есть тот самый проказник Баконя, который наводил трепет на Зврлево и которому отец и дядья предсказывали виселицу? – начал я.
– Ага, – протянул он нехотя.
– Который обессмертил себя, отыскав дядиного Буланого, и который сделался любимцем славного Сердара и источником отчаяния вра Брне?
– Ага!
– Который, будучи новопоставленным приходским священником, кружил головы женщинам, вследствие чего у многих из них трещали ребра; который бросал камни дальше которских молодцов и которого прозвали «Сербом»!
– Да, да, да! Если мы, земляк, будем так продолжать, то я до самой ночи ничего не узнаю!
– Узнаешь, узнаешь! Дай мне еще немножко себя потешить.
И я себя потешил! Воскресли Квашня, Бурак, Кузнечный Мех, Лейка, Вертихвост, Тетка, Певалица, Корешок, Пышка, Жбан, Треска, Белобрысый и все прочие; воскресли их умные и глупые речи, их дела – и духовные, и мирские, и дьявольские! Наконец, когда мы были уже близ Дуная, я поведал ему под нахмурившимся небом о том, о чем знал сам, объясняя событие классическим сопоставлением с нарывом, знаете уж: нарыв вздувается, созревает и т. д.
– Чудно́й народ! Чудно́й народ! – прервал он меня и умолк.
– Да нет, Брне! Всюду одно и то же. Мы не можем время от времени обходиться без кровопролития и волнений! Скажешь, у вас этого нет? Есть, хоть и в меньшей степени. Вот вы срываете венгерские знамена, стреляете по итальянцам, свистите вслед имперскому наместнику{43} и не так уж редко кого-нибудь да ухлопаете!
– Да, знаю, но не в такой степени!
– Конечно, более сдержанно, умеренно, потому что у вас не та мера!
Тем временем мы подъехали к крепости. Вот тут, увидав обе реки, а также Земун, Срем и Банат, мой земляк поразился. И все повторял:
– Э, подобное не часто увидишь!
– Об этом твердят и те, кто многое на свете перевидал. Недаром говорят: «Белград – малый Цариград. Белград – ключ от Востока!» Ты побродил малость по свету и, хоть в наших краях впервые, все-таки, как говорится, людей повидал! Мир – это школа, мой Брне, большая школа! Посему старайся, покуда молод, вырваться еще куда-нибудь из нашей тесноты!
– Э, я дал себе слово!
– Это больше, чем книги, и твои духовные глаза будут видеть дальше!.. Почему обычно говорят «духовное око», а не «духовные очи»? Неужто все мы кривы внутри?
– Ну тебя с твоими мудрствованиями! Вечно ты так, никогда не разберешь, когда шутишь, а когда говоришь всерьез!
Начал накрапывать дождь, и мы поспешили обратно. Время близилось к полдню. Людские толпы разбегались от дождя. Только теперь мы унеслись мыслями из родных краев. Больше всего Брне интересовался одеждой наших влахов, крестьян из Шумадии, Старой Сербии, Срема. Я рассказывал ему об особенностях различных наших краев, а он радовался, находя что-нибудь общее с приходами святого Франциска. Извозчик спросил, где ему остановиться; я спросил об этом своего земляка.
– А в самом деле, ведь я тебе не сказал, что поселился в «России»! – сказал он.
– Гони к «России»! – крикнул я. – Кто же тебя направил в эту гостиницу?
– Сам дьявол! Как ты уже слышал, я выехал из Топуска вчера утром и сюда прибыл к вечеру. В вагонах – битком. На вокзале мгновенно расхватали извозчиков. Не знаю, куда податься, что делать; пристал ко мне какой-то молодец, говорит, что за динар найдет мне ночлег и отнесет баул. Согласился я. Шли мы, поднимались, спускались, сворачивали, наверное, не менее часа, и я все поглядываю в страхе, как бы мой мазурик не шмыгнул за угол в темноту! Наконец приводит он меня к большому четырехэтажному зданию и говорит: «Вот это и есть отель «Россия»! Ежели не найдется койки, поищем где-нибудь в другом месте!» В вестибюле народ, в коридорах давка – никого не найдешь, никого не дозовешься; наконец откликнулась какая-то женщина: «Есть, говорит, еще только одна койка. Пять динаров! Платить сразу!» Парень прошептал: «Берите, господин, другую и за дукат не найдете!» Почем я знаю? Заплатил! Понес он впереди меня вещи в номер. Номерок небольшой, а в нем ни больше, ни меньше, как пять коек! На четырех – вещи, на пятую, в углу, положил он мой баул. Протягиваю парню динар, а он качает головой. «Это динар, господин, а мы договорились за два, да и на чай следовало бы прибавить!» Тут мы заспорили, и кончилось дело тем, что я еще немного ему добавил! Ну, так вот, взбешенный, схожу вниз…
Экипаж остановился. Отпустив извозчика, мы с Брне с трудом протиснулись в битком набитую кафану «Россия». Там свободных мест не оказалось, но столовая была еще свободна. Мы вошли.
– Ты здесь ужинал? – спросил я.
– Да, здесь, но входил через другую дверь. Все равно. Итак, значит, закусил малость, выпил три графинчика красного вина и отправился на покой. И что же я вижу наверху, в номере? За столом сидят, пьют и мирно беседуют пятеро мужчин; собственно, трое мужчин, купцы, что ли, и два попа, молодые, огромные, косматые, словно сейчас из лесу выбежали! И с ними – подумай только! – с ними четыре девки! Спрашивают: чего мне надо? Услыхав, что я здесь снял койку, пригласили в свою компанию, а когда я отказался, стали насмешничать. Я поскорее разделся, лег, укрылся с головой, а они все не унимаются. Одна из этих несчастных говорит: «Уверяю вас, что это шокацкий поп, ведь я сама шокица!» Потом что-то зашептала, и они разом загорланили: «Ора про нобис!» И так повторяли без конца, но я уснул…
Я захохотал, а Баконя рассердился:
– И это священники!
– Брось, Брне, и у нас в Приморье всякие есть.
– Однако, синьор, я слыхал от многих, что здешний народ не слишком набожный! И вижу, что это правда!
– Нет, неправда! Очень даже набожный! – сказал я как можно уверенней.
– Опять ты комедию ломаешь! Разве неверно, что в Белграде не более пяти церквей и их с избытком хватает на шестьдесят или семьдесят тысяч душ?
– Это верно! Народ мало ходит в церковь.
– В чем же выражается его набожность?
– У всякого по-своему! Ради любви к господу многие пухнут с голоду более шести месяцев в году. Так поступают, конечно, простые смертные, а не господа! Не дают сердцу волю, строго постятся, по-юнацки, с богом не шутят и ему не досаждают!
– И это ты называешь набожностью?
– А если понадобится, каждый пойдет на смерть за свою веру, к которой с виду так непочтителен! Да чего ты юлишь, будто сам не знаешь! Ркачи всюду одинаковы, и те, что в Приморье, и здешние! Вспомним, что ты говорил, будучи послушником: «Не люблю их, но преклоняюсь!» Помнишь?
Мы еще раз всласть посмеялись и, договорившись, что встретимся около двух часов дня, расстались.
Дома я не мог отвязаться от бесконечных вопросов и догадок. Как я и предвидел, Баконю выдала тонзура, – мне сразу заявили, что это фратер, и я пообещал вечером привести его.
После обеда шел дождь. Кафана «Россия» была по-прежнему набита до отказа, в столовой, тоже переполненной, я застал Баконю в обществе купца и двух попов. Когда я вошел, они поднимали стаканы и при этом смеялись до упаду. Потеснившись, они освободили мне место, и я тотчас «вошел в курс» беседы. Состязались в острословии, сальных анекдотах и шутках, бытующих в Приморье и Шумадии! О том, чтобы привести Баконю к себе на ужин, не могло быть и речи!
На другой день я не заходил к нему, а на третий уже не застал: Баконя уехал. Спустя дней десять я получил от него письмо, в котором, между прочим, он писал: «Пребываю в добром здравии. Дознались, что я побывал у вас, однако не порицают. Голова набита всякой всячиной, но немало в ней хороших, приятных и дорогих воспоминаний! Не обижайся и извини, что уехал, не простившись! Ежели даст бог здоровья, увидимся снова! Приветствует тебя дядя Шакал, алвундандара!»
1905








