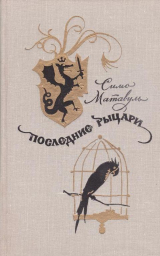
Текст книги "Последние рыцари"
Автор книги: Симо Матавуль
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 29 страниц)
ВОЛК И БЕЛЯНКА
Жизнь далматинских загорцев бедна несказанно! Те, кто живет внизу, у моря, скрашивает жизнь вином, фруктами, овощами; их взоры радуют красивые виды, они наслаждаются мягким морским воздухом; а горцы либо заживо жарятся, либо мерзнут, либо их изводит резкий ветер, дующий девять месяцев в году! Молодое поколение поднимается здесь тяжело. Кто уцелеет, мается всю жизнь, чтобы у тощей земли вытянуть немного ячменя, с трудом прокормить немногочисленную скотину, чтобы накорчевать на топливо можжевеловых корней, чтобы бережливо вырубать деревья в чахлых рощицах! Но самое тяжкое проклятье – отсутствие воды; есть села, где в летнюю пору людям приходится часа три тащиться до ближайшего колодца или источника!
Первое от моря горное село Затрнци счастливее других; в нем родит виноград и миндаль. Здесь-то и случилось чудо, о котором я хочу рассказать.
В трех часах ходьбы от моря, среди отвесных скал, под голой горой, раскинулось село Затрнци. Кто поднимается к селу снизу, прежде всего видит два строения: справа белую «башню» Ивана Лопушины; слева черную лачугу Юраги Жагриновича, по прозванию «Волк». Жагриновичи – староселы, Лопушины – влахи-переселенцы.
«Башня» – самое видное здание в Затрнцах, а ее хозяин Иван Лопушина – виднейший затрнчанин и бессменный староста. И Юрага Волк тоже известнейший в Затрнцах человек, но у него с малолетства худая слава убийцы и вора. Тотчас после женитьбы он отсидел пять лет в тюрьме за то, что подстрелил Иванова брата, Мията Лопушину, который помер, проболев около года. А как вернулся из тюрьмы, то уж был всегда настороже и при оружии. Волк был замечательным охотником, но деньги, вырученные за дичь, пропивал внизу, в городе. Прображничав два дня, он просыпался утром в тяжелом похмелье, и туго тогда приходилось жене его Шимице и дочери Павице.
Юрага Волк – человек среднего роста, крепкий, со светло-голубыми глазами. Церковью он пренебрегал, но страшно боялся дьявола и прочей нечисти, которая частенько ему являлась, особенно когда он пьяный возвращался из города.
В урожайные годы Волк собирал до пятнадцати барилов вина, из которого, как ни странно, оставлял себе лишь немного для больших праздников, а все прочее продавал. По мере того как Волк старел, ему все меньше везло на охоте, зато бахвалился он пуще прежнего. Да и вообще с годами он все больше озлоблялся. Грозил односельчанам взять в дом примака, какого-нибудь «вора-ркача», который уж сумеет досадить затрнчанам.
Усадьба Волка была просторней Лопушиновой; засаженная сплошь миндалем, она приносила в иные годы неплохой доход. Поле, виноградники, роща были невелики, но в одном куске.
Староста Иван Лопушина был огромный, рыжий, косматый, богобоязненный и смирный. В семье не ложились спать без молитв, а по великим постам из его дома, точно из монастыря, доносился молитвенный гомон. Иван рано овдовел и жил с тремя сыновьями: Мийо, Крстой и Антуном; старший и обличьем и характером походил на него, младшие были щуплые и подвижные.
Лопушине повезло. Мийо освободили от военной службы; даже смерть Волка не доставила бы старику столько радости! И он навалился на Мийо, чтобы тот скорее женился, а после того, как среднего, Крсту, взяли в солдаты, старик стал назначать сроки, когда сноха должна быть приведена в дом.
В ту же пору Павица сбежала с каким-то бедным парнем в Мильево. Волк рассвирепел, ушел в город и целых десять дней заливал свой гнев. Спустя несколько месяцев Павица приказала долго жить, вслед за ней умерла от горя и побоев и ее несчастная мать. Волк озлобился еще больше.
Мийо Лопушина, вернувшись как-то из города и поужинав, удивил отца:
– Я, отец, присмотрел девушку! Не знаю… Я бы…
– А чья она? – спросил отец.
– Из Билица, Бикановичей.
– Когда же ты ее видел?
– Первый раз – когда шел в город, второй – на обратном пути. С матерью была. Давеча обедали вместе в корчме.
– Говорил с ней?
– Не-е! Как можно без тебя? Со старухой потолковал.
– Об этом?
– Не-е! Просто так! Сказывала, будто слышала о нас.
– А девушка что?
Парень пожал плечами.
Антун, слушавший разговор с разинутым ртом, спросил:
– А она красивая?
– Да так, невысокая, – ответил Мийо.
– А зовут как?
– Белянкой! Прозвище такое: «Белянка»!
– Верно, белая как снег? – спросил Антун.
Мийо прыснул, покачал головой и показал на очаг, не в силах от смеха вымолвить слово.
– Вон как этот чугунок! – произнес он наконец.
– Что как чугунок? – переспросил брат.
– Черная! Черная, как арапка!
– И тебе нравится?
– Нравится. Как раз потому, что черная… А тихая, как овечка, сразу видать. Здоровая, и это видать, а еще видать, что… для меня она. Так-то!
На другой день отец, в праздничной одежде, подошел к очагу, приказал Антуну сейчас же седлать мула, выпил ракии и бросил:
– Поехал в город!
Братья заключили, что отец едет расспросить о Белянке, но, когда тот вечером вернулся, они не могли угадать, в каком он настроении, а сам Иван, конечно, не проронил ни слова о том, где был и что делал.
Четыре дня все трое работали на винограднике с утра до вечера, и отец о женитьбе не заикался. Мийо поглядывал на него украдкой и хмурился. Даже как-то шепнул брату: «Клянусь святым Миятом, другой он не скоро дождется!»
В воскресенье Иван разбудил старшего сына на заре. Братья спали в углу, возле очага. Не выпуская из рук бутылки с ракией, отец дал отхлебнуть Мияту.
– В чем дело, отец? – спросил Мият.
Отец шепотом спросил:
– Ты как, не раздумал? Белянку берешь?
Мият сел.
– Да! Конечно! Она мне полюбилась!
Тогда отец вынул из пояса синий платок, развязал своими корявыми пальцами узел и вынул золотое кольцо и дукат.
– От покойной матери осталось, царство ей небесное!
– Царство ей небесное! – повторил Мият.
– Значит, свадьбу справим осенью?
– Что ж, можно, – подхватил сын и начал быстро одеваться. – На святого Луку. Пойду седлать мула.
Антун спал как убитый. Его юное лицо мягкими чертами напоминало девичье. Отец поглядел с нежностью на сына, погладил его, а когда юноша повернул голову, поднес под нос ему бутылку, смочил губы ракией и, улыбаясь, отошел.
Вернулся он ночью, порядком навеселе. Спешился и, пошатываясь, направился к дому со словами:
– Ну, дай бог счастья нашей молодой хозяйке! Твоему Котелку! Вот те Христос! Буду ее так звать, а ты как хочешь. Пускай для тебя остается Белянкой, ежели нравится, а крестили ее Цветой! Как и бабку. Ты знал об этом! И знал, что Бикановичи в ссоре с Волком!
– Нет, отец, не знал!
– Брешешь, ровно Волк. Вот насчет того, что она здорова, это ты не соврал! Что правда, то правда. Груди налились, шея как у доброго мула, а зубы что у волчицы!
Мият вспыхнул от радости и прервал отца:
– Но ведь ты, отец, раньше ее не видел?
– Видел, чего прикидываешься? На прошлой неделе, когда будто в город ездил. Полно тебе, сам ведь знаешь! Но, дитя мое, не так просто привести в дом к Лопушиным хозяйку, следовало подумать! Ну, а сейчас все в руках пресвятой девы, в руках святых Иоанна, Мийовила, Кристофора и Антуна! Проголодался я, чуть было не уселся за стол без молитвы, как скотина. Еще не читали?
– Нет, – отозвалась с порога батрачка, нескладная старая дева.
– А, и ты здесь? – приветливо сказал старик. – Ну что ж, ладно. Слыхала вот, Мията женим. Но ты тоже не будешь лишней, если останешься такой же работящей, какой была до сих пор. Пойдемте, дети! Нынче прочтем две молитвы: одну за упокой души моей славной Луцы, другую – за благоденствие нашего дома.
И, войдя в дом, с порога начал: «Во имя отца, и сына, и святого духа! Аминь!»
* * *
Уже с давних пор Волка начали подводить ноги, а после смерти жены они отказали вовсе. Опираясь на палку, он кое-как выползал из дому и по целым дням сидел на каменной скамейке у двери, прислонив к себе ружье, а старый охотничий пес Кнез, с белой отметиной на лбу, лежал у его ног, не спуская глаз с хозяина.
Волк продал мула, а землю, кроме миндальной рощи, сдал исполу и теперь по целым дням тянул вино, курил и разговаривал с псом. Местные крестьяне к нему не заходили, кроме испольщиков да одного родственника по матери, который склонял Волка отписать все свое добро ему, Бакуле, с тем, что он будет кормить его до самой смерти.
Через день к Волку приходил его побратим, по прозванию «Кобель», из Милеваца. Настоящее его имя было Яков Прнят, но никто иначе, как Кобель, его не величал. Это был высокий, чуть согнувшийся, но еще крепкий и подвижной старик с веселыми и лукавыми белесыми глазами. Волк и Кобель с юности были друзьями и товарищами по всем «разбоям» и «непотребствам», согласно определению святых отцов. Не успел Волк выйти из тюрьмы, как в нее на восемь лет за поджог угодил Кобель, потом друзья поссорились и совсем разошлись, но, когда Волку «бог подсек жилы», Кобель не оставил побратима в беде: стал навещать его и приносить еду.
Не тратя лишних слов, Волк отсчитывал Кобелю деньги, говорил, что купить, и тот пускался в дорогу. Вернувшись из города, Кобель вынимал из торбы мясо, рис, хлеб и прочее, называя цены, и между ними происходил примерно такой диалог:
– Скажи правду, старый ворюга, сколько украл?
– Пора бы тебе, Юрага, перестать грешить!
– Ну, говори, сколько?
– Красть не крал, а просто взял пять карантанов на табак.
– Пять! Ну-ка, послушай! За окорок, говоришь, восемнадцать карантанов, а дал ты за него самое большое четырнадцать; на рисе наверняка украл два, не так, что ли?.. Вонючая ворона, все равно подохнешь с голоду.
Кобель отзывался такой же любезностью:
– Убей меня бог, и поделом тебе, если сгниешь заживо! Уж как ты меня не обзываешь: ворюга, ворона и дохлятина, зато ты у меня ангел!
Кобель разжигал огонь, убирал комнату, приносил воду и принимался жарить и варить. Все это время они препирались и бранились. Потом молча обедали, обычно на скамейке перед домом под нетерпеливые взгляды Кнеза. Накормив и его, побратимы брались за вино, и только тогда завязывалась беседа, – вспоминали прежние проделки и приключения, а иногда Кобель делился городскими новостями. От него первого Волк узнал о помолвке Мийо Лопушины.
– Слыхал, что Лопушина женит своего старшего сына?
– На ком? – сухо спросил Волк.
– Невеста из семьи твоих добрых приятелей: Бикановичей, из Билицы.
– Которого Бикановича?
– Яковины, он тебя хорошо помнит! Диву даюсь, что не позвал тебя на свадьбу!
И оба захохотали; однажды Волк избил этого Яковину Бикановича. Затем Волк продолжил:
– Девчонка-то черна, как черт, поэтому ее в насмешку и прозвали Белянкой! Ее бы и не взял никто ни в Билицах, ни здесь, в Затрнцах, не будь этого осла Мийо! Что ж, в конце концов пусть улучшается порода! До сих пор всякие Лопушины случались, пускай народятся еще черные да пегие…
Как-то зашел разговор о болезни Волка.
– Вот дьявол, надо же было ему начать с ног! – сказал Волк.
Кобель, разжалобившись, поправил друга:
– Не надо так, брат Юрага, все от бога!
– Нет, не все! Он власть с дьяволом поделил. Сейчас, конечно, уже все равно, но почему с ног?
– Думаешь, лучше, если бы ударило в голову? Тогда, пожалуй, без начала пришел бы конец! Или жалеешь, что у тебя разум не помутился? Вот был бы хорош! Как стал бы разговаривать со мной?
– Вот так, – подхватил, осклабясь, Волк. – Блеял бы, как баран! Вот так, слушай! Ты приходишь, а я: «Бе-е, бе-е-е!» Отзывайся!
Кобель заблеял, и друзья надрывались от хохота. Насмеявшись досыта, Волк уже серьезно спросил:
– Как думаешь, Кобелище, долго ли я еще протяну?
– А почему бы нет, сердце-то у тебя здоровое. Как у ягненка. И ты не старый. На два года старше меня, значит, семьдесят третий год пошел. Ерунда! Еще десять лет проживешь, бог же тебя не оставил без мяса да вина.
Кобель тоже сетовал на свою судьбу. Обеднел, остался бобылем, в селе его ненавидят. Волк утешал друга: «Зато ты здоров, как бык, и наконец, если станет невмоготу, ухлопаешь кого-нибудь – в тюрьме будешь есть хлеб до самой смерти!»
Кнез всегда внимательно следил за разговором двух побратимов и в зависимости от настроения собеседников то разевал пасть, словно улыбался, то угрожающе рычал. Было ему восемь лет, но держался он бодро, хотя от полного безделья стал в последнее время толстеть. Побратимы часто обращались к нему. Кроме обычного приказа: «Возьми!» – пес понимал многое из того, что ему говорили и что от него требовали.
К заходу солнца, когда побратимы обычно напивались вдребезги, начиналась пальба. Кобель ставил у каменной ограды мишень. Первым стрелял Волк, за ним Кобель. Тянулось это порой довольно долго. Когда изредка Кобель оставался ночевать, Лопушиновы тотчас догадывались об этом по шуму, который не утихал далеко за полночь. Впрочем, и в тех случаях, когда Волк бывал в доме один, оттуда неслись какие-то завывания. Тогда каждый из Лопушиновых, крестясь, препоручал себя святому Антуну, заступнику праведных душ от бесовского наваждения!
Зародившаяся в Затрнцах молва о побратимах, переходя из уст в уста, все более приукрашивалась и, докатившись до боснийской границы, превратилась в целую легенду. Рассказывали вот что: «В Затрнцах живет некий человек по прозванию Волк, продавший себя еще в молодости дьяволу. Была у него жена и девятеро детей; жена, сказывают, была богомольная, потому и детей воспитывала в страхе божьем, и все они неустанно молились о том, чтобы исторгнуть Волка из рук дьявола и наставить на путь истинный. Но Волк к богу не обратился, потому что дьявол пообещал ему долгую жизнь, богатство и веселый нрав.
Тогда бог забрал к себе его жену и девятерых детей, одного за другим. А сатана явился к Волку и сказал: «Ну, побратим, отныне мы с тобою настоящие братья! Ты продал мне душу, но не скрепил договор печатью, если хочешь еще жить, настало время это сделать! Ибо следует тебе знать, что кончился срок дарованной тебе богом жизни, я могу ее продлить, но с одним уговором, что отниму у тебя ноги, потому что здоровые ноги могут привести тебя к церкви и покаянию! Итак, значит, если хочешь жить, обмакни в собственную кровь палец и приложи его вот сюда!» И нечистый вынул договор. Волк сказал: «Дай подумать одну ночь». Дьявол согласился. В ту ночь к Волку явилась жена со всеми их девятью детьми, и они стали умолять не слушаться дьявола и последовать за ними к господу богу. Но сердце его окаменело, и, когда на заре снова пришел дьявол, Волк рассек ладонь и кровью скрепил договор! И в тот же миг у него отнялись обе ноги. У Волка есть пес с белым пятном на лбу; не желая с ним расставаться, он просил нечистого продлить жизнь и ему. Дьявол разжал псу пасть и вдохнул в него свое дыхание, и теперь пес понимает человеческий язык. И еще сказал Волк сатане: «Побратим, есть у меня добрый друг в селе Милеваце, Кобель, ты его знаешь. Продли любой ценой жизнь и ему!» Сатана улыбнулся и промолвил: «Кобель давно уже мой и скрепил договор, как и ты! Будет жить! Только сгорбится в три погибели, я подложил ему червячков в позвоночник!» С тех пор эти трое – дьявол, Волк и Кобель – не расстаются и чинят жителям всяческие пакости!»
Побратимы знали об этих россказнях и часто над ними потешались. Бывало, прохожий слышит такой разговор: «Ты знаешь мошенника, что сейчас проходит мимо?» Пес лаял. «Ладно, запомним его!» – продолжал Волк или Кобель, а перепуганный загорец, крестясь, спешил унести ноги.
Местный настоятель фра Ангел, ненавидевший все, что доставляет заботы и беспокойство, грузный мужчина пятидесяти лет, весь заплывший жиром, с трудом служил мессу и обмирал, когда приходилось нести причастие больному. Конь у фра Ангела тоже был тучный. Фра Ангелу надоели вечные расспросы и рассуждения об одержимых бесом стариках; особенно допекали случайные гости из дальних мест; явится такой гость, испросит благословение и потом так или этак, но обязательно задаст вопрос: «Ради бога, отче, скажите, правда ли, что в вашем селе живет человек, который водится с чертом? И сказывают, не расстаются!» Фратер обычно отвечал на это: «Правда ли то? Правда ли это? Будто я тот, на небесах, всеведущий! Все может быть!» Загорцы весьма почитают фратеров, однако же каждый из них в душе немножко Волк. «Но, честной отец, – возражает гость, – если тебе не ведомо, кому же тогда ведомо? А раз все твердят, значит правда! Нехорошо это, для всей округи нехорошо, не говоря уж о селе!» – «Но что же я могу сделать!» – неосторожно выпалил как-то фратер. «Как что?! А святые молитвы, изгоняющие дьявола? Прежние фратеры это делали!»
С тех пор фра Ангел стал осторожнее. Он изучил в большом требнике обряд экзорцизма[46]46
Заклинание и изгнание злых духов (греч.).
[Закрыть]. Беда была только в том, что изгнание полагалось совершать в доме одержимого, а «вра» придерживался поговорки: «Бойся бога, но бойся и того, кто бога не боится!» Однако, узнав, что прихожане собираются подать на него жалобу церковным властям, фратер решил попытаться что-нибудь сделать и однажды утром, еще до восхода солнца, взяв в одну руку требник, в другую зонт, направился к Волку. Шел он неторопливо, рассуждая про себя: «Крестьяне сейчас диву даются и спрашивают: куда это фра Ангел идет без псаломщика?» И в самом деле, встречавшие его затрнчане удивлялись и недоуменно спрашивали друг друга, что это значит. Фра Ангел (который не мог иначе рассуждать, как только беседуя вслух с самим собой, причем всегда говорил себе «мы») продолжал: «Во всяком случае, главное, чтобы крестьяне знали, что мы ходили к этому отступнику! Во всяком случае, это главное… Так-то так, но придется побеседовать с ним! А что я ему скажу? Тхе, чему нас бог вразумит! Отче мой! Если не может чаша сия миновать нас, да будет воля твоя, но, во всяком случае, лучше бы ее не испить!»
И так, то рассуждая с самим собой, то читая вслух из требника, фра Ангел, все громче и громче сопя, продвигался вперед, залитый лучами жаркого июньского солнца. С середины села дорога начинает спускаться под гору, и потому Волк мог снизу ясно распознать даже ребенка. Заметив фра Ангела, Юрага поднял брови. Последний раз он видел фратера на похоронах жены. «Не заболел ли кто из Лопушиновых?» – подумал Волк, но тотчас сообразил, что в таком случае фратер был бы с причастием и не шел бы пешком. «Уж не ко мне ли несет его черт?» – решил он наконец и нахмурился. Кнез, следивший за каждым его движением, наставил уши и весь напружинился. Они обменялись взглядами, и хозяин улегся на скамью, сказав собаке: «Куш, куш и ты!» Ангел, заметив это, пробормотал: «Вот проклятый, прикидывается спящим, а Кнез, того и гляди, в нас вцепится! О пречистая дева, вразуми нас, что делать?» Не видя никого ни в поле, ни подле «башни» Лопушины, честной отец продолжал: «И как назло, кругом ни души! Значит, кроме бога и его святых угодников, никто не придет к нам на помощь! Впрочем, не грешите, фра Ангел! Неужто вам мало небесного воинства? О, фра Ангел, до чего слаба ваша вера! Да, брат, конечно, немощны мы, но опять же бойся того, кто не боится бога и кто сдружился с нечистым!» Непрестанно колеблясь, добрел он до угла усадьбы, предусмотрительно свернул с дороги и двинулся вдоль ограды, пока не поравнялся с Волком, который притворился, будто спит мертвым сном. Взгляд фра обшарил нечестивца, взял на заметку длинное ружье и Кнеза, морда которого покоилась на лапах, а ухо, обращенное к хозяину, было настороже. Сердце фратера забилось, воображение заработало, он уже видел себя сраженным в самое сердце пулей, а дьявольский пес вгрызается ему в ноги и живот; когда страх достиг предела, святой отец воззвал к Иисусу и деве и слабым голосом пролепетал:
– Хвала Иисусу, Юрага!
Волк шепнул:
– Кнез! Возьми его!
Кнез вскочил, перепрыгнул через стену и кинулся на фратера, который, побледнев, стал отбиваться зонтиком и кричать:
– Юрага! Прошу тебя, Юрага! Выручи, прогони собаку!
Юрага неторопливо сел и, протирая глаза, крикнул:
– Кто меня зовет? Кто там?
– Да я, фра Ангел!
Волк свистнул, Кнез послушно вернулся и улегся на прежнее место.
– Хвала Иисусу, Юрага, – повторил фратер и добавил: – А ты?
– Да вот! А вы? – отозвался Волк, строя удивленную мину.
(«А ты», «а вы», «да вот» в тех краях означает: «Как живешь?», «Как живете?», «Помаленьку».) Фратер продолжал:
– Забрел вот случайно. И сам не знаю как. Пришла утром охота прогуляться! Потом вижу, ты лежишь, думаю: «Спрошу-ка человека, как он, я слыхал, что ты болен».
Волк неторопливо набил трубку. Чиркнул спичкой и, пуская первые клубы дыма, ответил:
– Да вот, мой добрый отец, ноги не ходят.
– Отчего бы это?
– Откуда мне знать, отче? Отнялись! Годы! А может, и простуда!
– По годам вроде рановато! А ты советовался с врачом?
– Как же, – бесстыдно соврал Волк. (В этот миг перед глазами у него встал побратим Кобель, и, представив себе, что он где-то здесь поблизости и, слушая эти разговоры, особенно последний вопрос, помирает со смеху, Волк с трудом удержался, чтоб не расхохотаться фратеру в лицо.) И, скрывшись за облаком дыма, громко продолжал: – Лекарь прописал мазь и порошки.
– И не помогает? – воскликнул настоятель, будучи уверенным в совершенной бесполезности всяких лекарств. Ведь сколько и каких только порошков он ни глотал, он так и не добился, чтобы «тело стало послушным», как говорят монахи, когда у них случается запор.
Фратер заметил про себя: «Ну, сейчас самое время начать настоящий разговор!» Но тут его взгляд встретился с взглядом Кнеза, и фра Ангелу почудилось, что собака смотрит на него насмешливо, выжидательно и с каким-то вызовом, – упаси бог как! Все басни о собаке Волка промелькнули в голове фратера; вспомнил он и о том, что прочел в книге «О сатанизме», что злой дух охотно вселяется в животных, и по телу фратера побежали мурашки. К тому же ему еще показалось, будто Волк воровато оглянулся вокруг (нет ли кого поблизости), и его пальцы, вздрогнув, невольно потянулись к ружью; фратер затоптался на месте и неожиданно выпалил:
– Ну, прощай, мой добрый Юрага! Бог тебе поможет!
– Счастливого пути, милейший отец Ангел, – сказал Волк и шепнул Кнезу: «Гоп! Возьми!» – после чего пес проводил фратера так же, как и встретил.
Отойдя порядком, фра сказал себе: «Что ж, главное мы свершили – помянули имя господне! Уф!» Увидав трех затрнчан, поджидавших его на обочине дороги, он раскрыл требник и махнул рукой, чтобы его не тревожили. А в первое воскресенье на вопросы, заданные ему на паперти, преподобный отец только надувал щеки и отмахивался; все поняли, что это означает: «Попытался, ну и посмотрим, посмотрим!»
Тогда и сложили продолжение легенды, как фратер села Затрнци пытался изгнать из Волка дьявола и как во время заклинаний его пес заговорил человеческим голосом: «Напрасно, вратер, мучаешься, мы навеки останемся во власти дьявола».
Тот год выдался урожайным, особенно обильно, просто на редкость уродил миндаль. Волк выручил за него хорошие деньги, испольщики тоже принесли немало, и потому пиршества друзей участились. А когда задули холодные осенние ветры, Волк заперся, и единственным признаком жизни в его доме была поднимавшаяся из трубы тонкая струйка дыма.
* * *
Как-то вечером в воскресенье, в самый разгар бури, привели Миятову новобрачную. Свадьбу справляли в ее селе. Привели Белянку деверь Антун, кум, некий Степан Пирика, их односельчанин, и Марта Шундичка, Миятова тетка. Все прискакали верхом на мулах, и все, кроме молодой, пьяные. Староста Иван встретил их во дворе и после обычного благословения обнял сноху. С соседской усадьбы ветер донес ослиный рев, собачий лай и смех. Ревели Волк и Кобель, а лаял Кнез. Мийо убежал в дом и вернулся с топором, кум Пирика выхватил ятаган, Антун крикнул батрачке: «Принеси ружье!» Женщины завизжали. Старик стал у ворот, чтобы задержать пьяных. Молодая упала на грудь тетки Шундички, дрожа всем телом, и, плача, спросила:
– Что с ними, тетя, скажите, ради бога? Что с ними?
Тетка вырвалась из ее объятий и тоже забегала, засуетилась. Батрачка вынесла длинное ружье, но молодая оттолкнула ее в сторону.
– Кто ты? Неси это зло назад! Скажи мне, что происходит? В кого хотят стрелять?
– В Волка и Кобеля! – ответила девушка. – Это они ревут ослами, надругаться хотят над нашей свадьбой!
– Волк? – переспросила Белянка удивленно. – Уж не тот ли это, о котором говорят, будто он продал душу дьяволу?
– Он самый, да к тому же он ваш кровный враг, ведь это он убил хозяйского брата!
– О Иисусе! Неужто он наш сосед? – испуганно спросила молодая. – А ты, ты кто и откуда?
– Я из Шврлюга, ваша батрачка! – Обе поднялись на цыпочки и заглянули в ворота, Белянка шепнула:
– Возвращаются! Хвала Иисусу! Хвала святой Марии, зло не свершится!
Она вошла в дом и окинула взглядом мрачную комнату. Посреди горел огонь, и какой-то паренек жарил на вертеле барана. Неподалеку от очага стоял низкий круглый стол, вокруг него стулья, в одном углу ткацкий станок, в другом теплилась перед иконами свеча.
Служанка не спускала с нее глаз. Молодая была довольно высокая, ядреная, точно из мрамора вытесанная! Батрачка сказала про себя: «Будь еще кожа побелее, то, ей-право, ни к чему не придерешься!»
Белянка опустилась на колени перед иконами.
Пьяная ватага ввалилась в дом. Из общего гомона выделился зычный голос Ивана:
– А где моя сношенька, Белянка моя? Бедное дитя, хороша встреча! И в самом деле испугалась и спряталась! Эй, Белянка!
– Вон она, перед святой девой! – сказала батрачка, все еще не выпуская из рук ружья.
– Ах! – воскликнул староста при виде обеих женщин, одной молящейся, другой вооруженной. – Чего стоишь, глупая баба! Зачем тебе ружье? Унеси-ка его и займись ужином! А вы поглядите на мою гордость, мою послушницу, с каким усердием молится владычице! Видишь, это первое, что она сделала! Это к добру – наше счастье, что она такая богомольная! Помолимся и мы!
Кум Пирика, Мийо, Антун и тетка Марта, шатаясь, последовали за хозяином и выстроились позади молодой. Марта опустилась на колени рядом. Четверо мужчин, покачиваясь из стороны в сторону, забормотали молитву.
Потом сняли с вертела жирного двухгодовалого барана. Кум Пирика разрезал барана с великим искусством. Все, не спуская глаз, следили за его меткими ударами и только покачивали головами, когда нож попадал точно между ребрами или позвонками. Капельки жира, кусочки мяса разлетались во все стороны, обрызгивая присутствующих, но никто не отодвинулся. Кум бросал отрезанные куски в большую миску. Когда все было готово, старик, усаживаясь, сказал:
– Ну и молодец ты, кум! Спасибо!
Потом, кивнув головой младшему сыну, бросил:
– Ну-ка, сынок, огласи!
Антун взял ружье и с порога выстрелил, прокричав:
– За здоровье Лопушиновых, малых и больших! Дай боже этому дому кучу детей!
Уселись. Посредине стола стоял огромный кувшин вина. Перед каждым лежал только нож да кусок лепешки – ни вилок, ни утиральников. Иван первым наткнул на свой нож кусок мяса; все последовали его примеру и неторопливо принялись за еду. Съев несколько кусочков, молодая встала и сложила руки под поясом.
Батрачки и паренек ели в сторонке. Паренек, крепкий и сильный, был сын бедняка; отец и сын часто работали у старосты. Батрачка спросила его:
– Ивица, как тебе нравится молодая?
Ивица пожал плечами.
– Ну, – продолжала она, – скажем, если бы тебе пришла пора жениться, взял бы такую?
Ивица сначала покачал, а затем закивал головой.
– На первый взгляд – нет, но потом, пожалуй, да! Когда глаз к ней привыкнет, она хороша!
– О, какой же ты умница! – шепнула удивленно батрачка. – Такой молодой, а не дурак! В том-то и дело. Все милей и милей. Каждый это скажет. Так и с Мийо. Когда увидел ее первый раз, то, верно, и не подумал, что можно на ней жениться, а потом полегоньку и присох к ней сердцем. О пресвятая дева, есть же на свете счастливые девушки, – закончила батрачка, словно про себя.
Насытившись, все принялись кончиками ножей скрести кости. Антун поднялся и стал с ружьем на пороге в ожидании здравицы хозяина. Староста Иван взял кувшин и выпил за здоровье кума. Грянул выстрел, молодая поклонилась. Кум выпил за здоровье Мийо, Мийо за здоровье Антуна, Антун за здоровье тетки Марты, Марта за процветание дома Лопушиновых и здоровье молодой, «которая, по правде сказать, еще не Лопушинова», добавила она, подмигивая.
Мужчины закурили глиняные трубки, и только теперь завязалась беседа. Начали с Волка. Молодая, стоя по-прежнему неподвижно, слушала рассказ о жизни и делах Волка, слушала вой ветра, смотрела на красные лица пьяных мужчин, на огонь, на слуг, которые дремали в углу, сытые и пьяные. Холодно было у нее на сердце в этом доме среди грубых людей с их страшными рассказами. Она родилась с зародышем глубокой грусти, этим наследием неплодородных краев и сурового климата, где борьба за жизнь безмерно жестока, где песня походит на плач, а любовь к женщине сводится к минутному удовлетворению похоти. Она выросла в лишениях, убежденная в том, что жизнь – страдание, что в мире больше зла, чем добра, и что зло подстерегает человека на каждом шагу, гложет его здоровье, душу и сердце! Ее ограниченному, сбитому с толку сознанию, проникнутому этими чувствами, было не под силу выразить их самостоятельно, и она выражала их в механически заученных молитвах и выражениях, как, например: «Мать милосердная, смилуйся, спаси нас!» Но никогда еще эти чувства не были в ней так обострены, как в вечер свадебного пира! Уверения мужчин, будто Волк и Кобель продались нечистому, вселили в нее страх, но в то же время она поняла, что на этом свете человек и не может быть счастлив и доволен, если не спознается с сатаной! Святотатственная мысль привела ее в трепет, она подняла полные слез глаза к образу богоматери и прошептала:
– Мать милосердная, смилуйся надо мной! Не допусти!
Деверь шутливо дернул ее за передник и спросил:
– Чего ты? По маме плачешь? Забудешь ее еще до рассвета!
Девушка, сконфузившись, отошла, как будто для того, чтобы подкинуть дров в очаг, а свекор обратился к гостям:
– Знаете, очень я всему рад, но радовался бы еще больше, если б дьявол наконец унес Волка.
– Нет, прежде срока не может, – пояснил Пирика. – Сказывают: «Сатана, что турок, держит свое слово». Кто плюет на крест, держит слово! Странно, но так.
– Что правда, то правда, – подтвердил свекор и, немного подумав, добавил тише: – Мне страшно за молодую! Боюсь бесовского наваждения. Мы закаленные, дышим этим воздухом с рождения, а она-то слабая.
– Не бойся, – уверенно подхватила Марта. – У Белянки кое-что зашито в одежке, она не знает, да и не следует ей знать.
Белянка слышала весь разговор и, обомлев, воскликнула про себя:
– Помоги, Иисусе, и ты, Мария! Не оставьте!
Пили и болтали допоздна, пока вино не одолело, наконец все заснули.
Белянка, по обычаю, легла между деверем и заменяющей свекровь Мартой. Антун и Марта тотчас заснули, а новобрачная, охваченная жуткими мыслями и встревоженная воем и шумом ветра, вертелась еще долго.







