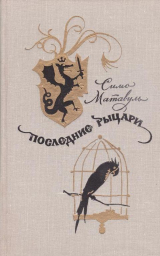
Текст книги "Последние рыцари"
Автор книги: Симо Матавуль
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 29 страниц)
СЛУЖАКА
Когда посыльный принес почту, начальник гарнизона города К., сухощавый, болезненный человек, сидел в своей канцелярии.
Прочитав служебное уведомление, он воскликнул:
– Смотри-ка! Что это им в голову взбрело?
Немного погодя в канцелярию вошел старший офицер, бородатый, рыжий и весь какой-то взъерошенный.
– Знаешь новость? – обратился к нему майор. – Переводят от нас поручика Драгишу в Белград, в военное министерство чиновником.
Взъерошенный капитан еще сильнее взъерошился и пробасил:
– Подумать только! Драгишу увольняют из армии. Где же справедливость? Человек столько лет прослужил в армии, участвовал в двух войнах, получил ранение, саблей заслужил офицерство, к тому же он один из лучших наставников наших новобранцев, и, вместо того чтобы приколоть ему третью звездочку, его посылают, точно какого калеку, в канцелярию! В чем тут причина?
– Растолкуй мне, и я тебе объясню! – досадливо проворчал начальник.
– Ясно, им понадобился переписчик, и где ж его искать, как не в нашем гарнизоне, где их и так больше, чем нужно! И кого же брать, как не Драгишу, который и так уже почти двенадцать лет в поручиках! «Такой человек никуда не пригоден, – думают они. – Служака, давай его сюда!» Ну хорошо, братец, заступись же за человека!
– Конечно… но как бы это сказать… Надо бы подыскать форму!
– Форму! Драгиша один из лучших наставников, вот тебе единственный и лучший довод!
– Верно! Что правда, то правда. Он один умеет толком выучить нашего мужика, не ожесточив его душу. Но… вообще говоря… ты знаешь, как они смотрят на вещи? Ну, там будет видно.
Капитан перешел на служебные дела, ради которых явился, затем еще раз помянул Драгишу и вышел.
Майор стал у окна и забарабанил пальцами по стеклу. За окном кружились крупные снежные хлопья.
В сумерки денщик внес лампу, а немного погодя по зову гарнизонного начальника пришел поручик Драгиша Милутинович, человек лет тридцати с лишним, среднего роста, широкоплечий, смуглый, с большими усами, широким румяным лицом, мужественным и в то же время застенчивым.
– Скажите-ка, Драгиша, – спросил майор, – вы когда-нибудь не высказывали желания переменить службу?
Прошло несколько секунд мертвой тишины, прежде чем поручик ответил:
– Не понимаю вас, господин майор!
– Вижу, что не понимаете. Дело вот в чем! – И он прочел приказ.
Поручик побледнел и с трудом вымолвил:
– Слушаюсь, господин майор!
– Значит, вы не высказывали желания перейти на другую службу. Вспомните хорошенько!
– Слушаюсь, господин майор, – повторил офицер, овладев собой. – Я никогда не выражал желания перейти на другую службу!
– Гм! Да! Посмотрим! А сейчас, того, можете идти!
Драгиша шагал удрученный внезапно навалившимися на него обидой и унижением. Потом остановился – старого фронтовика охватил гнев на «тех наверху», что одним росчерком пера уничтожили его честолюбивые помыслы; на «тех наверху», что учат воевать по книгам, а чуть дойдет до дела, убегают, предоставляя погибать строевикам! Он сердился и на майора за странный вопрос! «Разве я мог когда-либо даже подумать уйти из армии! Разве мне, Драгише, еще в детстве бежавшему в Сербию от турецкого гнета, безусым юнцом ушедшему на войну, раздобывшему саблей офицерский чин, мне, которому армия заменила родной дом, – могло вдруг прийти в голову стать писаришкой?» Он упрямо вскинул навстречу снежным хлопьям свое нахмуренное лицо и тотчас понял, что все это следовало говорить не в воздух, а майору, что не следовало глупо твердить «слушаюсь», как это делают его рекруты! И Драгиша двинулся дальше, упрекая себя в том, что не сказал несколько слов в защиту справедливости, которая так слаба, что даже заступничеством такого бедолаги, как Драгиша, ей не приходится пренебрегать.
Так он добрел до казармы; самое большое помещение первого этажа было битком набито новобранцами. В комнате стояла ужаснейшая вонь. Лампы были уже зажжены. Поручик остановился на пороге. Никогда еще не испытывал он так остро наслаждения, которое доставляет человеку сознание того, что в его руках жизнь многих людей, что он управляет их волей, направляя ее к определенной цели; впервые поручику пришло в голову, что у него в руках что-то большое, чего он вот-вот лишится и что драгоценнее самой жизни! И еще Драгиша впервые в жизни понял, что казарма – большая народная школа, в которой следует прививать и укреплять мораль, знания и лучшие человеческие качества! И совесть ему подсказала, что был он не только храбрым командиром на поле боя, но и добрым учителем в мирное время, что ему удавалось «выучить мужика, не ожесточив его душу», потому, что он любит этого «мужика». Драгиша любовно оглядел вытянувшихся в струнку парней, на которых еще так неуклюже сидели новые брюки и блузы! И снова подумал о «тех наверху», которые гнушаются смрада, запаха пота и дыхания солдатской массы, хотя, только пройдя через этот смрад, можно проникнуть в ее душу!
Он подал команду, и солдаты сели.
Учение продолжалось, но господин поручик казался до того рассеянным и странным, что унтер-офицер и солдаты даже подумали, не забежал ли он за короткое время своего отсутствия куда-нибудь и не «хватил» ли сверх меры.
Друзья Драгиши сетовали на несправедливость, ведь все были уверены, что зимой его произведут в капитаны.
Спустя два дня устроили прощальный вечер. Среди здравиц были и такие, что растрогали старого служаку до слез. Не обошлось, конечно, и без шуток. На одну из здравиц, в которой говорилось о том, что это мимолетная неприятность послужит ему же на пользу, Драгиша ответил так: «Поверьте, господа, если зовут на свадьбу осла, наверняка не стало либо дров, либо воды!»
* * *
Прошло три года.
Некий белградский актер, представлявший по кафанам типы белградцев, как-то летним вечером сидел в кафане. Он только что закончил один из своих рассказов, как кто-то из слушателей спросил:
– Скажи, пожалуйста, кто этот толстяк, который позавчера вечером сидел с тобой «У павлина»?
– Усатый, что ли? – спросил актер.
– Да!
– Это мой земляк, Драгиша Милутинович, преоригинальнейший человек!
– Почему же ты нам о нем до сих пор ничего не рассказывал?
– А потому, братец, что я еще изучаю его; впрочем, вас заинтересует даже то, что мне уже известно. Итак, как я уже сказал, Драгиша мой земляк. Правда, родом он не из нашего села, в нем он только вырос; родители его бежали всей семьей из Герцеговины. Мы с Драгишей сверстники и учились вместе в начальной школе; он поступил учеником к оружейнику, а я к парикмахеру. Во время турецкой войны{36} Драгиша восемнадцатилетним юношей пошел добровольцем в армию. Несколько лет я ничего о нем не слышал, но встретил его перед последней войной{37} в Белграде уже унтер-офицером. Потом говорили, что он отличился в боях и произведен в офицеры.
Несколько месяцев тому назад встречаюсь я на Теразии с каким-то человеком; он взглянул на меня, быстро отвернулся и поспешил дальше. Лицо его показалось мне знакомым, а его бегство возбудило любопытство. Поворачиваю за ним, справляюсь о нем на каждом шагу у знакомых. Все пожимают плечами. Наконец наталкиваюсь на Уроша К., который знает всех, он и говорит:
– Странный это человек и нехороший, один из тех, о которых говорят: до обеда себя ненавидит, а после обеда и себя, и весь свет! Бывший офицер, сейчас, кажется, чиновник военного министерства! Не знаю точно, как его зовут.
– Господи, уж не Драгиша ли Милутинович? – спрашиваю.
– Кажется, его имя Драгиша!
Я кинулся за беглецом и, нагнав его, хлопнул по плечу.
Он обернулся и выпучил на меня глаза с таким видом, будто собирался съесть.
Я крикнул:
– Драгиша, друг, неужто не узнаешь?
Он смешался немного, что-то буркнул себе под нос, протянул руку и забубнил:
– Как же, как же! Слыхал, что со мной случилось? Перевели из армии в министерство! А друзья у меня чудесные! «Подпиши, говорят, Драгиша, вексель». – «Давай, почему бы нет!» Уйму векселей подписал и все пришлось выплатить! Полгода водили за нос – все сулили вернуть в армию!
– С каких же пор ты в Белграде? – спрашиваю, чтобы внести какой-то порядок в его бессвязный рассказ.
– Да вот уже три года!
– И за столько времени мы ни разу не встретились!
– Где же встретиться? – сердито крикнул он. – Понимаешь, я разорен! Никуда не выхожу, ни с кем не встречаюсь… из дому на службу, а со службы домой.
– Женился?
– Вот еще! Не видишь, что я уже седой?
– Я, брат, и не имел в виду последние годы, а полагал, что ты уже давно женат.
– В армии, что ли? Ну да, как же, думал я там о подобных глупостях!
– А какое у тебя жалованье?
– Около двадцати дукатов в месяц.
– Да это прекрасное жалованье!
– Конечно, особенно как подумаешь, что мне его положили благодаря хлопотам тетушек! Следует знать…
– Знаю, знаю… – прервал я, видя, что он снова принимается за свои жалобы. – Ну, как-нибудь в другой раз встретимся и поговорим! До свидания!
Возмутило меня тогда его поведение! Я от всей души интересуюсь им, а он хоть бы спросил о моей семье, хоть бы заикнулся о нашем детстве! Ясно, что это скаред, досадующий на перевод из армии лишь потому, что там получал бы более высокий оклад. А потом, эти его уверенья, будто разорен выплатой по векселям! Готов биться об заклад, что все это вранье, просто он заподозрил, что я тоже хочу использовать его как поручителя!
Встреч с ним я больше не искал, а если мы и встречались, я делал вид, будто его не замечаю. Так прошло несколько месяцев, и вот вчера вечером, проходя по улице князя Милоша, я остановился, чтобы переждать похоронное шествие. Вдруг меня хлопают по плечу. Оглядываюсь – Драгиша! Дружески протягивает руку. Народу скопилось много, кто-то меня толкнул, и я качнулся в его сторону.
– О, о! – воскликнул он, подхватив меня под руку. – Ты, кажись, не очень-то тверд на ногах, да и руки у тебя тонковаты, ей-право!.. Кого это хоронят?
– Не знаю, – бросил я, недоумевая, что ему от меня нужно. Ведь подобные люди даже «бог в помощь» не без расчета говорят. Впрочем, какой услуги он может от меня ожидать? Разведать о своей новой жертве, которую я знаю! Ну, погоди, старый негодяй, уж я тебе сейчас услужу!
Драгиша предложил:
– Давай выпьем по кружке пива?
– С удовольствием, – говорю. – Раз ты в таком хорошем настроении, давай! В самом деле, сегодня ты малость повеселее!
– Эхма, если б мы вчера вечером встретились, я угощал бы тебя всю ночь!
– Ну, а за что?
– За то, что ты так здорово представил гайдука Велько!
– Ты был в театре?.. Значит, ты ходишь иногда в театр?
– Изредка, когда дают «Гайдука Велько» и «Бой на Косове». Это стоящие вещи, не то что прочие ваши дуракавалянья! Удивляюсь, почему постоянно не дают героические пьесы… этак, знаешь, о наших юнаках, о битвах, чтобы видело наше нынешнее худосочное поколение, каковы были их отцы и деды! А вот вчера взглянул случайно на афишу и вижу, ты играешь Велько! И так бы, думаю, пошел, а теперь тем более надо поглядеть, как мой земляк представляет юнака! И, клянусь богом, только ты вышел, я просто удивился, до чего тебе пристал наряд воеводы!..
И мой Драгиша с большой теплотой заговорил о пьесе, обо мне и товарищах, а главным образом, о моей роли.
Я все более поражался, убеждаясь, что он вовсе не такой, каким я его себе представлял. Потом он замолчал, утер платком пот со лба и, вздохнув, закончил так:
– Боже, как человек порой увлекается – сущий ребенок! Впрочем, нужно же когда-нибудь и увлечься!
Меня тронули эти слова.
– Слушай, Драгиша! Давай поговорим откровенно! – сказал я. – Должен признаться, что, когда мы встретились с тобой впервые, спустя столько лет, ты произвел на меня неважное впечатление! Ты… как бы выразиться?.. показался мне себялюбцем, шкурником, безучастным ко всему, кроме себя. А сейчас ты представляешься мне совсем иным, сейчас мне кажется, что на сердце у тебя большой камень!
Драгиша поглядел на меня удивленно и после довольно длительного размышления, в течение которого он словно вникал в мои слова, нахмурился и гаркнул во все горло:
– Но разве я тебе не говорил, что меня выгнали из армии, и как раз тогда, когда я рассчитывал получить чин капитана?
– Да ведь тебя, братец, не выгнали, а перевели в чиновники! Ведь ты получил должность по указу и хорошее жалованье!
– Что мне до указа, до жалованья, до чиновничьего звания! – крикнул он с таким раздражением, что на нас стали оглядываться из-за соседних столиков.
– Тише, Драгиша, тише, прошу тебя! Люди подумают, что мы ссоримся! Я вовсе не хотел тебя обидеть…
– Как же не хотел? Ты говоришь… Нет, ты не можешь понять! Ты не можешь понять!
– Хорошо, хорошо, я не могу тебя понять, согласен, но зачем же кричать!
Драгиша продолжал, понизив голос:
– Это тебе они назлословили, мои дружки, что я сквалыга, что я… А небось не сказали сучь… что я из-за них голодал более полугода, что наложен был арест на мое жалованье! Не жалко, если бы это пошло беднякам, честное слово, а то ведь кому – наглым, бессовестным людям, которые живут не по средствам!
– Что поделаешь, Драгиша, это часто случается и с другими. А насчет того, будто о тебе мне кто-то наговорил, то это не так, уверяю тебя! Я вообще никого о тебе не расспрашивал!
– А и расспрашивал бы, ничего хорошего не услышал, ведь таких гадов во всем мире не сыщешь! Жду не дождусь уйти на пенсию, еще восемнадцать месяцев тянуть лямку!
– Где же ты поселишься?
– В Белграде останусь.
– Значит, все-таки среди «гадов»?
– Нет, брат, в Новом Сельбище, а это совсем другое дело! Купил там домик.
– Так! Значит, у тебя собственный дом! Конечно, и хозяйка?
– Будет тебе! Ты все, как в театре!.. Заверни, друг, как-нибудь сюда в это время!..
– А где столуешься?
– Дома. Беру с собой… вот, погляди! – сказал он, извлекая из карманов копченую колбасу и сласти. – Это ребятам!
– Каким ребятам?
– Соседским! Знаешь, люблю детей! У тебя их сколько?
– Четверо.
– Дай бог им здоровья! – Драгиша отделил четыре пирожных. – На, отнеси им!
На этом наша беседа окончилась.
Ну, скажите, не загадочный человек? Я думаю, что он сошелся с какой-нибудь лукавой жеманницей, которая его взнуздала и высасывает из него все соки. Но я захвачу птичек в гнездышке! И не успокоюсь, пока не открою его убежище, будь оно хоть у черта на куличках.
* * *
Как-то раз вечером, несколько времени спустя после вышеупомянутой встречи, актер подкараулил Драгишу у выхода из канцелярии. Они посидели немного в кафане и распрощались. Когда Драгиша отошел шагов на пятьдесят, актер последовал за ним.
Оставив за собой последнюю улицу Врачара, Драгиша свернул на луг и зашагал по извилистой дороге, обочины которой заросли кустарником и высокой травой. Вдруг за поворотом затарахтела телега, потом она остановилась, и донесся неясный разговор. Актер пробежал с десяток шагов и услышал: «Да он, черт бы его драл, букварь разодрал, как же его не бить!» Судя по выговору, крестьянин был, видимо, из Баната. Они понизили голоса, наконец банатчанин стегнул по лошадям, сказав: «Ладно, господин». Актер спустился в канаву, сделав вид, что собирает землянику, и увидел, как мимо прорысили две запряженные в телегу тощие лошаденки, подгоняемые высоким человеком в широкополой соломенной шляпе.
Дорога вывела актера на просторный луг, в глубине которого выстроились крайние дома Нового Сельбища. Драгиша вошел в дом, который стоял среди обнесенного забором возделанного огорода.
Актер огляделся по сторонам. Куда ни посмотришь, новая картина – там холмы и долины, покрытые зеленью, там жнивье и поля кукурузы выше человеческого роста. И все это залито золотом закатного солнышка. Отовсюду несется музыка, песни, звон колокольчиков, мычанье скота, словно это в двух днях ходьбы от Белграда!
Актер подошел к поселку с задов. Стены здесь были глухие, крыши на один скат – «на одну воду», как метко выражаются в некоторых местностях.
Приблизившись вслед за Драгишей к забору, актер услышал вдруг детские голоса. Но вот они внезапно затихли, и прозвучал густой бас Драгиши: «Смир-но!» И тотчас же: «Направо рав-няйсь!»
Актер двинулся вдоль забора, дошел до фасада и увидел среди двора стоящего к нему спиной Драгишу: старый солдат держал в руке палку, точь-в-точь как офицер саблю, когда подает команду. Удивленный актер поднялся на цыпочки и увидел с десяток выстроившихся перед Драгишей мальчишек, без шапок, босых и оборванных! Каждый держал на плече палку и с самым серьезным видом равнялся направо.
А фронтовик кричал:
– Милан, подайся назад! Гиго, опусти левое плечо! Бато, держи винтовку пониже! А сейчас внимание! По команде «арш» все разом ударите правой пяткой! Итак, внимание!
Драгиша повернулся и отошел шагов на пять-шесть.
Увидав в разгар этой комедии его лицо, мужественное, суровое и необычайно серьезное, актер перестал удивляться, и его охватил неудержимый хохот. Хватаясь за бока, он повалился на траву.
Учение продолжалось:
– Рота, шагом арш!.. Раз! Два! Раз! Два! Туп! Туп! Стой!
Актер хохотал до слез.
– На-ле-во! На-прав-во! Стой!
«Командир» во главе отряда зашагал на другой конец двора, оттуда снова вернулся к актеру, лежащему на животе. Один из «солдат» извлек из кармана орех и разгрыз его зубами, другой ткнул под ребра «капрала».
Когда «войско» опять удалилось, актер сделал еще насколько шагов вперед, чтобы обозреть весь двор. Поперек тянулся ряд молодых деревьев. В углу колодец с журавлем. С фасада глядело четыре окна. В крайней комнате видна была вся обстановка: железная кровать, полированный стол, несколько стульев, над кроватью икона, по бокам сабля и острагуша, а над ними фуражка.
На ступеньках крыльца сидела с вязанием в руках старуха, рядом смуглая, как цыганка, девочка толкла кофе. Ни та, ни другая не обращали внимания на то, что делалось во дворе, – видно, давно свыклись! Перед калиткой стояла ватага ребят поменьше и внимательно следила за маневрами отряда.
Служака принялся что-то объяснять, видимо не такое простое, так как он то и дело чертил на песке. Солдаты то поднимали носишки к нему, то опускали их долу.
Какая-то женщина по соседству крикнула: «Эгей! Шаца!» На ее зов из строя выскочил паренек и отозвался: «Я здесь, мама, у господина!» – и вернулся на прежнее место. И снова начались упражнения, длившиеся, вероятно, минут десять, потом дана была команда «стой!», затем прочли «Отче наш», и дети с шумом разошлись, поедая фрукты и сласти.
Старуха вынесла из дома стул, Драгиша сел и закурил. Девочка продолжала свою работу; откуда-то подошел большой пегий пес и стал тереться о ногу Драгиши.
1895
ТАЙНА ВЛАЙКО
Чиновник министерства Влайко Н., «Чудак Влайко», как прозвали его друзья, менял квартиру и снял первую же попавшуюся на Дунайской улице. В низком, темном проходе сильно дуло из сквозных ворот, которые вели в длинный двор с «квартирами» для бедноты – комната с кухней на семью; во двор выходило, верно, не менее дюжины дверей. Над всем двором, словно тенета, протянулись веревки с развешанным бельем. Откуда-то из-за этого тряпья до него донеслась мадьярская речь. Он свернул направо и поднялся по крутой деревянной лестнице на веранду. Слева было три двери и три окна, занавешенные изнутри зелеными шторами. В глубине виднелась одна дверь, справа – застекленная галерея.
Из средней двери вышла высокая пожилая женщина с гнилыми зубами и с узловатыми длинными пальцами. С первых же слов Влайко распознал в ней уроженку Баната. Комната, которую предложила ему старуха, оказалась просторной, только деревянная мебель была вся трухлявая. Железная кроватенка хромала на одну ногу, полированный столик с трещиной посередине едва держался на тонких ножках и, казалось, разлетелся бы в щепы от одного сильного удара кулаком. В этом же роде была и остальная обстановка: шкаф, умывальник, диван и три стула.
– Комната, как видите, хорошая и притом изолированная, – расхваливала старуха. – В ней прожил целый год господин Р., дипломат.
Влайко дал задаток. Ему понравилось, что комната обособлена и окна выходят на улицу.
Старуха добавила:
– Не беспокойтесь, сударь, вы останетесь вполне довольны! У нас есть и слуга, ученик, очень старательный юноша. Он сейчас куда-то вышел, но чуть что понадобится, вы только крикните: «Никодий!»
Влайко перебрался в тот же вечер.
На другой день Влайко поднялся рано, но по случаю какого-то торжества занятий в канцелярии не было, и он вернулся к себе около десяти. Хозяйка отсутствовала, дом казался вымершим. Ключ висел на дверном косяке. Влайко отпер и остановился на пороге, неприятно удивленный. Комната была в том самом виде, в каком он ее оставил, – постель не убрана, пол не подметен и т. д. Он хлопнул дверью и зашагал по комнате. Взгляд упал на табакерку – исчезла чуть ли не половина табака. Влайко окончательно взбеленился и заорал:
– Никодий!
За другой дверью послышался какой-то скрип, потом тонкий голосок что-то невнятно произнес. Влайко отворил дверь и снова крикнул:
– Никодий!
– Никодий! – повторил голосок.
– Что это?! Кто здесь? – спросил Влайко.
Голосок заскрипел снова.
– Ах, чтоб тебя кошка съела! – рявкнул Влайко, сообразив, в чем дело. – Фу! Эта противная баба держит попугая!
Он вернулся в комнату, стал перед столом и проворчал:
– Значит, таскают табак! И чего я злюсь? – продолжал он, снимая пиджак. – Высплюсь и уберусь отсюда, а старухе устрою какую-нибудь пакость! Разве так поступают с жильцами в первый же день?
Проснулся он примерно в полдень, быстро привел себя в порядок и вышел на веранду. Вдруг соседняя с ним дверь распахнулась, и оттуда показались старуха в очках на кончике носа, с цигаркой в руках, за ней болезненная молодая женщина с бледным лицом и воспаленными глазами и, наконец, юноша лет семнадцати – восемнадцати в опанках, среднего роста, плечистый, широколицый, румяный, с большими голубыми глазами. Из темной комнаты пахнуло йодоформом, какой-то кислятиной и дымом. Все трое, точно какая депутация, выстроились рядком и поклонились. Старуха стала оправдываться: и ей и Никодию помешало убрать комнату некое «непредвиденное обстоятельство», но больше это не повторится, наверняка не повторится! Пока она бормотала извинения, Влайко посматривал на дымок ее цигарки, и с языка его готов был сорваться вопрос: «А скажите, пожалуйста, у вас полагается, чтоб жилец снабжал вас табаком?» И как раз когда он хотел это сказать, в темной комнате пискнул попугай, и старуха шмыгнула туда. А молодая женщина, глядя на него с деланно-невинным видом, отчеканила:
– Честь имею представиться! Евфимия, вдова Расквасилова!
Влайко иронически поклонился. Затем так же насмешливо обратился к юноше:
– А ты господин Никодий?
Юноша расплылся до ушей.
Влайко ушел. В тот же день, после полудня, он получил аванс в счет жалованья и провел ночь в «Бульваре». На другой день Влайко проспал часов до трех. Когда он одевался, кто-то постучал в дверь.
– Можно! – крикнул Влайко и, увидев Никодия, спросил: – Есть здесь поблизости кафана?
– Да, вон напротив!
– Ступай принеси мне кофе!
После «великого бдения», как называл Влайко ночной кутеж, и долгого крепкого сна он обычно бывал в отличном настроении. Набивая трубку и мурлыча себе под нос, он отворил окно. По улице сновал народ.
Никодий принес кофе.
– Молодец, парень! – воскликнул Влайко и протянул ему немного табаку.
– Я не курю, сударь! Я… это… ни за что на свете не тронул бы ваше добро!
– Что ты хочешь этим сказать? – спросил Влайко.
– Да… это… Вы, может, подумали, что я таскаю ваш табак!
– Значит, его ворует хозяйка! – заключил, смеясь, Влайко. – Скажи, на что, собственно, живут твои хозяйки?
– Я не говорю, – ответил Никодий, – что табак брала старая госпожа, однако… это… следует запирать! А насчет того, на что они живут, – так сдают комнату, потом госпожа Евфимия работает у модистки Кубиловой.
– Ах так! А тебе сколько платят?
– Да договорились шесть динаров в месяц и ужин! – ответил, пожав плечами, юноша, что, видимо, означало: «Одно дело договориться, а другое – получать! »
– Гм! Задаром служишь! Но, может, они тебя вознаграждают каким другим манером?
Никодий выпучил глаза. Его удивление и непонимание намека было искренним.
– А они здесь? – спросил Влайко.
– Нет! Можно идти?
– Можешь. А скажи, где попугай?
– Какой попугай?
– Разве у твоей хозяйки нет попугая?
– Нет!
– Черт возьми, что же это было? Вчера я слышал крик попугая в соседней комнате!
– Это, сударь, – печально промолвил юноша, – не попугай, а Эмил!
– Эмил! Какой Эмил?!
– Сын госпожи Евфимии!
Влайко пожал плечами и подошел к окну.
Глазея на прохожих, он выкурил две трубки и собрался выйти из дому, но на веранде его задержала странная картина.
Около средней двери, за столиком у стены, на стуле с перекладиной, сидел ребенок и водил пальчиком по какому-то разостланному перед ним листу. Никодий, присев перед ребенком на корточки, внимательно следил за движением его пальца. Оба были настолько увлечены, что не слышали шагов Влайко. Он остановился. Тяжелый запах йодоформа наполнял веранду. Влайко тотчас увидел, что левая нога малыша припухла и перевязана; левая рука, тоже перевязанная, висела, словно чужая.
– Вот!.. Вот он! – взвизгнул малыш, ткнув пальчиком в одну точку. – Разве я не сказал, что найду? – спросил он с важностью.
– Ты все знаешь, милый мой Эмил! Ты моя гордость! Ах, как я тебя люблю! Поцелуй меня!
– Не хочу!
– Ну поцелуй!
– Не хочу, – повторил мальчик, однако нагнулся, и они поцеловались.
Влайко шагнул ближе и спросил:
– Что вы тут делаете?
Никодий загородил ребенка и смутился так, будто его уличили в каком-то проступке.
– Играете? – мягко спросил Влайко.
– Играю с Эмилом! – смиренно ответил Никодий.
– А, это Эмил! Сколько ему лет?
– Шесть!
– Не может быть!
– Седьмой уже пошел!
Влайко, глядя с удивлением на ребенка, спросил Никодия:
– Тебе, кажется, неприятно, что я расспрашиваю о нем?
– Да нет, но, знаете… Эмил болен, пуглив, вечно дергается! Вчера всю ночь трясся из-за того, что вы хлопали дверьми и кричали.
– Очень жаль, – сказал Влайко. – Я не знал, что он был в доме один; вообще не знал о нем! Я никогда не пугаю детей. Я люблю хороших детей! Дайте-ка погляжу, что это у вас?
Это была карта Европы, вся измаранная карандашом и чернилами. Моря были забиты фантастическими галерами, нарисованными детской рукой. Влайко улыбнулся, увидев тут же целую армию купающихся ребят.
Кладя карту на стол, он разглядел лицо Эмила. Щеки, рот и нос были правильные, но резко отличались от верхней части лица, высокого лба и больших голубых глаз. Если прикрыть верхнюю половину лица, ребенку можно было дать года три, а лоб и глаза, казалось, принадлежали почти зрелому юноше. Правда, и на них лежала печать обостренной болезнью детской робости. Кожа на лице была по-детски чистая, только сбоку, на шее, зияли отвратительные язвы.
– Ну, раз ты так любишь путешествовать по морям, я принесу тебе большую карту – весь мир принесу! – сказал Влайко.
– Слыхал, Эмил! – воскликнул Никодий. – Видишь, господин любит тебя!
Ребенок опустил голову.
– А знаете что, сударь? – продолжал юноша. – У Эмила много всяких карт, есть и Азия и Америка, купите ему лучше «Зоологию»! Он давно о ней мечтает!
– Хорошо, куплю! А он умеет читать?
– Еще как! – воскликнул Никодий, – В прошлом году, когда я к ним нанялся, он знал только буквы, а теперь читает как взрослый! И уйму стихов знает наизусть… Прочти-ка, Эмил, что-нибудь!
– Не надо сейчас! – задумчиво промолвил Влайко. – Скажи лучше: неужели мальчик никуда не выходит?
Никодий, грустно улыбнувшись, произнес:
– Он шага ступить не может! Эмил никогда не стоял на ногах, он не понимает даже, как это люди ходят!
– А лечат его?
– Приходил врач. Да что толку? Прописал какую-то мазь и водичку, чтобы пил.
Спускаясь по лестнице, Влайко размышлял о своих новых знакомых. Как могут мать и бабка оставлять взаперти в темной комнате маленького калеку? Положим, подобное бездушие не редкость, но что настоящая редкость, просто чудо, так это придурковатый Никодий. Откуда в нем столько нежности, столько любви к чужому, больному, несчастному ребенку?
О бабке и матери Эмила Влайко узнал следующее. Старуха происходит из хорошей семьи, родилась она в некоем банатском городе. Вышла замуж за чиновника, а спустя четыре года, оставив троих детей мужу, сбежала с каким-то поляком-инженером и поселилась в Сербии. Родила поляку Евфимию, однако он бросил ее, когда девочке было пять лет, Евфимия вышла замуж за чеха Расквасила, музыканта, пьяницу, который скоропостижно скончался, оставив жене в наследство лишь больного ребенка.
Однажды утром Влайко принес Эмилу «Зоологию».
Прошло несколько ненастных дней; за это время Эмила он не видел ни разу, а Никодия редко. Влайко снова учинил «великое бдение». Попивая кофе, принесенный Никодием, он спросил:
– Ты, собственно, где учишься?
– В светосавской школе. Уже второй год. Еще год, если бог даст!
– И тогда?
– Выдержу экзамен – могу поехать учителем к себе, в Старую Сербию. Говорят, что нас последних пошлют, а потом уж станут посылать учителями только тех, кто кончит нормальную школу.
– А тебе хочется на родину?
– Еще бы! У меня там отец, мать, а был и брат, ровесник Эмила и такой же умница, да помер! Написали мне…
– И ты любишь Эмила, потому что он напоминает брата?
– И поэтому, и потому еще, что он хороший, и потому, что мученик!
– А любишь… Никодий, будь искренним, скажи правду, а мать Эмила ты любишь?
– Видит бог, не очень! Она так равнодушна к ребенку, что я не могу хорошо о ней думать!
– Но, друг, я тебя спрашиваю, любишь ли ты ее, как мужчина женщину?
Никодий удивился и, отвернувшись, буркнул:
– Обидно мне, что вы такое говорите!
– Значит, ты любишь Эмила просто так?
– Да, и еще потому, что он напоминает мне покойного брата, и грех, что его никто не любит! Ребенок не может жить без любви! Бог не велит!
– Значит, ни бабка, ни мать его не любят?
– Этого я не говорю, – поправился Никодий, хотя на лице его можно было прочитать: «Грех сказать, но это правда!» И добавил: – Слышать не могу, когда они его клянут! Да как! Старуха то и дело твердит: «Дай бог тебе того, чего желает бабка!» Стоит Эмилу заплакать, непременно скажет… оно, конечно, лучше бы ему и в самом деле помереть, но, мне кажется, желать такое ни в чем не повинному ребенку грех! Да сами видите, люди здесь бога не боятся! Я от многих слышал, что бога и вовсе нет! И старая госпожа однажды сказала: написано, дескать, в некоторых книгах, будто бога нет и что кругом одна природа! А мы все просто животные! Но, говорят, понять эти книги может только тот, кто окончил гимназию и университет! Сделайте милость, сударь, скажите, это правда?
– Нет, неправда!.. А где сейчас Эмил?
– Вон там, на веранде! На солнышке сидит.








