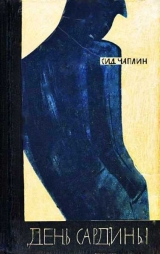
Текст книги "День сардины"
Автор книги: Сид Чаплин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)
2
Ладно, вообще-то я не против кошек. Мне даже нравятся такие дымчатые, с большими глазами, и еще другие, с обезьяньими мордами, какие гуляют в палисадниках около богатых домов. Протянешь руку, чтоб такую погладить, а она прыг в сторону и умчится, как клубок дыма. Но этот котенок был больной, тощий, кожа да кости, и глаза гнойные, слезящиеся – одним словом, шелудивый.
– Сейчас же вышвырни вон эту дрянь, – сказала моя старуха.
– Но ведь он больной, его лечить надо, – сказал Жилец.
– Тогда отнеси его к ветеринару.
– Пускай живет в моей комнате. Он тебе и на глаза не покажется. Ты его и не увидишь.
– А подтирать за ним кто будет?
– Я, конечно. Сама знаешь, я был на флоте санитаром.
– Нечего лечить его в моем доме!
– Брось, будь человеком, живи и давай жить другим. У тебя самой сердце порадуется, когда котенок станет гладкий и замурлыкает на весь дом.
– Больше будет гадить, чем мурлыкать, и не успеешь оглянуться, котят принесет. Не потерплю, и конец.
– Но ведь это кот, так что никаких осложнений не предвидится, – сказал Жилец.
– Это ты нарочно, чтоб соседей злить.
– Ладно, – сказал Жилец. – Я буду покупать ему молоко на свои деньги.
– Не смеши меня. Ты и так уже третью неделю за квартиру не платишь.
– Но за мной еще ни разу не пропадало, правда? Я буду платить за кота и за молоко.
– Ну ладно уж… только не смей приносить для него в дом всякую тухлятину, и в первый же раз, как он нагадит, – вон!
Жилец купил на толкучке у пристани старую бельевую корзину и половичок. За девять пенсов выторговал. Но вот была задача – чем кормить котенка. Просидев несколько дней на одном молоке, он задумал проломить дверь в кладовке, но только расшиб себе башку; тогда он махнул на задний двор, взобрался на крышу, а оттуда через окно пролез в кладовку, сожрал полбанки варенья и четверть большого пирога со свининой, оставленные Жильцу к чаю. Потом его стошнило, и он запакостил в кладовке весь пол. Жилец подтер за ним, сходил за новой банкой варенья и купил у живодера Доннели конины.
Этот кот был совсем как человек. Уставится на кастрюлю, в которой Жилец варит конину, и время от времени затягивает серенаду то ли Жильцу, то ли кастрюле, то ли им обоим.
Правда, он был совсем как человек. Знал, что Жилец его любит, и уважал его комнату. Зато гадил во всех остальных. Жилец не зевал, подтирал всюду. А только поспеть за котенком нипочем не мог.
В конце концов моя старуха заявила, что хватит ей быть бесплатной уборщицей, и Жилец унес котенка, захватив мешок и старый ржавый утюг.
– Что ты с ним сделал? – спросила она, когда Жилец вернулся часа через два. Он был сильно под мухой.
– А тебе-то что?
– Ты отдал его кому-нибудь?
– Швырнул с моста в реку.
– Врешь, бесстыжие твои глаза!
– Никогда не видел столько пузырей…
– Бросил его в эту лужу?.. Да кому ты голову морочишь?
– Слышно было, как он булькал… Здоровенные пузыри пошли. Я чуть не заплакал.
– Не знаю, где у тебя совесть – выкормил бедняжку, а потом швырнул в реку. Сердца у тебя нет, вот и все.
– Я был вынужден.
– Никакой нужды не было, добрые люди охотно взяли бы его.
– Ну да, вот ты, скажем, уж такой была доброй – дальше некуда.
– Зато ты больно жалостливый.
– Он был здесь лишний. А смерть легкая, он ничего и не почувствовал.
– Ну, могу только пожелать, чтоб тебя самого не швырнули в реку! – крикнула она и стала надевать пальто.
– Куда это ты?
– Пойду пройдусь, успокоюсь.
– Тогда купи рыбы с жареной картошкой, я проголодался.
– Ни за что, хоть сдохни! – огрызнулась она и хлопнула дверью.
Как только она вышла за дверь, я насел на Жильца.
– Успокойся, – сказал он. – Я отдал его сторожу у нас на фабрике и даже деньги получил. Ихнюю кошку задавил грузовик с пивоваренного завода. Так что, – продолжал он, разуваясь, – пивовары, можно сказать, вдвойне выгадали, задавив ту кошку. – Он подумал немного. – Вот умора, если она была матерью нашему котенку.
– Сколько ж вам дали?
– Десять шиллингов. Но учти, я буду скучать по ней.
– Помнится, моей матери вы сказали, что это кот.
Он подмигнул.
– Я хотел, чтоб, когда она окотится, это был сюрприз!
Моя старуха не разговаривала с Жильцом несколько дней, и, только когда я рассказал ей, что он продал котенка, она возобновила с ним прежние отношения, всыпав ему по первое число.
– Одно утешение – я все-таки не купила тебе рыбы с картошкой, – сказала она под конец.
– А у меня тоже есть утешение, – сказал он. – Вспоминать, как тебя за живое задело, когда я сказал про пузыри.
Но он и в самом деле скучал по котенку.
Как-то утром моя старуха застилала постель Жильца, а я завтракал. Она вышла, налила себе чаю, выключила радио и говорит:
– У нас мокрицы завелись.
– Мокрицы? – удивился я.
– Вот погляди сам. В комнате у Жильца.
Я поглядел. По всему ковру какие-то серебристые следы, но мокриц не видать.
– Наверно, разошлись по домам, – сказал я и снова включил радио.
– Я три месяца провозилась, чтоб от блох избавиться, – сказала она. – А теперь мокрицы… Да выключи ты приемник: тебе в школу пора.
– А тебе чем он мешает? – сказал я. – Мокриц не слышно?
Это продолжалось дня три – каждое утро оставались следы; моя старуха вытаскивала из комнаты кровать, закатывала ковер, выстукивала стены и тыкала шпилькой во все дырки. Но в один прекрасный день Гарри забыл запереть нижний ящик стола, и она нашла там картонную коробку со стружками, в которой дрыхли две здоровенные грязные улитки с красными полосами на раковинах.
– Вот чума! – крикнула она. – Артур, пойди сюда, полюбуйся!
Я пошел и полюбовался. Она хотела с ходу отправить улиток в плиту, но я уговорил ее сохранить их как вещественное доказательство – это был единственный способ их спасти.
Гарри и бровью не повел, когда я его предупредил. Он только хмыкнул и сказал:
– Ей же хуже, теперь стану самокрутки курить.
Я вылупил на него глаза.
– Сейчас я почти не курю, но ведь меня тут со свету сживают, да еще не кормят, этого никакие нервы не выдержат, – объяснил он.
Прибежала моя старуха и затопала ногами.
– Не потерплю, чтоб они мой лучший ковер пакостили! – крикнула она.
– Это мы уладим со временем, – сказал он решительно.
– Не со временем, а сию же минуту!
– Опять с моста в реку?
– С моста или откуда хочешь, но чтоб их духу здесь не было!
– Послушайте, мадам, – сказал Жилец. – Все несчастье в том, что вы никогда не дослушаете до конца. Я же сказал, что мы это уладим со временем.
– Каким это образом?
– Я приучаю их ползать гуськом.
– Господи, а я-то, идиотка, уши развесила! – крикнула она. – Ну, чего ты там еще ищешь?
– Мешок, – ответил он.
– Не валяй дурака. Можешь взять вот эту роскошную коробку из-под табака.
– Послушай, Пег, – сказал он. – Я привязался к этим двум улиткам. Позволь мне держать их на дворе. – Видя, что она только головой качает, он продолжал: – Я так одинок. За три фунта в неделю меня здесь кормят до отвала два раза в день и дают чистую постель. Но у меня нет друга. А эти улитки – мои друзья. Я думаю о них весь долгий рабочий день. Так приятно выпускать их каждое утро из коробки, кормить салатом, смотреть, как они ползут завтракать или просто гуляют – они ведь такие любознательные. Открывать коробку по вечерам, видеть, как их маленькие рожки высовываются и снова прячутся, будто крошечные перископы. Рожки они высовывают, когда узнают друга. Да, друга. Мы с ними подружились. Что тут плохого?
– Господи, почему потолок не обвалился мне на голову в тот день, когда я пустила тебя в дом! – сказала моя мать. – Сперва шелудивый котенок, теперь эти улитки… А в следующий раз ты, наверно, змей заведешь.
– Позволь мне оставить улиток, и я не заведу змей. Клянусь богом, провалиться мне на этом месте! Только не отнимай у меня друзей.
– Немедленно вышвырни этих друзей ко всем чертям! – сказала моя старуха. Губы у нее побелели, как молоко.
– Ладно, – сказал он. – Ты не женщина, Пег. И даже вполовину не женщина. У тебя каменное сердце.
Он ушел в свою комнату, которая, к слову сказать, когда-то была у нас гостиной, и вернулся с коробкой в руках.
– Что ты еще задумал?
– Не твое дело.
– Хозяином хочешь быть, – сказала она. – Над всем домом хозяином. И надо мной тоже.
– Замолчи, здесь мальчик.
– Сам замолчи! Ты меня совсем замучил своими глупостями и болтовней. А стоит мне уступить, и ты возьмешь свое. Вот тебе чего нужно.
– Разве я хоть раз оплошал? – спросил он. – Ну скажи сама.
– Это меня и беспокоит.
– Видела ли ты, чтоб я полез куда не надо или руки распускал?
– О нет. Никуда ты не входил и рукой не лез, да только вот эти глаза твои невинные…
– С ними сам черт не совпадает, – сказал Жилец и пошел к черному ходу. – С остальным я кое-как справляюсь. А уж на глаза, видно, шоры придется надеть, и тогда я со временем вовсе ослепну; это уж как пить дать. Язык мужчины еще может лгать, но глаза – никогда.
– Уйди ты от греха!
Она покраснела.
– Можно мне оставить улиток?
– Сказано тебе – вышвырни их вон. – И она снова сжала губы.
Тогда он уложил свой морской сундучок. Уходя, он пошатывался. Сундучок он нес на плече, а коробку с улитками подцепил за веревочку мизинцем. Я хотел ему помочь, но он не позволил.
– Это касается только меня и твоей матери, – объяснил он.
– Пускай уходит, – сказала моя старуха. – Не видишь разве, он просто играет на наших чувствах. Живо вернется, как только ему перестанут давать пиво в долг.
Но он не вернулся. Ни в тот день, ни на другой.
– И чего он добивается? – все бормотала она про себя. Я видел, что она расстроена. Но в то время мы шарили по чужим автомобилям, и домой я приходил поздно. Она меня поедом ела; знай она правду, мне бы совсем худо было. И без того она твердила все время:
– Дома ты только ночуешь, больше тебе ничего не нужно, а я для тебя просто прислуга.
Я сдерживался.
– Хочешь заставить меня сиднем здесь сидеть каждый вечер? – сказал я однажды. – Через несколько лет меня в армию заберут, может, придется драться с китайцами или с русскими, а может, я женюсь. Молодым только раз бываешь.
– Чего ж тебе надо, скажи на милость? – взвилась она. – Тебе охота шляться по ночам, а я сиди тут одна!
– Не надо было котенка выбрасывать, – сказал я.
– Молчал бы лучше!
– Я верно говорю. Оставила бы котенка, и дружок твой был бы при тебе.
Тут-то она и запустила в меня чайником. Пришлось ехать в поликлинику, и там мне наложили на щеку шесть скобок. Остался шрам. Оттого ребята в Старом городе и стали потом звать меня за глаза Красавчиком. Ну, она, конечно, плакала, раскаивалась. Упросила папашу Мышонка Хоула свезти меня в поликлинику на его старом таксомоторе и у двери дожидалась. И на ужин приготовила рубец. Она не переваривает рубец, запеченный в тесте, но на этот раз пришлось ей улыбаться и терпеть. А перед тем как ложиться спать, она сказала:
– Сходил бы ты завтра вечером к фабричным воротам. Только боже сохрани, чтоб он тебя увидел! Разузнай, где он теперь живет. Мне, конечно, наплевать, но не хотелось бы, чтоб он попал в лапы к этим тварям с Шэлли-стрит.
Шэлли-стрит – это улица дешевых меблирашек. Там в самых приличных домах квартирантам по утрам прислуживает мужчина; а где поплоше, и девчонки есть, по совместительству. Мою старуху смущало не грязное белье и всякая там шантрапа, а шлюхи. Я это сразу понял, когда она попросила меня выследить его. Она к нему всегда слабость питала. А тут дело пошло всерьез, и если раньше я, бывало, над этим посмеивался, то теперь мне было не до смеху. Я поглядел на нее. Она покраснела и говорит:
– Смотри же не забудь. Лучше всего пойди сразу после школы. Я дам тебе шесть пенсов на шоколадку.
На другое утро ей не пришлось напоминать про шесть пенсов. Она выдала их без звука, и я окончательно убедился, что она к нему привязана. Мне хотелось ее ударить. И чего я ревновал? Она уже давным-давно даже не целовала меня. И не в том дело, что я расчувствовался. У меня действительно, кроме нее, никого на свете не было, а если у нее что и бывало в прошлом, она никогда про это не говорила. У нее тоже, кроме меня, никого не было. Я так думаю, отсюда и ревность. Двое против всего мира – это в самый раз, а трое – как-то смешно или вовсе ни в дугу. Правда, иногда это выходит само собой, и в этом мне потом пришлось убедиться.
– Чего ты на меня так смотришь? – спросила она.
– Я смотрю?
– Таким взглядом убить можно… Ну, да ты знаешь, о чем я.
– Просто житья нет, – сказал я. – Вечно ты на меня шипишь. Вечно допытываешься, о чем я думаю, заставляешь делать вместо себя всякие гадости…
– Что значит гадости?
– Ах, мама, ты сама знаешь, – сказал я. – Брось девочкой прикидываться. Выгнала бедолагу Жильца из дому, а теперь хочешь его вернуть… Влипла ты в него, вот что.
Я думал, сейчас в меня опять чайник полетит. Она схватилась за него обеими руками, и ваш покорный слуга готов был уже отскочить. Но потом я увидел, что она просто придержала чайник, чтоб он не упал.
– А хоть бы и так? – сказала она. – Ведь он и тебе нравится, правда? Вас с ним водой не разольешь. Он скромный, хоть и болтает столько, что с ума можно сойти.
– Ну да, нравится, – сказал я.
– Вот видишь, – сказала она. – Ты сам это признаешь. При всех своих недостатках он смирный и безобидный.
– Уж куда смирней!
– Чего ж ты тогда споришь?
– Это ты споришь. А я сказал только, что ты в него влипла, это факт.
– А тебе не все ли равно?
– Я в чужие дела не лезу.
– Успокойся. Знаем, что не лезешь. Я просто хотела выяснить, что ты думаешь.
– Пора бы тебе, наконец, чему-нибудь научиться, – сказал я и снова приготовился отскочить. Но она не двигалась, и я успокоился. А она уронила голову прямо на чайник. Я видел, что она плачет. Знал, что ей тяжело, но и мне было не легче. Господи, как было погано.
Я, конечно, и не подумал бы следить за Жильцом, потому что после школы в животе у меня громко урчало, а шесть пенсов я поставил из ста против семи на одну лошадку, которая в это время и не думала скакать, а мирно дрыхла в своем стойле. Буллок, наш школьный букмекер, никогда столько не наживал, как в то утро, но радовался он недолго. Через несколько дней мальчик, который работал на Буллока, разругался с ним и все выболтал; мы поймали Буллока в уборной, накостыляли ему шею и отобрали все ставки за тот день – десять шиллингов серебром и медью, завернутые в носовой платок. Ну да ладно, не о том речь. Я хочу сказать, что, несмотря на голод, помнил про ее слезы и отправился исполнять поручение.
От школы к порту, где работал Жилец, трамвай не ходил, и на автобусе туда надо было ехать с пересадкой, так что, хотя это у черта на рогах, я решил гопать пешком. На мое счастье, какая-то божья старушка разложила на подоконнике студить горячие булочки; я по-быстрому умял одну, и мне полегчало; кроме шуток, я даже хотел вернуться поблагодарить ее. Хорошую стряпню нельзя оценить, пока не поживешь без горячего, как жили мы, когда у нас электрическая печь перегорела. А у той старухи, честное слово, золотые руки. Ее булочки можно есть даже без масла, а если их еще маслом намазать, сам шеф-повар зарыдает.
В общем в животе у меня поутихло, и я топал бодро. От школы до фабрики около мили, и можете спросить у кого хотите, вам всякий, если только он не слепой, скажет, что для прогулок там место мало подходящее. Наш директор Трёп говорил, что это остатки какого-то древнего поселения. Не знаю уж какого. Таких кварталов я нигде больше не видал – сплошь квадраты или треугольники, иногда будто в землю вросшие, а посередке старая арена. Время от времени сюда приходят какие-то полудохлые работяги, сорвут крышу с одного дома, с другого, и шабаш – покуривают или чаи гоняют, а бульдозер стоит себе отдыхает. Поэтому там всюду пустыри, некоторые величиной с футбольное поле, как нарочно приспособленные, чтоб сваливать старые кровати, продранные диваны, поломанные коляски, тазы, жестянки, мусорные ведра, а иногда и трупы. Факт – и трупы тоже. Некоторые из этих пустырей можно пройти сплошь по мусору, вовсе земли не касаясь.
Но мне это нравится: без мусора и развалин здесь было бы неуютно. А дальше – снова пустые дома и зубцами торчат недоломанные стены. Как только выедет из дома последний жилец, начинается потеха. С вечера набегают людишки и волокут отсюда застекленные двери или десяток-другой оконных стекол – лучшего материала для теплиц нет. Ох, и жуть: звенят пилы, стучат молотки и топоры, горят факелы, люди тащат на себе всякую всячину, иногда может почудиться, будто гроб несут, и, как похитители трупов, прячутся в темноте. Вот какой у нас район. А дальше – парк: грязный пустырь, весь замусоренный и голый, только качели торчат кое-где. Пройдешь через него к югу, нырнешь под виадук, потом под мост, и тут река опять появляется на свет божий из-под шестнадцати миллионов тонн грязи. Это «ничья земля». Здесь есть несколько домов, где живут лудильщики, уличные торговцы, старьевщики и всякая шушера и стоят два газовых фонаря. А что происходит по ночам на склонах холмов, сплошь изрытых ямами, где в те времена копали глину для фабрики, это тайна, покрытая мраком.
Еще шагов пятьсот по берегу, и вот уже устье реки, сюда прилив доходит. Раньше по реке корабли поднимались, и тут сохранились остатки причалов. В амбарах, где ссыпали зерно, теперь товарные склады, а в прибрежных домах – конторы и мелкие фабрички. Это место почему-то называется Венецианская лестница.
Ох, до чего ж тут интересно. После шести вечера вокруг ни души, можно свободно залезть в любой склад, только оттуда мало что уволокешь. Зато нет лучше места для драк или «молитвенных собраний» – это мы так говорим, когда собираемся с ребятами. Но до пристани я еще не дошел, так что не беспокойтесь. Прохожу мимо спортивного клуба, где стоят моторки, пересекаю главное береговое шоссе, потом спускаюсь к пристани, и тут снова развалины. А дальше кое-где видны большие, на совесть построенные здания; кое-где склады из рифленого железа; кое-где жилые дома, но жильцов что-то не видно; здесь же вонючие, но всегда битком набитые кабаки, да еще громады из стекла и бетона, с трубами, которые дымят вовсю или угрюмо торчат в небо. По воскресеньям.
Фабрика, где работал Гарри, стоит у самой пристани, и я еле добрался до причалов, увертываясь от маневровых паровозов и передвижных кранов, а там отвел уж душу – плюнул в реку. И плюнул ловко – тут весь фокус в том, чтобы на чистую воду попасть.
Через десять минут завыли гудки, и я по пристани напрямик двинул к воротам, откуда стал глядеть, как выходят рабочие. Все они шли быстро, даже старики, но, как ни спешили, в нос все равно ударял дивный запах сардин и салаки в томате. Каждый из них принял это крещение; но мне тогда и не снилось, что я сам когда-нибудь приму его и от меня тоже будет разить за целую милю. Гарри по обыкновению вышел последним – этот старый тихоход вечно плетется в хвосте, хоть до работы, хоть после. Ей же богу, кто увидит, как Гарри бежит со всех ног, может считать, что видел чудо. А человека, который плетется медленно, не спеша, выслеживать трудно. Разве угадаешь, когда ему взбредет в голову обернуться, чтобы погладить собаку или сбить головку с одуванчика, а ведь он это делал чуть ли не на каждом шагу. В общем то расстояние, что я один прошел за десять минут, мы тащились минут двадцать, да еще пять он покупал газету, банку консервов и пучок салата.
Наконец мы вышли к шоссе. Он перешел на другую сторону и зашагал по дорожке к спортклубу; я обождал немного, дал ему отойти подальше, а потом двинул следом. Но он уже исчез. Я туда, сюда – его и след простыл. Тут меня холодный пот прошиб. Я побежал прямо по дорожке, хоть и знал, что это зря: так далеко он уйти не мог.
А потом я вспомнил про спортклуб у Венецианской лестницы.
В клубе его не было. Не было и за кучей досок и на пустыре, где росли одуванчики и кипрей, и в реке он купаться не мог, потому что стоял отлив и там было воробью по колено. Старые лодчонки весело сновали по великолепной темно-вишневой грязи, накренясь, вихляя и подпрыгивая. Вот бы мне заиметь когда-нибудь собственную яхту. Стоял бы я у руля, небрежно заломив фуражку, в свитере, шелковом шарфе и безукоризненно отглаженных брюках, во рту – длиннющая трубка. Да еще, пожалуй, бороду отрастил бы. А пока что я шел по пристани и придумывал, что бы такое соврать моей старухе, потому что, если сказать ей правду, она умрет, а не поверит.
Слыхали вы когда-нибудь, чтобы грязный берег реки вдруг заговорил?
– Эй, кореш, местечка ищешь?
Я подскочил как ужаленный. Потом стал и стою как дурак.
Попался! Попался с поличным! Этот сучий дрессировщик улиток еще у фабрики меня заметил. А потом он чуть со смеху не лопнул, глядя, как я бегаю по камням взад-вперед, высекая искры, вроде новичка-почтальона, который не знает ни одной улицы, а из вывесок может прочесть только «Мужской туалет» да еще, пожалуй, «Бар». Мне хотелось провалиться сквозь землю. Но я с независимым видом спустился по лесенке к реке.
Будьте спокойны, старик Гарри умеет устраиваться. Катерок был довольно большой, и каюта, если сесть на пол, могла показаться даже просторной. В печке весело трещали дрова, на сковородке шипели мясные консервы, а чай был крепкий и черный-черный, так и хотелось долить туда молока. Сгущенного, понятное дело. У меня слюнки потекли. Гарри предложил мне закусить и сам уминал за обе щеки – набитый рот никогда не мешал ему разговаривать.
– Как дела?
– Хорошо.
– А как Пег?
– Тоже хорошо.
Потом наступила моя очередь спрашивать.
– Ну, а улитки как?
– Не могли привыкнуть к жизни на океанских волнах. Перестали есть салат, стали неразговорчивые, не выходили из своих раковин. Так что вчера вечером я их отпустил на волю.
– Для чего ж тогда салат?
– Я подумал: как знать, вдруг они заглянут меня навестить?
– А катерок у вас классный.
– Лучший в клубе. У них тут несколько штук увели. Угнали в другую гавань, перекрасили, сменили моторы и продали каким-то простакам. Вот мне и предложили место: десять шиллингов в неделю и харчи бесплатно.
– Но ведь одному здесь тоска смертная.
– Не так уж это страшно. Сюда приходят влюбленные. Иногда чайки прилетают за хлебными крошками – есть тут одноглазая птичка, очень способная. А еще я мышь приручил.
Он откинулся к стенке и дернул за веревочку. Вверху на полке с коробки соскочила крышка. Бурая мышь высунула оттуда мордочку, пошевелила усами, скользнула вниз, быстро, как молния, пробежала по голове Гарри; потом замерла у него на плече и, стоя на задних лапках, сожрала из его рук добрых четверть фунта сыра.
– Ну скажи, разве она не прелесть?
– Вы уверены, что это она, а не он?
– Кому ты это говоришь – мой старик по китайскому способу безошибочно отбирал цыплят – какие петушки, а какие курочки.
– Ошиблись же вы насчет котенка.
– Это была дипломатическая хитрость.
– Она не позволит вам держать мышь в доме.
– Артур, мой мальчик, у нас уже есть крыша над головой.
– Она хочет, чтоб вы вернулись.
– Вот как, теперь она этого хочет! А ты что скажешь?
– Дело тухлое, – честно признался я. – Главное, она все мечется, как кошка на горячей плите.
– Это она тебя послала?
Смешно, конечно, но меня взяла досада. Мы с моей старухой ладим – лучше не надо, но я люблю ее и Жильца порознь; а всего больше люблю, когда они в ссоре. И не терплю, когда кто-нибудь из них с ума сходит из-за другого. Не люблю быть на вторых ролях, сами увидите.
Так что я ему ничего не ответил. Уставился себе под ноги, потом завязал шнурок на ботинке, сделал дыхательное упражнение по системе йогов. Но все равно я даже вспотел и не мог взглянуть ему в глаза.
– Ну ладно, – сказал он. – Передай ей привет. Скажи, что я отлично устроился. Скажи, свобода – великолепная штука.
– Сами скажите. Ведь она с меня шкуру спустит, если узнает, что вы меня видели. Я скажу только, что вы здесь, и уж будьте другом, не говорите ей, как вы меня за нос провели.
– Идет, – сказал он. – Она небось сегодня же прибежит.
– С нее станется, – сказал я.
– Когда-то я работал помощником укротителя, – сказал он. – Входил в клетку к тигру. В одной руке револьвер, в другой хлыст. Тигры и тигрицы, все подряд, прыгали через обруч.
Он, конечно, шутил. Но я был тогда еще маленький.
– А револьвер был заряженный? – спросил я.
– Избави бог! Только эти бессловесные твари не понимали разницы.
Я подумал немного.
– Мою старуху вам не заставить прыгать через обруч.
– Если ты про золотой обруч, может, и так, – сказал Гарри. Он растянулся на койке. – Не разберешь эту женщину. Ей стоило только пальцем пошевелить, – так нет же. Это не для нее. Упряма, ох, до чего ж упряма! Хочет одна тянуть лямку, и чтоб только ты был рядом.
– Моя старуха хорошая, – сказал я.
– Она и впрямь будет старухой, когда ты удерешь от нее, – сказал он. – Она это знает и ни о чем другом думать не хочет.
– Кто это удерет? – Вместо ответа он только взглянул на меня. – Не будет этого.
– Ты уйдешь в море, – сказал он. – Когда я говорю – море, то имею в виду настоящую стихию, потому что не такой ты парень, чтоб плавать в какой-нибудь луже. Ей-богу, – добавил он, – если разобраться, ты очень похож на меня. Будешь долго бродить по свету, покуда осядешь где-нибудь. Увидишь много диковин, разные порты, людей. Может, даже полетишь в конце концов на Луну… Ты ведь не сардина.
Я не понял.
– Сардина?
– В Норвегии сардины миллионами приплывают из океана, – сказал он. – Валом валят в фиорды. Даже цвет воды меняется. Сперва она зеленая, как старая медь, потом становится светлой, будто литое серебро, и хоть криком кричи – ни слова не слышно, потому что остервенелые чайки накидываются на жратву. А сардины все плывут. Не знают зачем и знать не хотят. Может, им там надо икру метать. Они бьются в сетях, прут, как сотня локомотивов, – старые снасти так и гудят, судно кренится.
– Вы ловили сардин?
– Ловил! Это не ловля, а избиение; платят сдельно, так что их вылавливают грудами, они лавиной текут в трюм, трепыхаются и прыгают, покуда люк не задраят. А потом их набивают в бочки, везут сюда и здесь укладывают в жестяные гробики голова к хвосту и хвост к голове… Они знают одно – свою отмель. Их интересует только вовремя пожрать и вовремя выметать, икру. Вот они и попадают в сети, а потом в жестянки. Тут им и крышка.
– Вы маху дали, – сказал я. – По мне, лучше ловить сардин, чем работать на консервной фабрике.
– Ты, я вижу, не понял главного.
– Чего это?
– Не будь сардиной. Плавай сам по себе.
– Я хочу в люди выбиться.
– А именно?
– Разбогатеть, знаться с важными боссами, ездить в «ягуаре», иметь собственный бассейн для плавания.
– Это тоже разновидность сардины – только в жестянке с плюшевой подкладкой.
– Как-никак лучше быть первым среди сардин, чем последним.
– Так и знал, что ты это скажешь. Но ты не прав. Мне сардинная фабрика нужна для того же, для чего и траулер: человек должен есть, чтобы жить, но не жить, чтобы есть. Думаешь, я рвусь на отмель? Ошибаешься. Я плаваю сам по себе.
– Ну и шутник же вы!
– В таком случае я тебе преподнес величайшую шутку в мире, – сказал он.
– Как это?
– Объяснить – значит испортить шутку.
И больше я из него ни слова не вытянул.
С этого все и началось. Мне тогда шел четырнадцатый год, и я ничего не понял. Я мечтал только о новых костюмах да еще о «ягуаре». Девчонками я не увлекался, они для меня были чем-то вроде ходячей мебели. Раза два я лазил с ними в карьер, где добывали глину, или в какой-нибудь пустой дом, но они мало что смыслили в этих самых делах, а я – еще меньше, так что я махнул рукой. Так вот, говорю вам, я ничего не понял. Но если рассказываю я плохо, то память у меня хорошая и все входы-выходы в порядке. Что войдет в голову, рано или поздно вылазит наружу. Потеха! Я взбежал вверх по лесенке – она теперь стала короче, потому что начался прилив, – и оглянулся.
– Ты ей скажи, что я здесь, – напутствовал он меня. – А уж я тебя не выдам.
– Ладно, – сказал я. – Вы на мертвом якоре, и точка.
– Правильно, – сказал он.
Я воображал себя траулером, вышедшим на лов во фиорд; сардиной, которая плавает сама по себе; красивым мужчиной за рулем «ягуара». Я не знал, что еще придумать, но совсем ошалел, и мне стало весело. Я включил приемник на всю катушку, так что стены задрожали. Все равно я буду важной шишкой! Я поймал передачу для американских вооруженных сил и стал слушать Пи Уи Ханта. Он так лихо наяривал, что я даже стены оглядел, нет ли трещин. Под звуки «Когда святые маршируют» я накрыл на стол и поджарил селедку. Я уже умял свою долю с десятью ломтями хлеба, когда пришла моя старуха и сходу на меня напустилась, потому что ее селедка была пережарена и чай перестоялся – стал черным, как смола. Но она скоро утихла.
После ужина она вымыла посуду, а потом вымылась сама. То и другое – над раковиной, потому что ванной комнаты у нас не было, а ванну, похожую на цинковый гроб, только без крышки, весом в добрых полтонны, мы держали на дворе.
Снимая рабочую блузу и юбку, она напевала любимую свою песенку; слова там такие:
Все кругом счастливые,
Влюбленные, красивые,
А я, с разбитым сердцем,
Живу в тоске…
Напевая, она горой взбивала пену, а я с восхищением смотрел на ее красивые, с голубыми прожилками локти и белые плечи и думал, как жаль, что руки у нее совсем загрубели. От дешевого мыла и мытья полов они стали красные и морщинистые, как у новорожденного младенца.
– Уходишь? – спросил я.
– Не твое дело, – сказала она.
– Знаю, тебе не терпится этого полоумного Жильца увидеть.
– Да, пожалуй, прогуляюсь туда.
– Скоро темнеть начнет, – сказал я. – А там всякие бродяги так и шныряют; они могут обидеть девушку в два счета, ахнуть не успеешь.
– Я не девушка и ахать не собираюсь, – сказала она со смехом.
И надела платье с яркими цветами.
– Ты бы лучше, как балерина, одевалась, чтоб коленки было видно, – сказал я.
– Ты это о чем?
– Ни о чем, просто так, – сказал я. – Только смотри, будь осторожна на Венецианской лестнице.
Она взяла сумочку.
– Сегодня самый длинный день в году, так или нет? Чуть не до полуночи светло будет… И, кроме того, я на работе стала во какая сильная, могу и сдачи дать.
– Но эти бродяги такие силачи… Тебе с ними не справиться.
– Слишком много ты знаешь, Артур, – сказала она. – И откуда только набрался?
– Да про это каждый день в газетах пишут.
– Нельзя быть таким ревнивым. Вымойся и ложись спать вовремя. Да не сори в квартире.
– Дай мне шестипенсовик, я выпью с ребятами кофе у Марино.
– Нет, ты никуда не пойдешь; уже слишком поздно для мальчика в твоем возрасте.
– Но ты вот уходишь!
– Бога ради, довольно, – сказала она. – Ты готов меня в цепи заковать. Хуже ревнивого мужа.
– Я пойду с тобой.
– Нет, ты останешься дома, и кончено!








