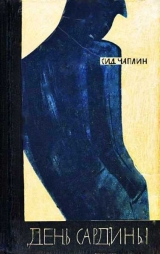
Текст книги "День сардины"
Автор книги: Сид Чаплин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
IX
1
Моя старуха была на высоте, она даже не спросила, о чем у нас с ним был разговор. Меня это обрадовало, потому что я не умею, как она, запоминать все до единого слова и пересыпать свой рассказ всякими «он говорит» и «она говорит». Да и разговор был не такой, чтобы разменивать его по – мелочам. Поэтому я предоставил ей самой догадываться. И пока я уминал свою порцию ананасов со сливками и хлеб с маслом, запивая его крепким чаем, почти ничего не было сказано. А потом я сидел молча и ждал.
– Ну, какие у тебя планы на вечер? – спросила она.
– Меня пригласили в гости.
– Куда же это?
– Какая разница? Ведь я все равно не могу пойти без тебя.
– Посмотрим. Сначала скажи, куда.
– В храм божий.
– Не может быть. Кто? Когда?
– Вчера вечером. Я познакомился с пастором, и он меня позвал.
– И ты хочешь пойти?
– Собирался, но ведь ты сказала, чтоб я без тебя ни шагу.
– Ты сам знаешь, что в церковь я тебя пущу.
Тогда я сказал, что, если она не против, я, пожалуй, пойду, но не думайте, что больше не было никаких расспросов, – она, например, хотела знать, как это я познакомился с пастором и что он за человек: ах, вот как, значит, у него есть дочь, и так далее в том же духе. Наконец она все выяснила, и я был свободен.
– Помолись там за меня, – сказал Жилец.
А моя старуха только поглядела в мою сторону, и я сразу догадался, что у нее на уме. Делать нечего, я пробормотал молитву, но она состояла всего из двух слов: «Помоги маме». Я в жизни не думал о религии, меня лишь иногда интересовало, откуда все произошло и как началось, а если все время об этом думать, живо с ума спятишь: положим, даже решишь, что все создал бог, и будешь молиться – какой от этого толк? Услышишь звук своего голоса, и только. Односторонняя связь. Станция не отвечает. Поймите меня правильно. Иногда я диву даюсь, как это все так ловко устроено. А иногда мне кажется, что я похож на человека, который хочет поймать Нью-Йорк или Сидней слабеньким детекторным приемником. А это, пожалуй, потруднее, чем самому собрать приемник, пусть даже из всякого хлама и без запчастей.
Может, это все равно что настроиться на миллиард радиостанций разом и все же разбирать каждый голос в отдельности. Вообразите, что я пробовал это сделать, я, который и свою старуху-то не всегда мог понять, или не я, а какой-нибудь другой человек, который говорит на том же языке и думает теми же мыслями. И это не удивительно, потому что если взять другого, то он, может, и себя-то не понимает. Ему-то кажется, что он понимает, но это не меняет дела.
Братцы, от этой мысли меня в дрожь бросает.
По дороге я встретил Носаря и никак не мог от него отвязаться. Я сказал ему, что иду в церковь.
– Ну ладно, и я с тобой.
– Не по той дорожке идешь, Носарь. Будь у тебя ума побольше, ты пошел бы прямо в церковь Терезы.
– Я ничего не делаю по расчету, иду, куда хочется.
Бесполезно было с ним спорить. Мы вошли в миссию. У дверей стоял какой-то сгорбленный тип, он пожал нам руки и дал книжки с гимнами. Мы сели на разрисованные скамьи вместе с прихожанами, которых было ровно двадцать девять, считая нас двоих. Дороти, игравшая на американском органе, улыбнулась мне. Носарь подтолкнул меня локтем.
– Хорошенькая штучка, а?
Он сказал это громко, и все сидевшие впереди нас, а таких было большинство, обернулись. Многие кивнули с улыбкой. Конечно, они привыкли к соплякам вроде меня и Носаря. Несколько новообращенных даже были в церкви. С самого начала служба пошла в темпе, не то что у нас в воскресной школе. Вышел пастор, сказал, какой гимн петь, отбарабанил первый стих, не глядя в книжку, и все рванули вперед. Эта братия была, как машина, и я не совру, если скажу, что мы поехали – и было это очень страшно, потому что машиной никто не управлял и гнали мы неизвестно куда. Тут уж не соскучишься; пастор помолился, прочел главу из библии, загремели гимны, и возгласы «хвала господу» взлетели, как ракеты; а потом он начал проповедь.
Послушав минут пять, старый бродяга Носарь прошептал:
– Бежим из этого сумасшедшего дома, не то я сам сейчас спячу.
– Да ведь он только говорит и больше ничего, – сказал я. По правде сказать, я сам трусил, хоть и не так сильно. Но мне доставило тайное удовольствие видеть, как Носаря пот прошибает.
– Он глядит на нас, – сказал Носарь. – Все время глядит, как подымет голову. Охмурить хочет.
– Грешников выискивает, – сказал я. – Ну, что теперь скажешь насчет ножа? Здесь он не поможет, а, Носарь?
Пастор говорил так же приятно, как его дочь пела. Он произносил слова проникновенно, нараспев. Иногда он понижал голос до шепота и гудел, как ветер в проводах, а потом снова гремел на всю катушку.
Предварение: Человек жил в раю, который был ему домом, и не ведал ни смерти, ни болезней, ни ненависти, ни зла, ни греха. Он жил безмятежно и мог общаться с богом в любое время дня и ночи. В такой безмятежности, какой не знал даже у материнской груди; в такой благодати, что даже самые счастливые минуты нашей земной жизни – лишь бледная тень ее; в такой красоте, что с тех пор сердце его тоскует по ней и будет тосковать до скончания века. А потом туда проник дьявол и все погубил. Человек был изгнан из рая и обречен влачить тяжкую жизнь, работать в поте лица своего и умирать. Он лишился общения с богом, и это было всего ужаснее, потому что он стал одинок. Вместо вечности ему была уготована однообразная череда дней. И человек пустился в путь по бесплодным равнинам времени, не ведая милосердия, и поэтому Каин убил Авеля; не было росы сострадания, а лишь пролитая кровь; и было проклятие потопа и разрушение Содома и Гоморры. Снова и снова бог являлся своему народу, и снова и снова этот народ ему изменял; и, наконец, бог сошел на землю. Слово обратилось во плоть и было распято за грехи наши – мои и твои.
– Аллилуйя.
– Хвала господу.
– У этого человека не глаза, а сверла, – сказал Носарь.
Поучение: О братья, не думайте, что наша цель – это возвращение в рай. Кто дерзнет отрицать распятие? Кто посмеет отвернуться от окровавленного чела, от пронзенных гвоздями рук и ног, от истерзанного тела? И все же миллионы, да, миллионы закрыли глаза, миллионы предпочли дьявола. Вы спросите: как можем мы предпочесть дьявола, если не верим в него? Все дело в том, братья и сестры, что дьявол хитер и коварен; он стал незрим и незримо присутствует повсюду. Но людям кажется, будто его нет, и они думают, что грех – это естественное состояние, что в нем нет ничего дурного. Оно не имеет никакого отношения ни к богу, ни к дьяволу, ни к искушению, ни к вечному проклятию. Оно касается лишь желаний и чувств. Но желаниям нужен исход, а чувствам – удовлетворение. И дьявол управляет ими издалека. Братья и сестры, дьявол ликует, никогда еще ему не было так легко!
Молодежь в наше время предана на его милость. Но самое ужасное, что у него нет милости и быть не может. Молодежь живет, не признавая добродетели, обуянная гордыней, в пренебрежении к священным законам божеским. Она погрязла в мерзости. У нее нет надежд.
Старик Носарь был весь в поту.
– Он все время глядит на нас… Чего ему надо?
– Заткнись!
Но я и сам вспотел. Этот пастор знал свое дело. Только не подумайте, что на меня все это подействовало. Просто я растерялся.
Увещание: Если бы они поняли, что лишь дающему воздается сторицей, что единственный способ наслаждаться жизнью – это вручить ее господу, что только тот, кто ненавидит жизнь, стремится обладать ею. Взгляните сквозь сеть лжи, сотканную дьяволом, на вечные муки тех, которые попали в его когти, взгляните на все это ради спасения своей души. Сверните с неправого пути, воззрите на распятие, воззрите на чело, увенчанное терниями за грехи ваши, на эти раскинутые руки и ноги, пронзенные гвоздями, на кровоточащее тело. Взгляните в эти чудесные глаза, и вы обрящете в них прощение, которого ждете.
– Я ухожу!
– Никто тебя не держит.
Заключение: Склоним же головы и закроем глаза. Вознесем наши души к небу и помолимся богу, дабы он вразумил тех, кто не в лоне нашей церкви, дабы они упали ниц пред престолом милосердного…
– Ты идешь, Артур?
– А теперь споем молитву тихо-тихо, чтобы я мог услышать бога…
Вдруг начался шум. Подняв голову, я увидел, что Носарь удирает со всех ног.
– Юноша, нельзя убежать от бога.
– Останься, и ты обретешь мир.
Но его уж и след простыл.
– Да свершится воля божия, – сказал мистер Джонсон в конце службы. Он глядел на меня сверху вниз – голый череп, ввалившиеся щеки и добрые карие глаза. – Я уверен, что сегодня бог вразумит кого-то.
Я чувствовал себя манекеном. Одежда висела на мне, как белье на веревке, только сохла не мыльная пена, а целые галлоны пота, по гинее за каплю. Я потерял фунтов тридцать весу и совсем обалдел. Сам не знаю, почему. В мозгах у меня помутилось с той самой минуты, как Носарь удрал.
– Ведь Артур остался, – сказала Дороти.
– Да, остался, – сказал мистер Джонсон. – Ну что, Артур?
– Это не по-честному.
Он усмехнулся.
– Бог оправдывает все средства.
– Возможно. Но я предпочел бы просто спокойно посидеть и подумать. Никаких молитв, гимнов, болтовни. Просто спокойно подумать.
– Сидеть, и думать вечно? – сказал мистер Джонсон. – Да ты, я вижу, крепкий орешек. Не лучше ли нам сыграть в шашки, а?
Честное слово, так прямо и сказал. Меня поразило, как он сразу переменился.
А потом Дороти опять проводила меня до двери и не отпускала добрых десять минут.
– Во что вы верите? – спросила она.
Глаза у нее были отцовские; глядя на нее, я вдруг представил себе, как лицо ее когда-нибудь высохнет, постареет и сморщится, как у него. Но нет, этого быть не может.
– Дайте мне время, – сказал я.
– Значит, вы хотите обдумать то, что слышали сегодня?
– Ваш отец не единственный, кого я слушаю, – меня все интересует.
– Не вас одного.
– Слушать – это все равно как цветы собирать.
– Выходит, вы собираете только то, что вам нравится.
– Как когда. Иной раз такого наберешь, что и сам не рад. Вот, например, некоторые вещи, которые ваш стар… которые он говорит. Про одиночество, про то, что все мы одиноки. Вот что я собираю и не потому, что мне это нравится, а потому, что мешает.
– Какой вы странный, – сказала она.
– Скажите, сколько вам лет? – спросил я. – Ведь вы всего на несколько месяцев старше или младше меня. Для вас все яснее ясного. А для меня – нет.
– Я тоже думала об этом. Много думала.
– Еще бы, – сказал я. – Но я говорю про себя. Скажем, человек слушает. Это все равно как вязать, даже еще медленнее. Вот ваш отец говорил, что воздается лишь дающему…
И я рассказал ей про Джорджа Бзэка с его племянником и про то, как он стал мертвецом.
– Поэтому вы и пришли сегодня? – спросила она с легкой насмешкой.
Мне хотелось обнять ее и сказать:
– Нет, я пришел потому, что здесь есть один цветок, который я хотел бы сорвать.
Но я только взял ее за руку. Она прислонилась к двери, глядя на меня с едва заметной призывной улыбкой. Я сжал ей руку и хотел поднести ее к лицу в надежде, что тогда она обнимет меня за шею, но не осмелился. Она была права, а я не прав. Она была на сто лет меня старше, я не смел шевельнуться, а она смеялась. И я почувствовал, что она легко может меня одурачить.
– Мне пора.
Она отняла руку. Просто удивительно, как я вообще посмел тогда взять ее за руку, мне она казалась слишком добродетельной, чтоб ее коснуться, не говоря уж – поцеловать. Может, поглядев на нее повнимательней, я понял бы, что и она тоже разочарована. У первого фонарного столба я остановился и хватил по нему кулаком. Хватил изо всей силы, а когда обернулся назад, дверь за ней уже захлопнулась.
2
Весь остаток лета и почти всю осень я проболтался без толку, ходил в миссию и становился все более глух к проповедям пастора, но не к голосу Дороти; ведь это ее голос привлек меня туда, и даже теперь, когда в голосе какой-нибудь другой девушки мелькнет похожая нотка, я вспоминаю Дороти и весь замираю. Мы с ней часто гуляли и разговаривали, но всегда держались на почтительном расстоянии, не считая случайных прикосновений. Я совсем дошел. У этой девушки было редкостное терпение, но, как потом оказалось, воздаяния она не получила. Что толку, если можно только гулять и ходить на церковные службы – ни в кино, ни на танцы, ни на вечеринку? Но так продолжалось довольно долго.
Иногда я не могу понять, что же произошло. Я любил эту девушку. И был не робкого десятка. Но она как-то сковывала меня. Или, может быть, это не она, а воспоминание о ее голосе, церковная обстановка, молитвы и гимны мешали мне. А может, все дело было в том, что я уважал невинность и не хотел ее губить. И кроме того, меня все время удерживала мысль о Стелле.
С ней все оставалось по-прежнему. Я никому про нее не говорил. Там был особый мирок, тихий и уютный, как сон, и всегда открытый для меня. Когда я думаю о Крабе и Милдред, то понимаю, как мне повезло, что все так вышло, – приходишь, тебя встречают дружелюбно, ласково, а уходишь свободный, и ничего с тебя не требуют. Невероятно, правда? Но так это было, и теперь, когда я стал старше и умнее, я понимаю, что, пожалуй, по-настоящему чистой и невинной была Стелла. Иногда, закрутившись, я подолгу с ней не виделся. Иногда нарочно избегал ее из-за Дороти, но в конце концов я шел к ней, потому что у нее мне было хорошо, как дома. Она открывала мне дверь и всегда встречала меня радостной улыбкой, никогда не жаловалась, что я ее забыл. Я садился на диван у камина, а она оживленно болтала или, вернее сказать, лепетала – про книгу, которую недавно прочла, – а она очень любила читать – лепетала увлеченно, захлебываясь. Иногда я чувствовал себя виноватым, но через несколько минут ощущение вины исчезало, потому что она давала мне почувствовать, что я ничем не связан и раз я здесь, ей больше ничего не нужно. Да, братцы, я чувствовал себя героем из ее любимой книги, когда она сидела рядом, смеясь и болтая, маленькая, пухленькая, с красивыми ножками и добрыми веселыми глазами. Часто она обрывала свою болтовню и целовала меня. А иногда сдерживалась и говорила: «Я приготовлю поесть – чего тебе?»
И бежала на кухню, напевая, хватая то одно, то другое и называя меня таким-сяким. Мне часто думалось, что мы как Адам и Ева, потому что все так легко и просто, да так оно и было – для меня. А каково было ей, когда она думала о муже, который плавал по всему свету старшим помощником на торговом судне. Он был большой, добродушный и беззаботный, ему и дела не было, как ей одиноко, когда он в плаванье. Она мне про него никогда не говорила. У нее была дочь, которая училась в интернате.
В доме было много фотографий этой девочки. О муже она заговорила со мной только раз, сухо сказала, кто он, но часто рассказывала про дочь – как она хорошо учится, какая серьезная, хочет стать доктором. Не мне чета, смеялась она.
Я звонил ей, и иногда, во время каникул, эта девочка подходила к телефону.
– Кто это? – спрашивала она, и я замирал, прижимая трубку к уху, потому что, хотя голос у нее был гораздо более юный, он напоминал голос Дороти. – Кто это?
Из телефонной будки я выходил, совершенно уничтоженный и дрожащий. Я никогда не чувствовал вины за собой и за Стеллой, но боялся, что о наших отношениях узнают. Эта мысль приходила не часто, но сжимала мне сердце, как железный кулак.
И в то же время я ревновал свою старуху к Гарри, так ревновал, что однажды ночью, услышав шум внизу, совсем ополоумел, выскочил из постели и распахнул дверь его комнаты. Поверите ли, этот шут стоял на голове у стены! Я ожидал самого худшего, а увидел вот что – он стоял в пижаме, вниз головой, стукая ногами в стену, и ухмылялся. Он, конечно, догадался, в чем дело. Я понял это по его усмешке. Все еще стоя на голове, он сказал:
– Кровь хочу разогнать.
Я криво улыбнулся в ответ, вполз наверх, как раздавленный таракан, и снова лег. Я понимал, что могло быть хуже, и готов был убить себя за свою глупость. Если я смутился, когда увидел, что он всего-навсего делает упражнения йогов, то что же было бы, если б я застал его в постели с моей старухой? А потом я по-прежнему слышал, как она тихо спускается с лестницы, и натягивал себе на голову простыню, стараясь не думать об этом, потому что поделать ничего не мог. И все-таки меня это бесило. А ведь сам я был не лучше. Даже хуже.
Быть может, из-за того, что я хотел чувствовать себя праведником перед моей старухой и наладить отношения с Дороти, я не встречался со Стеллой почти три недели, тогда как обычно мы виделись раз в неделю. Не скажу, чтоб это было легко. Легче было бы курить бросить. Но чем яснее я понимал, как я к ней привязан, тем больше проникался решимостью все кончить. Это привело к нашей единственной ссоре. Раз вечером я пришел с работы, напился чаю, поднялся наверх переодеться и, сам не знаю почему, выглянул в окно. Я подскочил чуть не до потолка, когда увидел на улице ее автомобиль. Она появилась, как живой укор. К счастью, моя старуха еще не вернулась с работы. Я кубарем скатился вниз и побежал к машине. Стекло было спущено, она курила сигарету, по-женски, быстрыми маленькими затяжками.
– Садись, – сказала она.
Губы ее были плотно сжаты. Машина тронулась, прежде чем я сел.
Мы проехали Шэлли-стрит, и у моста меня словно толкнуло что-то. Я оглянулся. Да, это был Носарь; он стоял на углу, вытаращив глаза. И представьте себе только, я сразу начала придумывать, что бы ему соврать, но потом решил, что Носарь умеет хранить тайну. Теперь просто не верится, что это могло меня тревожить, ведь в то время у меня были заботы поважнее. Машина на бешеной скорости пронеслась через весь город, и, хотя Стелла правила внимательно и ни разу не проехала на красный свет, она то и дело выскакивала из ряда, обгоняя передних и рискуя столкнуться с огромными желтыми дизельными грузовиками. Вырвавшись из города, она свернула на проселок и резко затормозила у реки.
– Ну вот, – сказала она. – А теперь дай мне сигарету. – Это прозвучало как приказ. Мы закурили. – Пойми, Артур, ты совершенно свободен. Я не стану тебя удерживать. Но ты должен быть мужчиной и сказать прямо, если хочешь порвать со мной.
Я уставился на свою сигарету.
– Из нее ты ничего не высосешь, – сказала она резко, едва сдерживаясь. – В конце концов у тебя было три недели, чтобы придумать какую-нибудь историю, – говори же, в чем дело? Ты… влюбился? – Произнеся это слово, она чуть не задохнулась. Я кивнул. – Почему же ты не сказал мне?
– Духу не хватило, – пробормотал я.
И тогда она мне выдала по всей форме. Сказала, что только подлец может так относиться к женщине, что она меня ничем не связывает и никогда не хотела связать, но надеялась, что я буду обращаться с ней как с человеком, а не как с рабыней. Она не плакала, и от этого мне было еще хуже. А потом она замолчала, белая как мел.
– Ты права, – сказал я. – Но у меня есть девушка, в этом вся беда.
– Тогда ты должен был мне сказать. Я не стала бы тебя удерживать. Ты просто трус.
– Не в этом дело, – сказал я.
И вдруг я понял, почему не сказал ей, – понял настоящую причину. Не хочу оправдываться. Я поступил скверно, струсил. Но теперь, глядя на нее, я вдруг понял отчего: мне хотелось невозможного. Я знал, что это невозможно, но все-таки желал, чтобы это сбылось.
– А в чем же, в чем? – спросила она настойчиво.
И тут я заплакал.
– Не хочу, чтоб ты жила одна в этом доме, не хочу расставаться с тобой, Стелла. Ох, как бы я хотел, чтоб ты была моей ровесницей!
– Господи! – сказала она, и лицо ее сморщилось.
Я привлек ее к себе и изо всех сил старался утешить единственным способом, какой знал. В конце концов мы бросили машину и пошли по берегу реки. Был теплый осенний вечер. Мы набрели на старый песчаный карьер. Если бы кто-нибудь прошел над нами, он принял бы нас за сумасшедших; мы оба были уверены, что в последний раз вместе. Теперь, когда прошли злоба и ожесточение, она была податлива и щедра, но до чего ж странно текут наши мысли. Я все думал о том, как жаль, что я никогда больше не увижу ее… А потом она сказала:
– Если б я могла вернуть себе лет двадцать, а ведь я не на столько старше тебя, мне пришлось бы много потерять. Я не могу пожертвовать Полли и всем остальным. Слава богу, это и не требуется… – Она помолчала немного, потом добавила: – Но я рада, что ты сказал это, мой дорогой.
И я рад, что запомнил это. Она высадила меня на окраине, и я доехал до дома на трамвае. Помню, как я глядел с моста на газовые фонари и крыши домов далеко внизу и думал, что брак – вовсе не бессмысленная штука. Привязаться к женщине, полюбить ее, почти не зная, – в этом есть глубокий смысл. И тяжело расставаться, когда знаешь, что это навсегда. И хотя я испытывал облегчение и был благодарен ей, никогда еще я не чувствовал себя таким несчастным.








