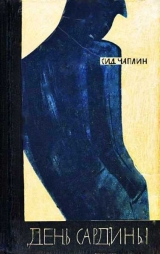
Текст книги "День сардины"
Автор книги: Сид Чаплин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
4
У старика Джорджа было любимое выражение: «Чему быть, того не миновать».
– От судьбы не уйдешь, – говорил он мне. – Все решено заранее. Остается только кусать губы и терпеть.
По-моему, это бред. Если потом концы с концами вроде бы сходятся, это еще не доказательство. Но тут все одно к одному подобралось, как шарики в подшипнике. И я даже видел, как он крутится, словно в цветном фильме. Не будь драки в «Альбионе», у меня не было бы крови на рукаве, а не будь этого, я на другой день не повис бы на волоске. А на этом волоске многое держалось.
Не воображайте бог весть чего насчет крови. Но тогда все это только что случилось, и я не находил себе места. Кровь обозначила черту, которую я не в силах был переступить. Это могло бы стать для меня концом. Но вышло иначе – это стало началом.
Моя старуха сразу почуяла неладное.
– С чего это ты старые джинсы надел? – спросила она.
– Не хочу новые трепать.
– Обычно по субботам ты красоту наводишь.
– Сегодня мы никуда не пойдем, только в кино. А в темноте все равно не видать. Ясно?
– Все равно надо быть прилично одетым.
– Ну уж одно из двух: в прошлый раз ты ругала брюки из твила и пестрые рубашки.
– Ты надел это старье, потому что идешь пьянствовать и шататься по улицам.
– Ах, оставь, мама.
– Нет, не оставлю, я решила тебя не пустить.
– Ты или еще кто-то?
Это было уж слишком. Она вышла из комнаты, и не трудно было понять, что она задумала.
– Слушай, мама, кончай шуметь, – сказал я, когда она вернулась. – Я весь день гонял на велосипеде и устал, как собака. Неохота переодеваться, вот и все.
– Вот что, сынок, – сказала она, – у тебя, конечно, непроницаемое лицо, и я не стану утверждать, будто читаю его, как книгу. Тебя ничем не проймешь. Но я знаю твои штучки. Ты ничего не делаешь зря.
– Честное слово, мама, мне просто лень переодеваться.
– Знаю я, вы с этим Кэрроном и другими опять что-то затеяли.
– Говорю тебе, мама, мы идем в кино, а потом, может быть, зайдем поесть рыбы с жареной картошкой.
– И только?
Я сделал над собой усилие и поглядел ей прямо в глаза. Это было нелегко, но я заставил себя, иначе я подвел бы ребят.
– И только, мама.
Она села в старую качалку, перебирая связку ключей.
– Это правда? – Я кивнул. – Отвечай, когда тебя спрашивают.
– Правда, ничего больше.
Не глядя на меня, она бросила ключи на пол.
– Вот, – сказала она. – Ты уже большой, от тебя колотушками ничего не добьешься. Возьми ключи.
– Говорю тебе, мама…
– Я уверена, что ты врешь.
Я поднял ключи. Мне хотелось сказать ей все. Хотелось объяснить, что у меня душа не лежит к этому, но я вынужден идти. Может, это звучит жалко, но вдумайтесь на минуту. Какая разница между старым Джорджем на высоте 60 или моим стариком, ожидающим корабля в Дюнкерке, и маленьким Артуром, уходящим на драку в «Альбион»? Никакой. Я был вынужден идти, и, может быть, мне этого еще меньше хотелось, чем им. Но я шел вместе со своими друзьями.
Я вынужден был идти. В этом смысле старик Джордж прав: чему быть, того не миновать. Когда все время вместе с ребятишками, приходится иногда и драться вместе с ними. Или быть одному. Платишь свою долю, вот и все.
5
В эту субботу несчастья начались с утра. Работая у дробилки, я все время думал о предстоящей драке, и вышла неприятность. Не поглядев на указатель, я опорожнил бункер, и когда старик Джордж сказал: «Ты что-то торопишься, Артур», – я ему нагрубил.
– Кто работает, вы или я? – пробормотал я и направил ковш к смесителю. Спроггет был тут как тут и все видел.
– Какой дьявол это сюда вывалил? – спросил он, растирая смесь между пальцами. – Сделано не по инструкции.
– Зато по книжке, – буркнул я.
Спроггет крикнул малому, работавшему на скрепере:
– Убери это! Ни к черту не годится. – И, повернувшись ко мне, добавил: – Как и тот, кто это сделал.
Старик Джордж подошел к машине, чтобы заложить следующую дозу. История вышла неприятная, потому что все спешили, а тут задержка на целых полчаса. И еще неприятнее было видеть, как Спроггет и дядя Джордж рассматривали брак, а потом дядя Джордж повернулся ко мне и покачал головой. И вдобавок я понимал, что на этот раз никто ко мне не придирается – я сам был кругом виноват, и по моей вине могли пострадать двадцать человек.
Люди работали как черти, но кончили с опозданием почти на час, и это отнюдь не улучшило настроения, потому что заработали они всего по нескольку шиллингов и были все в мыле, хотя поспеть на матч еще могли. Первый матч сезона – его хорошо смотреть после легкой субботней смены. Я испортил им удовольствие. Спроггет, конечно, постарался, чтобы они знали об этом, но и без того все были мрачнее тучи. Даже бедняге Джорджу досталось.
Когда мы собирали инструмент, Спроггет подошел к нам.
– Вот что, Джордж с завтрашнего дня ты сам делай всю сложную работу, – сказал он. – А мальчишка пускай дрыхнет: во сне он ничего не напортит.
В общем я начисто осрамился – такую резолюцию выдвинул Спроггет, поддержали мои товарищи и единогласно принял я сам. День был душный, облачный. До самого вечера я носился на велосипеде, пригнувшись к самому рулю и поднимая ветер. Но это меня не успокоило. Я словно ехал внутри большой медной печи по нарисованной дороге, и мне почему-то казалось, что если я выеду за фабрики на береговое шоссе, то там будет пустота, как на краю света. Я сел на скалу и стал слушать, как шумят на пляже. Там было, может, две тысячи детей, и все плакали, так что я сам чуть не разревелся. Назад я ехал ровно двадцать две минуты. У меня оставалось еще четыре часа.
– Садись за столик, – сказал сержант. – Весь город как вымер, за целый день ни души.
– Жарища, – сказал я.
– Быть грозе.
– Лишь бы прохладней стало, – сказал я. – Не выпить ли нам пивка, сержант?
Мы выпили по бутылке прямо из горлышка. Пиво было теплое, и я с таким же успехом мог бросить деньги в канаву.
– Мне все обрыдло, сержант.
– Сколько лет не слышал этого слова, – сказал он, – а в мое время, если человеку все обрыдло, никто и внимания не обращал, это в порядке вещей считалось.
– Вот и со мной так.
– Как же так! – сказал он. – У тебя ведь вся жизнь впереди.
– Вот все говорят о жизни, сержант. А что это за штука? – спросил я. – Что она дает? – И я поглядел на его деревянную ногу, лежавшую на табуретке.
– Мне-то могло быть и хуже. Многим хуже пришлось, – сказал он. – Раненые валялись на земле, кричали, звали на помощь, а мы не могли к ним пробраться. Мне повезло – уцелел. А потом – автомобильная катастрофа в Риме, и очнулся я уже без ноги.
– Вы на днях как раз про Рим хотели рассказать, про девушку.
– Ах, да, – сказал он. – Про девушку.
– И что-то сказали про ноги.
– Про ноги! Смешно, ей-богу, но в то время было не до смеху. Я тебе расскажу. Она чуть с ума меня не свела.
– Кто, девушка?
– Нечего удивляться. Много ли ты знаешь о девушках? Только и умеешь проводить после танцев сопливую девчонку, держать ее за руку, обжиматься на улице. Нет, ей-богу, ничего ты не знаешь.
– Простите, сержант, – сказал я. – Конечно, опыт у меня небольшой.
Иногда я ловко умею врать.
– Где уж тебе… – сказал он со смехом.
– Так что же про ноги?
– Ты еще молод, не следовало бы тебе рассказывать. – Но он уже ударился в воспоминания. – Солдата тоже нужно понять. Много лет не был дома, все время в походе, вокруг одни только продажные женщины.
– Проститутки?
– Аферистки. А это все равно, как вот теплое пиво – его с таким же успехом можно в канаву вылить… И это самое худшее. Те женщины, о которых мечтаешь, не про тебя, ясно? Иначе ты сам не захотел бы их.
– Понимаю, – сказал я.
– Ну нет, это ты врешь. Две вещи тебе не понять: боль от ран и тоску по женщине. Это невозможно себе представить. Взять хоть Лючию – я на нее истратил миллион лир, а то и все два, хоть она никогда ничего не просила и предупредила меня, что я это напрасно делаю. Добрался до родника, а напиться не могу, воды нет… Под конец я совсем сдурел, ходил, как лунатик. Говорил ей: «Сними туфли, Лючия мио». Она бросала на меня этакий взгляд, и хоть я мало чего мог сказать по-итальянски, зато выкатывал глаза, а когда она снимала туфли, хлопал в ладоши. У нее были красивые ножки. Загляденье. Я часто гладил их, и она гладила меня по волосам. Однажды я их поцеловал – одну, потом другую.
– А потом что?
– Ну, ласкал я эти ножки, покуда не изнемог, а она уж и вовсе голову потеряла. И вот один раз она дала себе волю. Схватила туфлю и отколотила меня, крича что-то на своем языке…
– Что же она кричала?
– Много, всего и не упомнить. Но последние слова застряли у меня в памяти: «Я не женщина!..» Но она была женщина, да еще какая! – Его глаза уставились в пустоту. – В ту ночь я напился из родника. И эта ночь заставила меня забыть все на свете.
– Вы женились бы на ней?
– Конечно, если б только она согласилась, но на другой день я как во сне вел штабную машину, полную всяких начальников, и хотел обогнать грузовик. Я остался без ноги, а Лючия потеряла все.
Я часто об этом думаю. Убеждаю себя, что, если бы пришлось выбирать – вернуть ногу или Лючию, я все-таки выбрал бы ногу… а потом мне приходит мысль, что я мог бы и не встретив Лючию все равно потерять ногу или даже жизнь.
– Все это мура, – сказал я.
– Да, мура. Но послушай моего совета – если в роднике есть вода, напейся, чтоб потом обидно не было. – Он посмотрел мне в лицо и вдруг понял все как есть. Во всяком случае, он засмеялся, весь затрясся от смеха и схватил меня за плечо. – Прости, пожалуйста, – пробормотал он. – Но если бы ты мог видеть свое лицо…
6
Я увидел свое лицо в тот же вечер. Это было в уборной в «Альбионе» – я воспользовался последними минутами перед концом второго боевика. Носарь и Малыш-Коротыш пошли в задний ряд, где обычно сидят влюбленные, а мы вывинтили все лампочки, кроме одной. После этого я пошел умыться. Голова у меня трещала и раскалывалась. Вот я и решил намочить лоб – может, полегчает. В уборной пахло мочой и раковина была полна туалетной бумаги, разорванной зачем-то на узкие полоски. Я сунул голову под кран. От головной боли и страха у меня мутилось в мозгах. Я вымыл лицо карболовым мылом, которое кто-то разрезал на кусочки бритвой, и вытерся носовым платком. А потом долго и внимательно разглядывал себя в зеркало.
С удивлением я обнаружил, что похож на рыбу: рот разинут, уши торчат, как плавники, а веснушки – словно чешуя. Единственное, что я мог сделать, – это закрыть рот. Тогда я стал похож на карлика из мультфильма, которого видел еще ребенком, – он тогда произвел на меня сильное впечатление. Большое круглое лицо и большие круглые глаза, шеи нет, голова ушла в плечи. И все же, несмотря на шрам, лицо было самое безобидное. Я не мог назвать его красивым или хотя бы привлекательным – меня никогда не будет осаждать толпа, выпрашивая автограф, но оно было безобидное. Сразу видать, что я никому зла не желаю. Я не мог понять, как это можно опасаться человека с таким лицом. Но на деле выходило иначе. Ведь по-настоящему мне не доверял никто, кроме Носаря и наших ребят, да и у них, пожалуй, были сомнения. У Балды были наверняка. Печальная улыбка, которой я наградил себя, не могла смягчить неприятного впечатления от злых глаз и саксонского носа.
Я бегом пустился по коридору, боялся передумать. Когда я прибежал, один из наших, Родни Карстерс, стоял на плечах Балды и вывинчивал последнюю лампочку. Тьма была – хоть глаз выколи. Я велел. Мышонку Хоулу с двумя младшими охранять запасной выход, а остальных поставил по обе стороны коридора.
В голове у меня словно африканский барабан стучал, и мне казалось, что вот-вот кто-нибудь спросит, откуда этот шум. Лишь из-за угла коридора сочился слабый свет, а потом зажглись лампы в зале – перерыв. В двери снизу была щель, но очень узкая. Мы слышали вопли каких-то полоумных детишек, требовавших мороженого, – это запустили рекламный ролик.
– Сейчас выбегут, – прошептал Балда.
– Засохни! – шикнул я на него. – Все на местах?
Носаря с Малышом все еще не было. Они выскользнули в дверь, как только в зале снова погас свет. Пробегая мимо нас, они хохотали, как сумасшедшие. А потом появились ребята Келли. Мы сразу отрезали им путь к отступлению. Я слышал, как один крикнул: «Какого хрена свет не горит?»
И тут мы им дали жизни. Лупили их почем зря и орали, а эхо подхватывало крики, и они становились громче в десять раз, как через усилитель. Начал я драться без всякой охоты. Но потом схлопотал сильный удар в подбородок чем-то твердым, наверно кастетом, и это поддало мне жару. Вскоре я уже не отставал от других.
В темноте не видно с кем дерешься. Кто-то хватает тебя за пиджак, или за рубашку, или вцепляется пятерней в лицо, а ты стараешься ощупью обхватить его вокруг пояса. Один из младших заплакал. Носарь крикнул:
– Ты здесь, Артур?
Я откликнулся. Но тут они прорвались и побежали назад, к запасному выходу. Дверь распахнулась с таким грохотом, что все зрители, наверно, повскакали с мест. Носарь крикнул:
– В погоню!
Мы ринулись по коридору, и у меня мелькнула мысль, что победа досталась нам очень уж легко. Мы сгрудились у двери, как стадо баранов перед пропастью. Задержка вышла из-за плачущего мальчишки, одного из тех двоих, которых я поставил у запасного выхода.
Он сидел в углу, закрыв лицо руками. И руки у него были в крови. Носарь встал около него на колени и спросил, что с ним. Он не ответил и не отнял рук от лица. Малыш-Коротыш вышел на улицу.
– Что-то больно уж тихо, – сказал он. – Не нравится мне это.
– Да, слишком легкая победа, – сказал Носарь. – Их и было-то всего несколько человек.
– И Келли с ними не было, – сказал Малыш.
– Они, наверно, почуяли неладное и смотались через главный вход, – сказал я. – Мы перехватили только троих или четверых. А остальные удрали.
– У этого мальца нос расквашен, – сказал Носарь. – Надо его увести отсюда… Род, выведи его через зал.
– Пойдем, – сказал Род. И они ушли в зал. Так было всего безопаснее. Конечно, их могли накрыть билетеры, но лучше уж билетеры, чем дружки Келли.
– Может, и нам пойти через зал? – предложил Балда.
– Они только того и ждут, – сказал Носарь. – Но мы их вокруг пальца обведем.
Он повел нас в один из тех узких переулков, которые тянутся к главной улице, вытаскивая на ходу нож.
– Убери нож, Носарь, – сказал я. Он злобно поглядел на меня.
– Не будь дураком! У них столько железа, что целый корабль построить хватит. Нам одно остается – налететь, проучить их хорошенько, а потом врассыпную.
– Ладно, – сказал я. – Ты как знаешь, а с меня довольно. Я сыт по горло.
– Нашел время уходить, – сказал он и пошел вперед.
Конечно, он оказался прав. Железа у них хватало. Они выскочили из подъездов, размахивая велосипедными цепями, бутылками, ножками от стульев. Дело приняло серьезный оборот. Нам оставалось только уносить ноги. Мы с ними так и не сквитались за свой штаб, не до того было. Уже у главной улицы я увидел Келли – он гнался за Носарем; надо было выручать Носаря, и я бросился Келли под ноги. Я услышал ругань и понял, что Келли здорово хлопнулся. Я не остановился, чтобы убедиться в этом, а побежал дальше через улицу. Машины резко сворачивали или тормозили. Троллейбус чуть не въехал на тротуар. Наши ребята рассыпались по всей улице, дружки Келли гнались за нами, кричали и улюлюкали нам вслед, как очумелые.
Прохожие ошалели. Какая-то женщина с коляской вопила, запрокинув голову. Носарь нагнал меня и, задыхаясь, стал благодарить.
– Молодчина, Артур! – крикнул он.
Но я слишком запыхался и не мог ответить. Никогда не забуду, как мы петляли по окраине, чуть не падая от усталости, но боялись остановиться и все прислушивались, нет ли погони. Минут через десять мы потеряли их из виду, и если вы думаете, что десять минут – это не так уж много, попробуйте сами пробежать те же десять минут, когда за вами погоня.
Мы вбежали во двор какого-то склада. Залегли там и притаились, прислушиваясь к своему дыханию. Мы пыхтели, как два паровика. И вдруг Носарь засмеялся.
– Поглядел бы ты на его рожу, – сказал он. – Этот хмырь не ожидал, что его самого ножом припугнут. Ты его здорово долбанул, и знаешь, что он сделал со страху?
– Мне наплевать.
– Не прикидывайся, Красавчик, – сказал он.
– Брось, Носарь, – сказал я. – Не лезь ко мне. Дай очухаться. Я выдохся вконец.
– Ну, это пройдет, – сказал он. – Слушай, ты не поверишь – он до того напугался, что сам схватился за лезвие. Я бы его, конечно, не пырнул, но сразу стало ясно, что он в штаны наклал со страху… И нож он у меня живо отпустил.
– Ты же мог его убить.
– Не мог… Вот погляди сам. – Он вынул нож и показал мне, проводя по лезвию большим пальцем. – Видишь кровь?
– Ты с ума сошел, Носарь. Вытри скорей.
– Сперва потрогай.
– Не хочу.
– Ну хоть коснись пальцем.
– Нет уж, спасибо.
Носарь поднес нож к самому моему носу и захохотал. Я перевернулся на живот – мы оба лежали навзничь, положив головы на какие-то мешки, – и вдруг он на меня прыгнул. Уселся верхом и стал подскакивать, как наездник на лошади.
– Надо ножик наточить!
Он стал точить нож об мой рукав, как о ремень, и я подумал, что на пиджаке останется кровь. Сперва я не шевелился, словно окаменел, – был уверен, что он рехнулся. Но, почувствовав прикосновение ножа, я дернулся и вскочил…
– Тпру, лошадка! – крикнул он со смехом. – Тпру!
И все время подпрыгивал на мне, держась одной рукой за мой воротник, словно за лошадиную гриву. Вообще-то он был сильней меня, но страх прибавил мне сил. Резко повернувшись, я ударил его локтем и сбросил со своей спины.
Он лежал на булыжниках с перекошенным лицом, и я сперва подумал, что он напоролся на нож, как иногда показывают в кино. Встав около него на колени, я спросил:
– Что с тобой, Носарь?
– Ага, друг! – сказал он, наконец, давясь от смеха. – И ты ножа испугался?
Я чуть не пнул его ногой. Но вдруг понял, что это ни к чему – он уже не имел надо мной власти. Лучше уйти и бросить его здесь.
– Эй, Артур, куда ты? – Он сел. – Ты что, шуток не понимаешь? Артур! – Я не ответил. – Вернись, Артур, я больше не буду!
Я был тогда очень молод, и дружба много для меня значила. Но я не отозвался. Я выскочил через лазейку в заборе и побежал со всех ног, чтобы не слышать его голоса.
Не в том было дело, что, дав слово, он сразу же его нарушил. И, конечно, решил это с самого начала. И не в том, что я так уж боялся ножа, кто бы его ни пустил в ход – Носарь или Келли. Я убежал, потому что Носарь был мне совсем чужой. Я только воображал, что мы друзья. А он был чужой. Хотя нам часто бывало весело вместе, все же это был чужак, который только надел маску Носаря. А когда маска упала, мне ничего не оставалось, как бежать без оглядки.
VIII
l
ело все в том, что мы совсем не знали друг друга. Я оттого и убежал, что вдруг понял это. Я не просто убегал от Носаря – нет, я убегал от всех, кого, как мне казалось, я знал. И еще я понял, что хотел убежать от чего-то, что открыл в самом себе, – помните, зеркало в уборной? Я как идиот разглядывал свое лицо, недоумевая, как могут люди меня не любить и не верить мне. Еще детьми мы, насмотревшись всяких фильмов, часто играли в благородных и злодеев. Никто не хотел быть злодеем, но кому-нибудь приходилось уступать, иначе игра не получалась. Не знаю, как другим, а мне никогда не удавалось убедить себя, что я могу быть злодеем. Но, честно говоря, игре это никогда не мешало, и постепенно до меня дошло, что другим так же легко считать меня плохим, как мне самому – хорошим. Я считал плохим своего лучшего друга, а это все равно, что самому быть на его месте. Вы, конечно, подумаете, что я спятил, но я именно это понял и оттого убежал.
Не стану писать репортаж о том, как я давал кросс в тот вечер, оставив Носаря на дворе склада. Просто представьте себе, что я бежал со всех ног, думая о своем, и ничего вокруг не видел.
Я завернул за угол и вдруг наткнулся на двоих полисменов.
– П-простите, – сказал я и попятился. Один из них подошел вплотную.
– Куда спешишь, сынок? – спросил он.
Я пискнул, что, мол, обещал быть дома к десяти часам.
– Эх, вот если б мои дети бегом бегали, чтобы поспеть домой вовремя! – сказал он.
Но второй был не так прост.
– Похоже, что он бежит после драки или чего-нибудь в этом роде, – сказал он.
– Да что вы, сержант. Я засиделся у своего двоюродного брата, мы телевизор смотрели. Честное слово, мой старик с меня шкуру спустит.
– Ладно уж, пускай бежит, – сказал первый, дружелюбно потрепав меня по плечу.
Меряя мостовую, я услышал, как они вдруг заорали: «Стой! Стой!» Может, потрепав меня по плечу, он выпачкал руку в крови. Не знаю. Они гнались за мной до конца улицы, но я опередил их ярдов на десять и шмыгнул за угол, а там было несколько перекрестков. Я этим воспользовался, пробежал два переулка и нырнул в третий. Ворота углового дома были открыты. Я проскользнул в ворота и тихонько затворил их за собой. В подворотне было темно. Видно, хозяев не было, а свет из окон соседних домов задерживала высокая стена.
Я слышал, как они протопали мимо, подождал минут пять – недаром Носарь научил меня всегда сохранять хладнокровие – и повернул назад, туда, откуда прибежал. Но, верьте или нет, они стояли в какой-нибудь сотне ярдов от ворот. И снова началась гонка. В конце концов я выскочил на Шэлли-стрит и уже почти добежал до главной улицы, как вдруг увидел огни и услышал свисток. Спасло меня лишь то, что они не успели еще свернуть за угол, а я уже был возле миссии «Золотая чаша».
Я влетел в пышно разукрашенную прихожую. Лестница вела в темноту, к застекленной церковной двери. Стены дрожали от гимна про какую-то пустынь, и я неслышно прикрыл за собой входную дверь. Я слишком запыхался, чтобы идти в церковь. Мало сказать – запыхался: у меня сердце чуть не выскочило из груди. Я заполз по лестнице наверх и сел возле двери, чтобы отдышаться, а звуки гимна все нарастали, стены тряслись, хор гремел, словно американская кавалерия, скачущая с холма, только вместо воинственных криков раздавались «Аминь!» и «Аллилуйя!»
Это меня как нельзя более устраивало. Я чувствовал себя в безопасности.
Пение смолкло, и кто-то начал читать молитву. Я догадался, что читает молодая девушка. Будь это старуха или мужчина, я не обратил бы на молитву внимания: ребенком я ходил в воскресную школу и слышал их чертову пропасть. Но молитву читала девушка, и голос ее звенел.
В этом голосе была искренность. Он звучал, как флейта, которая вместо нот наигрывает слова. Читала она нараспев.
Словно она за меня молилась, и молитва была похожа на стихи:
Господи всеблагой,
Милосердный Христос,
Свой пресветлый лик Не отринь от нас.
Господи, с престола воззри твоего,
Господи, яви нам милость твою.
Спаситель, даруй исцеление души
Недостойным рабам своим.
Господи, спаси и помилуй нас,
Помилуй наш грешный мир,
Не оставь молодые души,
Ввергнутые в пучину греха.
Боже, единый и милостивый,
Услышь моление мое,
Исполни меня духом твоим
Человеческого ради спасения
И сподобь хоть одну душу грешную
Обратить ко вере святой Аминь!
Они спели еще один гимн, и какой-то мужчина прочел короткую молитву, но я слышал только голос девушки, звучавший, как флейта. А потом они стали расходиться. Я весь дрожал – слишком много было переживаний для одного вечера – и не затесался вовремя в толпу, пока они разговаривали, К тому же я хотел увидеть эту девушку. Мимо меня прошли десятка два людей, а она все не показывалась. Я уже решил уйти – правда, дверь церкви была открыта, и я слышал чей-то голос, но приходилось рисковать.
Я спустился с лестницы. Но тут из двери вышел старик, обнимая за плечи девушку.
– Давно уж не было такой удачной службы, как сегодня, Дороти, – сказал он. Потом поднял глаза и увидел меня. Надо отдать ему справедливость – он не рассердился и не стал орать.
– Здравствуй, брат, – обратился он ко мне. В первый раз в жизни меня назвали братом, и я не знал, что отвечать.
– Здравствуйте, мистер, – сказал я.
– Это мой папа, пастор Джонсон, – сказала девушка.
– Очень приятно, – сказал я.
Теперь я по крайней мере знал ее имя и фамилию – Дороти Джонсон; но я чувствовал, что пройдет немало времени, прежде чем я решусь взглянуть ей прямо в лицо, да и вообще неизвестно, решусь ли. Когда я теперь думаю о ней, то не могу вспомнить, как она была одета, – кажется, в бумажное зеленоватое платье с поясом. Но это не имело никакого значения, точно так же как ее рост, фигура, лицо. Немного, правда? Я хочу сказать – немного для того, чтобы сохранить в памяти на долгие годы, может быть, на целых шестьдесят или семьдесят лет. Светлые волосы, серые глаза, не накрашенная, одета просто – я хочу сказать, ей незачем было украшать себя, во всяком случае для меня. Другое дело – ее голос и вера.
Клянусь, никогда в жизни я не встречал такой девушки. И такого человека, как ее старик: высокий, худой, лысый, с добрым лицом и острыми глазами.
– Ничего не бойся, – сказал пастор. – Не прячься в темноте. Всегда иди прямым путем к спасению. Смело прыгай через пропасть, если на другой стороне ее обитель благодати.
Потупившись, я сказал:
– Ну что ж… спасибо.
– Закрой дверь, Дороти, – сказал пастор. – Надеюсь, молодой человек выпьет с нами чашку чаю.
– Нет, спасибо, мне нужно идти.
– Чайник закипит через минуту.
– Останьтесь, выпейте чаю, – сказала Дороти, закрывая дверь.
– Мне нужно домой, – сказал я. – Моя стару… моя мама ждет меня. Уже поздно.
– Но ведь если вы скажете, что были в церкви, она не будет вас ругать, правда?
Ну что на это возразишь? Дороти зажгла свет и убежала, а старый пастор пропустил меня вперед, и не успел я оглянуться, как уже сидел за столом, накрытым белой скатертью.
Никогда не видел такой простой комнаты и такой простой еды, но больше всего меня поразило, что мне были рады. Разговаривая с этим милым стариком, я старался повернуться так, чтобы они не видели мое плечо. Но они, наверно, заметили кровь у меня на пиджаке, хоть и не показали виду.
– Вы где-нибудь работаете? – спросил пастор.
– Работаю на стройке. Мы кладем трубы, но это далеко отсюда, в другом конце города.
– Чтобы заработать себе на хлеб, я перепробовал все профессии на свете, – сказал он. – В молодости я сильный был – работал все больше на строительствах, пока бог не призвал меня в свои служители.
– Папа строил небоскребы в Америке, – сказала Дороти.
– Я бы побоялся!
– Ну, я об этом и не думал, – сказал пастор. – Я тогда был молодой, крепко стоял на ногах и не верил, что могу упасть, взбирался на высоту в сотни футов по узкой стальной лесенке, а земля внизу лежала, как муравейник. Но у меня была вера – не в бога, заметьте, а в свое собственное тело, я не допускал и мысли, что могу упасть или хотя бы поскользнуться. Да, уверен был, что со мной ничего не случится. И даже когда шестеро славных ребят, крикнуть не успев, полетели со страшной высоты, я не понял… Словом, это меня не потрясло. Иногда я вспоминаю об этом и прошу бога простить мою языческую глупость.
– На дерево я залезу не хуже других, – сказал я. – Но так высоко не решусь.
– Значит, вас легче спасти, чем меня, – сказал пастор. – Все строители – и особенно строители небоскребов – блуждают во мраке. Какая самонадеянность! Это можно понять, только когда увидишь таких людей, какими были мы.
– А вы давно работаете? – спросила Дороти.
– Года два, – сказал я. – Но мне уже приходилось во многих местах работать.
– С тех пор как школу кончили? – Я кивнул. – Тогда мы, наверное, ровесники.
Я не мог этому поверить – она, моя ровесница, может закрывать глаза и молиться, а я никогда и не думал о боге, не говоря уж о том, чтоб молиться ему.
– Да, вы с ней ровесники, – сказал пастор. – Надо бы вам познакомиться получше.
– Но я, право, не знаю…
– Приходите в церковь, по воскресеньям и средам – служба, по четвергам – чтение библии.
– Но я другой веры.
– Это неважно, все равно приходите. А то – милости прошу в понедельник или во вторник, сыграем в шашки. Вы играете в шашки? Вот и отлично, у меня давно уже нет хорошего партнера.
– Папа – любитель шашек, – сказала Дороти. – А вы какого вероисповедания?
– Сам толком не знаю – ходил в воскресную школу, и мне это надоело до смерти.
– А наша религия не надоест, – сказала Дороти.
Я чувствовал, что меня опутывают какой-то сетью, и встал:
– Простите, но мне пора.
– Смотрите же не забывайте нас, – сказал пастор. – Дороти, проводи его.
У двери она сказала:
– Приходите завтра слушать проповедь.
– Религия – это скучища. Сегодня мне в первый раз не было скучно, когда вы молитву читали.
Значит, господь избрал меня своим орудием, – сказала она. – Вы ощущали когда-нибудь прикосновение бога, Артур?
И она коснулась моей руки.
– Так – никогда, – сказал я. – Ни разу я этого не чувствовал и вообще ничего не чувствовал. От гимнов и всего остального меня в сон клонит.
– Приходите ради меня, – сказала она. – Завтра вечером. Пожалуйста.
– Скажут, что я с ума сошел.
– То же самое говорили и про апостолов – сошли с ума от молодого вина. Но разве вам не все равно, что люди о вас думают?
– Я сам себе хозяин, ни на кого не оглядываюсь.
– Но не настолько хозяин, чтобы послушаться своего сердца!
– Вы хотите меня принудить!
– Нет, убедить. Папа говорит: никогда не вколачивай религию людям в голову. Когда говоришь с ними об истинной вере, они робеют, тут уж ничего не поделаешь, но принуждать никого нельзя.
– А вы вот принуждаете!
– Нет, только направляю.
Но по пути домой я понял, что все это не так-то просто. Если они и не вколачивали в меня свою веру, то подталкивали к ней – дело ясное. И я уперся. Может, они желали мне добра. Но я не мог этого принять. Коснись бог или там Иисус Христос меня так, как она коснулась моей руки, ну, тогда я, может быть, и поддамся. Но даже тогда все будет совсем не так. По-моему, религия – я говорю про настоящую религию – это тайна. Ходит человек, с виду такой же, как все, и помалкивает: никаких гимнов, никаких молитв, никакой раздачи бутербродов на улице – словно ты на секретной службе. Повинуешься приказам, но без шума, и когда делаешь кому добро, то незаметно, а если человек, скажем, проштрафился на работе, то религия его выручает.
К тому же у меня язык не повернулся бы сказать моей старухе, что я «спасен». Никогда в жизни.
Я сгорел бы со стыда. Пришлось бы ей самой допытываться, разузнавать, и, может, она постепенно привыкла бы к этому и гордилась. Но она тоже в жизни не сказала бы мне, что знает про это.
Будь я действительно религиозен, она тоже стала бы религиозной и поступила бы точно так же, как я, и в один прекрасный день я заметил бы это за ней, как она за мной. Я не говорю, что так должно быть у всех. Я хочу только сказать, что знаю множество людей, которые на каждом углу кричат о своей вере, и ничего хорошего в этом нет. Зачем им это? Может быть, они стараются убедить самих себя? Религия – это таинство, и чем меньше о нем говорить, тем больше надежды, что оно свершится. Бог был распят на кресте не для того, чтобы всякие дураки этим бахвалились.








