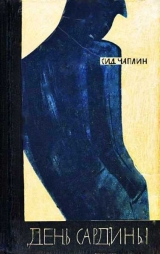
Текст книги "День сардины"
Автор книги: Сид Чаплин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
3
Итак, я снова вернулся к своему детству, или, верней, к тому времени, когда едва начал выходить из детского возраста, и теперь меня окружала тьма еще гуще той, сквозь которую я вглядывался с моста. Всю эту зиму я проболтался впустую. Иногда проводил время с ребятами, иногда с Дороти и пастором. Носарь увлекся Терезой, и то ли ему было некогда, то ли не до того, но он больше не выдумывал отчаянных проделок, без которых ребята жить не могут. Келли со своими дружками тоже выбыл из игры, их связал по рукам и ногам молодежный клуб, открытый новым приходским священником, который вздумал заполнять их досуг диспутами, настольным теннисом, граммофонной музыкой и ирландскими народными танцами. Некоторые даже купили юбки в рассрочку. Я как-то не мог представить себе долговязого Мика в юбке и с голыми шишковатыми коленками, но говорили, что он так разгуливает.
Наша компания разваливалась, потому что не с кем стало драться, не было главаря, и ребят одолевала скука, но меня это не огорчало. Я был сыт по горло игрой в ковбоев и индейцев. Ходил как неприкаянный, мечтая о девушке и раздумывая, как вылезти из неприятностей на работе. Каждое утро я вскакивал с постели с таким чувством, будто попал в западню. День проходил за днем, и смена всегда тянулась мучительно долго, а вечер пролетал незаметно. Дело двигалось, и наш строительный участок все больше и больше походил на болото; я был в такой тоске, словно все время шел дождь. Мы работали ярдах в двухстах от реки, и меня охватывала печаль всякий раз, как я видел катер или большой, таинственный танкер, тихо скользивший по воде. Может, эти танкеры курсировали только между нефтеочистительным заводом на юге и нашей речкой. Но всякий раз, как я их видел, я думал о Персии и о жарком солнце. Иногда какой-нибудь бездельник на борту махал мне рукой, и у меня сжималось сердце.
Говорят, всюду в мире одно и то же, а кое-где и похуже, чем у нас; но я хотел бы, чтобы каждый мог сам в этом убедиться. А то у нас есть только телевизор или кино. Да еще приходится зарабатывать свой хлеб на этом вонючем участке под началом у жуликов вроде дяди Джорджа и Сэма Спроггета, которые норовят нажиться на том, что режут ягнят и стригут овец. А от этого совсем тошно становится.
Так что все это просто-напросто вонючая западня.
Тем временем шла оживленная переписка. Моего старика судили за двоеженство, и он получил суровый нагоняй от судьи, зато приговор был самый мягкий. Моя старуха с Гарри ходили к адвокату, и он им сказал, что дело о разводе пойдет как по маслу. Так что они тоже были заняты. Я все думал о своем старике, каково ему там за решеткой. Настроение у меня для этого было самое подходящее. Моя старуха раза два с ним виделась – один раз на суде, когда давала показания, а потом в тюрьме, куда пошла к нему вместе с его второй женой, – и оба раза он был веселехонек, шутил, как мясник, распродавший в субботу весь товар. Сказал, что читает, пополняет образование и что обходятся с ним хорошо. Моя старуха переписывалась с его женой каждый месяц. Бог её знает зачем.
Все были довольны. И Гарри с моей старухой и Носарь всякий раз, когда со мной разговаривали, словно прерывали какое-то увлекательное путешествие. Это ужасно неприятно – будто чуешь запах воскресного обеда и знаешь, что тебе ничего не достанется. А виноват сам. Мне могло быть не хуже, чем им, но я продолжал считать Дороти библейской праведницей. Всякий раз, как я касался ее, мне вспоминался тот первый вечер, когда я услышал ее голос, и я гнал от себя всякую мысль об обычных отношениях между юношей и девушкой.
А потом все полетело к чертям.
Однажды вечером, когда мы были в «Риджент», в бильярдную вошел Носарь. Я о первого взгляда почувствовал неладное.
– Что-нибудь случилось? – спросил я.
– Нет еще.
Я почувствовал, что он не расположен разговаривать, и весь вечер мы молчали. Сгоняли партию. Он все время курил, злобно тыкал кием, будто хотел вспороть сукно, и проиграл мне под сухую. Видно было, что он во всех смыслах сыграл под сухую. Я угостил его лимонной настойкой.
– Что с тобой, Носарь?
– Мик ее избил. И грозился еще побить, если она будет со мной встречаться.
– Удивляюсь, как он раньше ее не трогал.
– Я его убью! – сказал он. – Возьму у нашего малого револьвер и пристрелю его.
– У кого?
– У Краба.
– Этого только не хватало.
– С револьвером или без, а я с ним сочтусь, – сказал Носарь.
– И думать забудь. Да скажи своему брату, чтоб он от этой игрушки избавился – от них одни несчастья.
– Ладно, кончай каркать, – сказал он. – Только и умеешь учить. А чтобы помочь, как настоящий друг, так ты и пальцем не шевельнешь. И остальные тоже. Да вы жить и то боитесь!
Удивительное это дело – видишь ловушку и все равно попадаешь в нее.
– Ты что, меня не знаешь? – сказал я.
– Ладно, старик, – сказал он. – Буду на тебя рассчитывать. Когда я скажу, что надо потолковать с Миком и компанией, ты придешь. Договорились?
– Приду.
4
Говоря по правде, я боялся этого револьвера с той самой секунды, как услышал про него, и могу сказать почему. Вообще-то я не боялся оружия, оно мне, как и всем нам, с детства примелькалось. Пиратские пистолеты, из которых, казалось, стреляют, не заряжая, шестизарядные наганы, появляющиеся неизвестно откуда, как по волшебству; крупнокалиберные револьверы; блестящие автоматы и пистолеты с глушителями или без них; пистолеты-пулеметы, карабины, мушкеты, автоматические винтовки. Они казались такими же знакомыми, как ножи и вилки, хотя мы никогда не держали их в руках. Не считая кино, вблизи мы видели иногда ружья у охранников в поезде или у солдат на параде. Правда, один раз я увидел револьвер поближе. Летом мы со стариком Джорджем помогали маркировщикам на участке, и вдруг Джордж подобрал с земли пакет, завернутый в замшу и перевязанный ботиночным шнурком отличным шнурком, шиллинг пара. Джордж держал пакет осторожно, будто расплескать боялся. Наверно, он уже на ощупь почувствовал, что это. Помню, как он тихонько развязал шнурок и развернул замшу. А маркировщик тем временем орал:
– Эй, куда этот сукин сын запропастился? Где вы оба?
Он не видел нас, потому что мы стояли в низине, заросшей высокими кустами с клейкими почками. В пакете оказался пистолет военного образца, еще со следами смазки на рукоятке, красивый, весь блестящий, и, когда Джордж нажал на ствол, он легко переломился. Внутри был один патрон.
– Дайте поглядеть!
Джордж протянул мне пистолет. Он оказался тяжелее, чем я ожидал. Я заткнул его за пояс, потом снова вытащил и прицелился. Это все враки, будто из него можно навскидку стрелять, – очень уж он руку оттягивает. Если бы я спустил курок, то отстрелил бы Джорджу большой палец на ноге.
– Интересно, как он сюда попал? – спросил я. – Что за чудак его бросил?
– Если не ошибаюсь, из этого пистолета троих убили, – сказал Джордж, помолчав. – Давай-ка его сюда.
Упрашивать меня не пришлось.
– А кто убил?
– Это случилось лет пять или шесть назад, – сказал Джордж. – Была убита вся семья: жена, ребенок и муж.
– А кто это сделал? И зачем?
– Один болван хотел, чтоб жена убежала с ним. Она отказалась. Тогда он пришел и убил их; ребенок в это время сидел и сосал палец.
– А сам убежал?
– За ним гнались, и он даже не успел пустить в себя последнюю пулю или, может, просто передумал.
– Его поймали?
– Да, поймали и повесили, – сказал Джордж. – Но пистолета не нашли.
– Пожалуй, лучше отнести его в полицию.
– Не стоит, хлопот не оберешься, – сказал Джордж.
Он повернулся и крикнул маркировщику:
– Да заткнись ты бога ради!
Потом спустился к реке, держа в одной руке пистолет, а в другой – патрон. А когда он вернулся, маркировщик уже прибежал и крыл меня на все корки.
– Ну, кончил камешки в воду бросать? – спросил он Джорджа.
– Кончил, – ответил Джордж. – А вы всегда запираете дверь, когда глядите телевизор?
Нэтч, маркировщик, подумал, что он спятил, но я, кроме шуток, накрепко это запомнил. И теперь, когда я, случайно заглянув в окно, вижу картинку мирной семейной жизни, я всегда вспоминаю о том, что может натворить револьвер.
5
Но так или иначе я сдержал слово, которое дал Носарю, и пришел на драку. Она не была похожа на другие драки, такого я никогда больше не видел. И с этого началось нагромождение событий, которые чуть не раздавили меня. Прошло порядочно времени после нашего разговора с Носарем. Наступило рождество, потом новый год, а я по-прежнему вел двойную жизнь и ждал весны; уже приближалась страстная пятница, в которую все и началось. Когда я говорю «двойная жизнь», я не имею в виду ничего плохого. Я решительно порвал со Стеллой, но все еще ходил раза два в неделю в миссию к Дороти, а остальные вечера проводил с ребятами. Мне было нелегко, потому что я обращался с Дороти, как с фарфоровой куклой, и меня смущало ее поведение: то она так и заливалась веселым смехом, то бывала холодна, как замороженный коктейль, только без вишенки.
Но если сравнивать с Носарем, у меня все шло гладко и легко. Я по крайней мере мог видеться со своей девушкой, и относились ко мне хорошо. В сущности, неприятно было только одно – моя старуха и Жилец вбили себе в голову, что я по всем статьям юный влюбленный и вот-вот женюсь, а мне невыносимо было слышать всякие намеки, ведь я относился к ней как брат. А вот бедняга Носарь угодил прямо в чистилище. Побои, уговоры и религиозные соображения сделали свое дело, Тереза отвернулась от него, и вот теперь он каждый день виделся с ней на фабрике, касался ее, беря с машины коробки, а она его не замечала или по крайней мере делала вид, что не замечает.
Кроме того, он беспокоился из-за Краба и в особенности из-за револьвера. Дело в том, что револьвер исчез неизвестно куда, а Краб вконец дошел из-за этих самых денег. Носарь измучился, потому что Краб причал во сне, пьянствовал и творил черт знает что.
– Он убьет эту бабу, – сказал Носарь. – Вот увидишь, он ее пристрелит.
– Но ведь револьвера нет, – возражал я.
– Он его припрятал до времени.
– Уж скорее загнал кому-нибудь из приятелей.
– Не такие они дураки, чтобы возиться с револьвером, пускай даже незаряженным.
Я вспомнил старика Джорджа и револьвер, из которого были совершены три убийства.
– Может, он струсил и швырнул его в реку? – сказал я.
– Ну нет, шалишь. Краб не струсит.
Мы кончили этот разговор, но каждый день возвращались к нему, кроме тех редких случаев, когда накануне успевали выговориться. И разговоры все шли вроде:
– Как думаешь, есть смысл мне пойти и поговорить с ней?
– Никакого.
– Все-таки она женщина.
– Она вся ломаная. И мужиков ненавидит. Ей только одно нужно – мстить им.
– Но, может, если я пойду и расскажу ей, что с ним творится…
– Тогда она, чего доброго, предложит деньги тебе.
– Смеешься? – Но я только посмотрел на него, и он, помолчав, сказал: – Да, пожалуй, с нее станется, и тогда уж я ее убью, будь спокоен.
– Больно легко ты говоришь про убийство, Носарь, – сказал я.
– Таким уж родился. И воспитывали так. Всякий, у кого есть гордость, может убить.
– Ты не знаешь, что это значит – убить.
– А ты убил кого-нибудь?
– Нет, никого я не убивал, разве что в воображении, но все равно я понимаю, каково это.
– А я никогда не мог этого вообразить, – сказал он.
– Даже когда долговязый Мик нож вытащил?
Он подумал с минуту и покачал головой.
– Даже тогда, но еще минута, и я этот нож всадил бы в него.
– Тебе пришлось бы пожалеть.
– А ты почем знаешь?
– У меня есть воображение.
– А у меня сроду такой штуки не было, – сказал он. – Выходит, я хуже других? И на что оно нужно, это воображение?
– Можно все себе представить, – сказал я. – Нож, кровь, труп, суд, веревку на шее.
Он медленно кивнул, но в глазах у него было недоумение.
– Понятно, – сказал он. – Но я этого не вижу. А ты, значит, можешь увидеть, как это происходит?
– Да, со мной или с другим.
– И с другим? – Я кивнул. – А я, брат, не забиваю себе голову такой мурой, – похвастался он. – Если человек чего-нибудь стоит, он должен делать то, что нужно, иначе беда.
– Вот именно – беда, – сказал я. – Думать, как ты, да и Краб тоже, – это верный способ попасть в беду.
– Он поможет мне выпутаться, – сказал Носарь. – Или я ему…
Ну что поделаешь с таким человеком? Ничего – ровным счетом. Мне бы держаться от него подальше. Но не тут-то было. Когда пришло время, он меня уговорил. Я ехал домой с работы и увидел его на нашем перекрестке. Шел дождь, он сидел на корточках, прикрыв голову старым плащом, и смотрел, как течет вода в канаве. В эту минуту он был похож на старую цыганку, которая вот-вот протянет ноги, и мне до жути было его жалко, гораздо сильнее, чем потом, при другой встрече, когда ему предстояло пережить самую долгую ночь в его жизни и он хотел остановить время.
– Решил здесь ночевать, старик?
– Боялся, тебя прозеваю, – дело есть.
– Пойдем к нам, – сказал я.
– Нет, дельце слишком горячее. Твоя старуха от него вспыхнет даже через стенку.
– Ну ладно, тогда прыгай на багажник, отвезу тебя в тихое местечко, – сказал я ему.
И мы поехали к одному из разрушенных старых домов. Там так воняло, что пришлось все время курить.
– Ну, выкладывай, – сказал я.
Лицо у него было мокрое от дождя, глаза вытаращены.
– Она сегодня мне все сказала, старик. Тереза. Я подошел к ней, как обычно, когда дали гудок, надеялся, что она со мной заговорит, и она вправду заговорила.
– Выходит, все по новой закрутилось?
– Нет, покамест еще нет, но, может, и закрутится… Она сказала, чтоб я перестал на нее глазеть и ходить за ней хвостом, потому что у нее из-за меня и так довольно неприятностей, а я сказал, что я тут ни при чем. И тогда, брат, она мне выдала. «Да, – говорит, – тебе хорошо, а меня они поедом едят, моя старуха, и старик, и Мик; пристали с ножом к горлу, я и обещала».
– Значит, решено и подписано.
– Обожди. Потом она говорит: если хочешь быть со мной, заткни ему глотку, вместо того чтобы от него бегать, а я говорю: я только оттого бегал, что он твой брат, скажи одно слово, и он у меня получит.
– А она что?
– Она говорит: «Ладно, увидим, на что ты способен. Но это еще не все. Ради меня тебе надо обратиться…» В ее веру, значит. Я тогда говорю, что это не шутка, а она говорит, иначе ничего не выйдет, потому что она-то готова гореть из-за меня в аду, но дети как же? Ну, под конец я обещал.
– И ты вправду согласен?
Он подмигнул.
– Посмотрим, когда до дела дойдет.
– Ты сумасшедший, если обещал обратиться в другую веру из-за девчонки и еще вздумал жениться в твоем-то возрасте. Да она тебя просто-напросто на крючок подцепила!
– В общем такие дела, – сказал он. – Согласен ты мне помочь?
– Ради всех святых скажи, в чем?
– Его просят помочь, а он задает вопросы.
– Это не шутка. В чем помочь?
– Хочу его проучить сегодня вечером. Вот что я придумал: у них в церковном клубе танцы, и он будет там. Придем в пол-одиннадцатого, когда клуб закроется. Ну, они там еще недолго будут ошиваться. А когда Мик спустится по лестнице к пристани, с ним будет только один…
– Это – для меня?
– Люблю иметь дело с умным человеком. Возьмешь его на себя, а я займусь Миком. Никаких железяк или чего еще – и увидишь, как я его отделаю.
– А что тебе проку от этого?
– Заставлю его в переговоры вступить.
– Слушай ты, людоед, – сказал я. – Тебе только одно и нужно сделать – сказать ему, что ты согласен ради нее переменить веру, и ты будешь танцевать в церковном клубе, ходить к ним домой и пить чай.
Он покачал головой.
– Не подходит по двум причинам. Первое: он такой дуб, что его надо обработать как следует, чтоб Он стал уступчивей. Второе: он побил Терезу и грозил мне ножом.
– Но сегодня вечером я занят.
– Так я и поверил, что ты не можешь уйти с проповеди в десять часов. Скажи прямо, что не хочешь.
– Она меня ко всем чертям пошлет, если узнает.
Он встал и хотел уйти. Когда-то я ему правильно сказал: мне следовало бы проверить мозги.
– А этот второй, он какой из себя? Здоровый малый? – спросил я.
Так началась для меня веселенькая пасха.
X
1
Короче говоря, мы условились встретиться у пивной «Барбакан» в одиннадцатом часу. Мне еще пришлось выдержать бой: он хотел встретиться пораньше и выпить пива, а мне это вовсе не улыбалось. Я знал его характер и хотел сделать дело на трезвую голову. Конечно, я знал, что он все равно выпьет, и знал, что с характером его тоже ничего не поделаешь, но тем более считал, что по крайней мере я должен быть хладнокровен. Можете считать это чувством самосохранения. Во всяком случае, дело было именно так.
Пришла беда – отворяй ворота. Я вошел в миссию «Золотая чаша» с ощущением чистоты, свежести и уверенности, но через десять минут от всего этого и следа не осталось. Честное слово, я никогда не был согласен с ними насчет религии. Но куда денешься, порой какое-нибудь словцо тебя и зацепит. Я очень уважал пастора. Я чувствовал себя виноватым, что прихожу из-за его дочери, и он мне действительно нравился.
Редкой доброты был человек.
Еще в молодости он уехал из нашего города, долго скитался по свету и, наконец, попал в Лондон. Голодный и слишком гордый, чтобы просить милостыню, он бродил там как неприкаянный, а потом попал в «Колни-Хэтч», лондонскую свалку для психических. Не в самую больницу, конечно, а так, вертелся около нее. Потом он купил билет за пять фунтов и уехал в Канаду, а там батрачил года три на какого-то полоумного фермера, потом рубал уголь в западной Виргинии, где во время забастовки бог спас его от полиции, вызволил из шахты перед самым взрывом и спасал еще трижды. Под конец он попал в миссию Бронкса, где ему пришло в голову вернуться домой и начать самому проповедовать слово божие. Жена у него умерла. На его доходы не прокормиться и воробью, но он поет, как дрозд. Он родился добрым и сумел таким остаться.
В тот вечер он говорил в проповеди про святого Петра и попал не в бровь, а в глаз; всякий раз, как он смотрел на меня, у меня на душе кошки скребли, потому что я собирался бить ни в чем не повинного мальчишку; не Мика Келли, который, как бы его ни отделал Носарь, все равно заслужил еще больше, а того, который пойдет с ним домой и ничего плохого мне не сделал. Я не знал даже, как его зовут.
Если б я остался еще хоть на минуту, то уже не пошел бы никуда. Так что когда святой Петр стал греть руки у костра, я выбежал на улицу, а Дороти за мной.
– Куда это ты, Артур Хэггерстон?
– Мне надо повидаться с приятелем.
– Отчего ж ты раньше не сказал? Все удивились. И что подумает папа – ты ушел посреди проповеди!
– Мне очень жаль.
– Еще не поздно все исправить. Дело не только в проповеди – он мечтал сегодня сыграть с тобой в шашки.
– Мне очень жаль.
– Вот заладил одно и то же, придумал бы поновей что-нибудь. Ты даже не извинился.
Я молча посмотрел на нее.
– Глупый ты, глупый, – сказала она. – Скажи хоть, что это за приятель.
– Один из наших ребят, – пробормотал я.
– Тот, противный, которого ты приводил в прошлом году?
– Твой отец так не сказал бы.
– Ну, кто-то должен сказать тебе правду для твоего же блага.
– Он человек, у него тоже есть бессмертная душа.
– Я этого и не отрицаю. Но он делает все, чтобы ее погубить. Это сразу видно. Всякому видно, что он пропащий. Он плохо кончит и тебя втравит в беду. – Голос ее стал мягче. – Не ходи, Артур. Останься со мной. Мы не пойдем в церковь, будем гулять. Ведь тебе со мной приятнее, чем с ним, правда?
– Я дал слово.
– А если я тебя на коленях попрошу, тогда останешься? – Она подошла ко мне вплотную, взялась за отворот моего пальто и смотрела на меня широко открытыми умоляющими глазами. – Не откажешь мне?
– Ты же знаешь, Дороти, что я хотел бы остаться с тобой.
– Забудь про него.
– Я должен сдержать слово. Мне очень жаль.
Она положила голову мне на грудь. За дверью зазвучал гимн: «Веди меня, о великий Иегова, паломником по грешной земле…» Я поцеловал ее глаза. Она протяжно вздохнула: «О-о!» – и мои губы скользнули по ее щеке и губам.
Вы не поверите, но, если подумать, все было проще простого. Я был гангстер, сыщик, шериф, который должен идти на опасное дело. Но можно было повернуть это и по-другому. Мы в Старом городе привыкли держать слово, ничего не бояться и стоять за товарища. А кроме того, и это главное, меня тревожило, что будет с Носарем, если я не приду, что он мне потом скажет и каким трусом я прослыву, когда все про это узнают. В общем я отстранил ее и ушел. Глаза ее все еще были закрыты. Я даже не попрощался. Знал, что это конец. Если б она побежала за мной или хотя бы окликнула меня, я вернулся бы и избавился от многих несчастий. Но она этого не сделала.
Было половина девятого, у меня оставалось почти два часа, и я решил пройтись. Я пошел на восток. Было темно и холодно. У «Ново-Орлеанского джаз-клуба» я повернул на юг, и меня долго провожал дрожащий звук трубы, острый как нож, но я еще не совсем утратил вкус к жизни, и мне захотелось научиться играть на трубе, извлекать из нее чудесные звуки и избавиться от тоски. Ничто так не выражает тоску, как труба, а выразить тоску – значит от нее избавиться, это я точно знаю. Я спустился по склону, мимо миллиона темных окон и тысяч кошек, услышал пронзительные гудки угольных судов, требовавших, чтобы развели мост, и пошел к реке. Вода была густая и черная, как нефть. Я видел огромную дугу моста и машины, мчавшиеся по нему с бешеной скоростью. И хоть бы один несчастный огонек из многих тысяч мигнул мне. Я присел на какую-то лебедку и стал смотреть на реку. Не знаю, сколько я так просидел. Мимо проплывали бревна, я насчитал их тридцать восемь. А потом, тихо покачиваясь, проплыла пятнистая собака с раскинутыми лапами.
И вдруг мне представилось, что я сам был этой старой пятнистой собакой, когда она была еще живая, конечно. И меня бросили за борт. Сначала я был маленьким человечком, который метался в ее черепе. Над головой у меня что-то светилось – ярко, как лампы дневного света в метро, а пониже были два глаза-иллюминатора. Я несколько раз обежал эту каюту в ее черепе и чуть не задохнулся – вонь стояла такая, хоть ножом режь, и запах был какой-то незнакомый. Потом присел в углу и решил, что, раз я все равно здесь, надо привыкать, и помаленьку привык. Немного погодя мне даже начали нравиться некоторые запахи, и я стал принюхиваться. Потом прыгнул вверх, к свету, хотел посидеть у огня. Но это был не огонь. Это было что-то липкое, и я увяз, как муха, меня стало засасывать. Я смотрел сквозь иллюминаторы, а может, они смотрели сквозь меня, и я увидел нижние жердины загородок, обочины тротуаров, траву; а внизу, как конвейер, убегало назад гудроновое шоссе. Работая всеми четырьмя лапами, я мог то стронуть его с места, то остановить, заставить двигаться медленнее или все быстрей и быстрей. От глаз мне было мало толку, но нюх у меня был, а нюх вполне заменял глаза. Я учуял цыплят, прыгнул, и сразу полетели перья; но это была только забава, и я сразу бросил ее, как только показались ботинки и манжеты на брюках. И тут я научился вилять хвостом, а ботинок пнул меня.
В воде была тьма тьмущая. Я не мог пошевельнуться. Вода была всюду – снаружи и внутри. Запахи исчезли, свет гас, меркнул с каждой секундой. Все мягкое вокруг меня стало черным и твердым, как камень. И меня свела последняя судорога, я весь изогнулся, раскинул лапы. Вода хлынула в меня, я задыхался, и не было радио, чтобы позвать на помощь. Для собак нет царствия небесного, а по реке долго плыть до моря. Начинался прилив. Тьфу, наваждение! Наконец-то оно кончилось, и я, выдернув жердь из загородки, оттолкнул пятнистую собаку подальше от берега; она поплыла, и хвост ее раскачивался на воде…
Я еле дождался четверти одиннадцатого. А потом часы бешено завертелись, словно время, как пятнистая собака, припустилось бегом на всех четырех лапах. У «Барбакана» нам делать было нечего, мы сразу ушли и спрятались в развалинах старого дома, на лестнице, футах в пяти над землей.
– Надеюсь, они не пойдут другой дорогой, – сказал Носарь. Он был весь желтый, и от него разило пивом.
– Значит, засада?
– Можешь назвать это нечаянной встречей. Только разговор у нас будет короткий, мы им с ходу вложим ума.
– Думаешь, ты с ним справишься?
– Обо мне не беспокойся, я все обмозговал.
– А вдруг у него нож?
– На танцы он с ножом не ходит.
– А у тебя правда ничего нет?
Он щелкнул языком.
– Слушай, друг, положись на меня. Сказал я тебе, не будет никакого железа, ты что, хочешь обыскать меня с магнитом?
– Ладно, верю на слово.
Наверху, у лестницы, послышались голоса и смех.
– Глянь по-тихому из-за угла, надо убедиться, что их только двое, – сказал он.
Один был длинный – Мик, а второй пониже, этого я должен был взять на себя. Он насвистывал какой-то мотив и бодренько скакал по лестнице. У него были крепкие ноги, как у прирожденного боксера, и свистел он чисто, звонко и очень правильно.
– Двое. – Обернувшись, я увидел, как он что-то быстро спрятал за спину. – Ты же обещал, что железа не будет!
– Заткни трубу!
– А я, дурак, поверил…
– Вот чего: или не вякай, или беги отсюда.
Я твердо решил, что не дам ему пустить в ход эту железяку. Довольно он мне мозги вкручивал. Мик и его приятель были теперь почти под нами, я схватил Носаря за руку. Но вырвать эту холодную штуку я не мог: она была словно приварена к его пальцам.
– Пусти, сволота! – прошипел он и схватил меня за горло. Я оторвал его руку и стал выкручивать – в тот миг я хотел только одного: сломать эту руку, причинить ему боль. Он выронил железяку. Она стукнулась о лестницу и покатилась вниз по ступеням. Мы замерли. Стук был очень громкий. Свист оборвался. Тот, второй, вскрикнул:
– Кто это?
Носарь корчился рядом со мной. Это его смех так разбирал.
– Кошки, наверно, – сказал Мик.
– Пускай пройдут, – шепнул мне Носарь.
Второй снова засвистел, но как-то неуверенно. Почуял неладное. Их длинные тени плясали по земле; вот они поравнялись с нами.
– Пора! – шепнул Носарь и прыгнул.
Но, видно, неудачно прыгнул – я услышал стон; потом он сказал, что напоролся на локоть Мика. Второй сразу присел, как боксер, приготовился защищаться, а про Мика и думать забыл.
Я спрыгнул на землю и сказал ему:
– Беги! – Он побледнел. «Ну, с этим справиться – раз плюнуть», – подумал я и толкнул его: – Жми по-быстрому!
Он отпрыгнул и ударил меня правой в грудь, чуть с копыт не сбил, а потом врезал левой.
Я услышал крик Носаря:
– Артур, выручай!
Но мне было не до него: этот малый молотил меня за милую душу. Надо правду сказать, боксер он был хороший, но очень уж увлекся, оступился и – хлоп! – полетел вниз. Шмякнулся он крепко, и я решил, что с него хватит. Носарь стоял на коленях, схватившись за живот, и голова у него поникла, как увядающая лилия, только не хватало ему воздуха, а не воды. Я сразу понял: главное – не дать Мику снова ударить его ногой, но побоялся отвернуться – а вдруг он у меня за спиной нож вытащит. И тут я наступил на кастет. Я поднял его и надел, – он был мне точно по руке, – и увидел, что Мик уже занес ногу. Я перехватил ее левой рукой, выпрямился и въехал ему в челюсть. И до чего ж это было приятно – никогда не забуду. Чистая работа – даже звон пошел, как будто битой по мячу ударили, и этот тип сразу с копыт сковырнулся. Рухнул, как старая печная труба. И вдруг мне страшно стало, я сразу весь сник. Он лежал, как мешок с картошкой, и перевернуть его у меня силенок не хватило. Я взял его за руку и попробовал нащупать пульс. А тот, второй, смотрел на меня снизу.
– Суки, так вас и так!.. – крикнул он. – Вы его убили!..
– Ни хрена ему не сделалось, – услышал я свой голос. – Пошли, Носарь. Надо рвать когти.
– Все равно я вас запомнил, – сказал он.
Носарь встал, все еще держась за живот.
– Поговори еще, – сказал он. – Пикни только, душу выну!
Видя, что нас теперь двое против одного, тот малый заткнулся. Но я знал, что молчать он не станет. И боялся, как бы Носарь еще какой-нибудь номер не выкинул.
– Идем, – сказал я.
Но прежде чем мы дошли доверху, тот, второй, как дунет вниз по лестнице. Мы тоже – только в другую сторону. Даже на шоссе, где было полно машин, мы не остановились, нам в тот вечер казалось, что мы сами любую машину сшибить можем. Две машины резко свернули, может, чтоб нас не задавить, а может, потому, что это, наверно, было дикое зрелище: Носарь бежал, скрючившись и держась за живот, как обезьяна, наряженная в костюм, и корчил гримасы от боли. Далеко за Венецианской лестницей мы остановились и пролезли через дыру в заборе. Он хотел сразу же сесть, но я ему не позволил – не забыл, как тот, второй, припустил вниз, и знал, что скоро все они сюда сбегутся. Мы дошли до пристани, еле держась на ногах. Я остановился только у старых складов, за которыми нас не было видно ни с одной из береговых дорог.
Носарь лег животом на холодные камни и лежал так, покуда не пришел в себя. Я, нахмурясь, смотрел на него.
– Есть вещи похуже ножа, – сказал я.
Он повернулся на бок.
– Поэтому я и взял кастет.
– Но ведь ты обещал!
– Хорош бы ты был без него. – И он снова начал смеяться. – Ну, брат, еще неизвестно, кого этот удар больше порадовал, тебя или меня. Слышу треск, поднимаю голову и… Эх, видел бы ты себя!
– А у него ножа не было, – сказал я, не слушая его.
– Ох, умора! – хохотал он. – Посвети-ка спичкой старик, руки саднит. – Обе руки у него распухли и почернели. – Жалеет небось теперь, что кованых ботинок не надел, – сказал Носарь. – Переломал бы мне косточки.
Спичка погасла, но странное дело – я успел заметить, что он больше смотрел на меня, чем на свои руки, – хороший генерал всегда прежде всего думает о солдатах.
– Чего ты смеешься?
– Священник у них все железяки поотбирал; на что хошь спорю. Мик теперь их назад попросит.
Я промолчал. Вон как все обернулось – теперь, если с Миком что случится, мне отвечать.
– Кончай, – сказал он. – Чего сидишь, как памятник?
– Думаю, какой ты гад…
– Потому что я тебя надул? Так ты же знаешь, как я в тебя верю. Конечно, мог бы позвать Хоула или Малыша, а вот позвал тебя – хотел в лучшем виде все провернуть. И провернул благодаря тебе.
– Нужна мне твоя благодарность, – сказал я. – Купил ты меня в лучшем виде, вот что… Дураку ясно – Тереза вовсе и не просила тебя его бить.
– Верно, я тебя и здесь купил. – Он перестал смеяться. Я затронул его больное место и знал это.
– Ладно, – сказал я. – Нечего теперь и толковать, но я ведь мог в тюрьму загреметь, так что не мешало мне знать все, как есть.
Он все не вставал с земли. А я разозлился не на шутку, вскочил и давай на него орать.
– Ладно, – сказал он. – Тогда знай, Тереза влипла. Сейчас уже три месяца…
– Дурак, бестолочь! – сказал я. – Поможет ей драка с Миком? Возьми да женись на ней!








