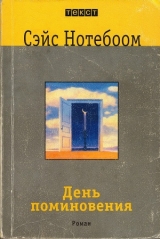
Текст книги "День поминовения"
Автор книги: Сэйс Нотебоом
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)
Он взбежал вверх по лестнице, взял камеру и снова ушел. Через полчаса вышел из метро на Потсдамер – платц. Именно сюда привел его Виктор после первого знакомства, здесь преподал ему первый урок о Берлине. Тот, кто видел город разделенным надвое, уже не способен этого забыть. Не способен забыть, не способен описать, не способен по-настоящему рассказать другим. Но сейчас Артур был здесь один, на охоте – в поисках чего? Чего-то, что тогда, давно, он видел своими глазами, но чего никогда больше не увидит. Или может быть, того, что было раньше, что было знакомо ему только по фотографиям? Он знал, какая картина открылась бы его взору, не будь здесь снега: со всех сторон развороченная земля, а в глубине котлована трудятся рабочие в желтых шлемах, словно ищут там прошлое. Бульдозеры, разъезжающие туда-сюда, как в научно-фантастических фильмах, скрежет металла по грунту.
– Словно вскрывают братскую могилу.
Это Эрна. Он сразу же привел ее сюда, когда она приехала к нему в гости. Так полагалось всем паломникам. Действительно, ее слова были похожи на правду, только вот трупов тут не найдут. И все же эти земляные работы, машины, скребущие твердую землю широкими железными зубьями: невольно возникала мысль о том, что они что-то ищут, а что тут можно искать, кроме все того же прошлого, которое, разумеется, невозможно настичь, – разве что оно сохранилось здесь в виде материальной субстанции, которую можно потрогать и осторожно освободить от земли, ибо трудно поверить, что такое количество прошлого имеет вид обыкновенной почвы, камней, пыли. Где-то здесь находился гитлеровский бункер, а неподалеку – камеры пыток гестапо, но дело не в них, хоть эти элементы истории еще достаточно ощутимы. Нет, он искал что-то, что было здесь до и после того времени, а теперь исчезло вместе с остальным и никогда уже не покажется на свет, как бы глубоко мы ни копали.
Приближалась машина. Яркий луч фар уже высветил причудливые силуэты заснеженных бульдозеров и землеройных машин и кубистические поверхности, возникавшие при рытье котлована. Свет подчеркнул глубину ямы, на миг окрасил снежные стены почти в черный цвет, потом снова превратил их в светящийся экран, привел в движение это мертвенное, сыпучее покрывало, смешался с рассеянным светом лампочек на неподвижных подъемных кранах, освещавших стройку словно для того, чтобы ее охранять. Лишь когда автомобиль подъехал совсем близко, Артур увидел, что это белая с зеленым машина патрульной полиции. Синяя мигалка на крыше почему-то не работала. Жаль. Двое полицейских внутри машины, казалось, о чем-то совещались. Женщина пыталась в чем-то убедить мужчину, качавшего головой и пожимавшего плечами.
Женщина вышла из машины. Небрежно поднесла руку к зеленой фуражке, едва удерживавшейся, как показалось Артуру, на ее непослушных светлых волосах.
– И чем же вы тут заняты?
Слова прозвучали скорее упреком, чем вопросом. Уже во второй раз за сегодняшний день к нему обращалась женщина в униформе. Он приподнял, показывая ей, свою камеру.
– Да, я вижу, – сказала она. – Но вы открыли ворота на стройплощадку. А это запрещено, вон, написано крупными буквами. Вход на стройплощадку воспрещен.
Все было так, да не совсем. Он не открывал ворот, а пролез через щель между двумя металлическими створками. К тому же здесь всё всегда запрещено. Он ничего не ответил.
В северных странах редко можно встретить красивую женщину-полицейского. Но шутки были неуместны, и с этой женщиной тоже. Она смотрела на него с озабоченным и серьезным выражением, которое подчеркивалось почти театральной подсветкой. Он очень хотел бы заснять эти две фигуры: безымянный бродяга, сверкающий своим единственным глазом – линзой, и хранительница подземного царства. Было тихо-тихо, приглушенный шум мотора полицейской машины только подчеркивал тишину. Мужчина в машине не шевелился, наблюдая за ними.
– Но ведь уже почти темно.
Упрек уступил место жалобным ноткам. Они смотрели друг на друга через квадратики металлической сетки. Он не выключил камеру и снимал свою собеседницу камерой в опущенной руке. Ерунда какая-то.
– Для того, что я хочу заснять, в самый раз, во всяком случае, я надеюсь.
Темнота – это мой коронный номер, хотел он сказать, но промолчал. Она тоже хотела что-то сказать, но в это мгновенье резко и настойчиво заговорил ее радиотелефон: совсем другое существо мужского пола, жившее около ее левой груди. Полицейский в машине ответил на звонок и одновременно позвал ее. Так подзывают собаку, подумал Артур.
– Уходите отсюда, – сказала она опять обычным голосом, – здесь столько ям, это очень опасно.
Она бегом вернулась в машину, которая тут же тронулась с места задним ходом. Синяя мигалка немедленно загорелась. Женщина что-то еще крикнула Артуру из окна машины, но из-за сирены он не расслышал ее слов, к тому же последующие события произошли с такой скоростью, что он едва смог их заснять. Водительница слишком быстро рванула с места, и машину тут же закрутило юзом. Он успел увидеть, как она широко раскрыла рот и так, с раскрытым ртом, изо всех сил вращая руль, врезалась прямо в гигантскую снегоуборочную машину, выехавшую в этот момент из-за угла. После столкновения сирена какое – то время еще выла. Когда она смолкла, Артур услышал, что женщина странно, тихонько охает. Он подошел к месту происшествия. Полицейская машина наехала прямо на треугольный металлический выступ спереди снегоуборщика, который точно таран пробил ей корпус. Из-за удара фуражка и вправду слетела у женщины с головы и через разбитое лобовое стекло приземлилась на крышку мотора. Лицо было покрыто кровью, которая медленно капала на снег. Мужчина – полицейский вышел из машины, водитель снегоуборщика тоже спустился вниз из своей высоченной кабины.
– М-да, – сказал он, – но это не моя вина. Я же вообще не могу маневрировать.
Артур взял с капота фуражку. Женщина тихо постанывала.
– Я могу чем-нибудь помочь? – спросил он.
Полицейский посмотрел на него, потом на камеру, словно он был виновником происшествия.
– Нет, уходите. И никаких съемок!
Но теперь уже было слишком темно даже для Артура. Он услышал, что едет «скорая помощь». Три разные мигалки. Да еще и с музыкальным сопровождением. Город – это произведение искусства, и он, Артур, – его часть. Издали он видел, как женщину положили на носилки и задвинули в «скорую помощь». Полицейская машина могла ехать собственным ходом. Двое мужчин обменялись телефонами. Артур был единственным свидетелем, но в нем никто не нуждался.
Потом машины уехали. Внезапно стало тихо-тихо. Шум немногих автомобилей, доносившийся от Бранденбургских ворот, казался негромким темным шорохом – так стрекочет пленка до начала музыкальной записи.
«Но ведь уже почти темно», – сказала эта женщина. Еще несколько минут назад она стояла здесь и разговаривала с ним. Разумеется, она не поняла, что и зачем он снимает. Но именно тот, уже исчезнувший момент и был каким-то образом для него важен. Его волновало нечто, чего он не мог выразить словами, особенно в разговоре с другим человеком. Про себя он называл это «бесчувственностью мира», не сохраняющего никаких воспоминаний. Самое загадочное – то, что все в один голос отрицают этот факт. Пожалуй, ни в какие прежние времена не гибло, не умирало насильственной смертью столько людей, как в нашем веке. Но об этом никто ни с кем не разговаривает, потому что и так все знают. Пожалуй, убийства из-за угла, выстрелы в спину, изнасилование и обезглавливание, уничтожение десятков тысяч людей – это еще не самое ужасное, а самое ужасное – то, что о погибших сразу же забывают и это в порядке вещей, словно населению в семь миллиардов человек от совершенных убийств не убудет и не прибудет, словно – о чем особенно много размышлял Артур, – словно биологический вид прекрасно существует и без имен, стремясь лишь к слепому выживанию. Женщина в Мадриде, случайно оказавшаяся рядом с разорвавшейся бомбой, семеро монахов ордена траппистов, которым перерезали горло в Алжире, двадцать мальчишек в Колумбии, расстрелянные на глазах у родителей, пассажиры пригородного поезда близ Йоханнесбурга, изрубленные на куски людьми с мачете за пять минут кровавой оргии, двести пассажиров самолета, взорванного бомбой над морем, две, три тысячи, нет шесть тысяч мужчин и юношей, убитых в Сребренице, сотни тысяч женщин и детей в Руанде, Бурунди, Либерии, Анголе. В какой-то миг, в течение одного дня, одной недели, их гибель была новостью, в течение нескольких секунд они неслись потоком электронов по всем телевизионным кабелям в мире, а затем наступала черная, всепоглощающая тьма забвения, которая со временем только усилится. У них уже никогда не будет имен, у этих погибших, их имена стерлись в момент их ужасной смерти. Он вспомнил кадры, увиденные им в последнее время: вновь и вновь человеческая оболочка, пришедшая в негодность по чьей-то злой воле, расчлененная на куски, отделенная от самой себя, скелеты со связанными проволокой запястьями, половинка ребенка, густо засиженная мухами, которые так и кишат, даже на фотографии, голова русского солдата среди мусора на тротуаре в Грозном, похожая на нефть морская вода, в которой плавают тела, туфли, чемоданы. В этом последнем репортаже багор неожиданно выудил из воды бюстгальтер, интимный предмет туалета, который в тот же день будет продемонстрирован всем людям во всем мире, его надела или положила в чемодан какая-то женщина, чье имя навеки стерлось, хоть и было напечатано в газете в списке погибших.
Нечто подобное было и здесь, на этой площади. С западной стороны тут раньше стояли подмостки, с которых можно было смотреть через стену на восточную часть. С той стороны стены находилось широкое пустое пространство, уставленное металлическими надолбами, чтобы никто не прорвался через границу на машине; в их расположении чувствовалась геометрическая правильность, как на ранних картинах Мондриана. По площади ходили люди с собаками, одетые в военную форму, которых уже никто не узнает, потому что теперь они ходят по этому же городу в обычной одежде. Такой мыслью лучше никому не надоедать, едва об этом заговоришь, как на всех лицах появляется выражение величайшей скуки. Это и так всем известно. Каждый человек съедает и выпивает свою ежедневную порцию террора, ежедневную порцию прошлого, не поддающегося перевариванию. Нелепо заявлять, что в наше время зло окончательно завладело миром, зло существовало всегда, и разве оно стало другим оттого, что в наши дни бесповоротно срослось с техникой? Но так далеко его мысли не заходили. Что для него было важно в охоте за кадрами, так это заведомая обреченность его попыток. До тех собак и солдат, которых Артур видел своими глазами, здесь стояли другие солдаты, и именно здесь человек, чье имя будет звучать намного дольше, чем имена его жертв, объявил в книге, которую потом читал весь мир, о начале смертельного крестового похода, здесь же он жил под землей, точно призрак, до самой своей омерзительной смерти. Тот человек тоже смотрел на это широкое, чуть выпуклое пустое пространство, место, где до самых последних его дней приземлялись самолеты, приносившие известия из ада в смерть и наоборот. Сохранились фотографии тех последних дней: человек в шинели с поднятым от холода воротником, с усиками, в котором живой оставалась только его болезнь, приветствует шеренгу мальчишек лет четырнадцати-пятнадцати, не старше, чтобы увлечь эту детскую армию следом за собой в смерть. Но рядом с помостом на щите из ДСП была другая огромная фотография, сделанная в еще более давнем прошлом, которое, точно так же, как и последующие два, сейчас было похоронено под снегом. То прошлое было черно-белым, и там была эта же самая площадь, залитая солнечным светом, и прямоугольные, без закругленных линий автомобили сверкали на ней, точно пепельно-серые коробки на белой скатерти. Трамваи, блестящие рельсы и самое странное: люди. Любая фотография останавливает мгновенье, однако на этой фотографии казалось – не то из-за старой техники, не то из-за слишком сильного увеличения, – будто фотографу и правда удалось вырезать из Времени отдельный законченный кусок, твердый, как мрамор. Светило солнце, должно быть, то же самое, что и всегда, но оно излучало такой свет, что все в нем застыло в неподвижности. Вот они стоят, среди навеки замерших автомобилей, эти люди, шагающие к тротуару или к трамвайной остановке. Ни у кого на груди нет желтой звезды, по лицам не отличить, кто преступник, а кто жертва, но все-все, без исключения, застыли в неуклонном движении к своей будущей судьбе, не ведая о последующих слоях, которые наложатся на их изображение еще в этом же веке, в этом же месте, где они стоят в момент фотографирования, который никто никогда не сможет отменить, – о слое парадов, смертельной паутины, гибельных костров и битв, о слое огражденной пустоты и пограничников с собаками и, наконец, о слое строительного котлована, укрытого толстым покрывалом снега, где в самом конце нашего демонического века в демонстрационных салонах, строительные чертежи которых уже готовы, будут красоваться те же самые, но только другие «мерседесы». Может быть, в окружающей полумгле, между забором и землеройными машинами, Артур и правда пытался поймать нечто способное сделать эту загадку менее мучительной?
– Прошлое не имеет атомов, – сказал когда-то Арно, – все памятники – фальсификация, а имена на камне напоминают не столько о человеке, сколько о его отсутствии. Так что главная мысль, которая в них заключена, – то, что без нас можно обойтись. В этом-то и состоит парадокс памятников, ибо заявляют они о противоположном. Имена мешают настоящей правде. Было бы лучше, если б их у нас не было.
Артур уловил в этих словах некий зловещий привкус, но, как это нередко случалось, не был уверен, правильно ли понял своего друга. Арно обладал даром слова. Рядом с ним Артуру казалось, что его собственные мысли ползут со скоростью улитки. Дело не в том, что он не доверял красноречию, просто у него в голове мысли формулировались намного медленнее. Если у тебя нет имени, ты существуешь лишь как зоологический вид, подобно муравьям и чайкам.
– Фу-у-у, – сказал бы Виктор.
Да, пора отправляться на встречу с друзьями. Они договорились пообедать все вместе в их любимом Weinstube,хозяина которого звали Хайнц Шульце, и, хоть имя это ему совсем не подходило, еду он подавал, слава Богу, подходящую.
* * *
Снова пошел снег, но хлопья были уже из другого вида шерсти, слишком тяжелые, чтобы кружиться в воздухе. Сейчас снег был похож на плотный занавес, который нужно раздвинуть, чтобы пройти через него. Артур отнес камеру домой и прослушал сообщения на автоответчике.
– Где ты пропадаешь? Ты хоть изредка заходишь домой?
По тому выражению, с каким она произнесла слово «домой», он понял, что ей не хотелось его говорить.
Затем небольшая пауза и смешок.
– В общем, у тебя здесь есть друзья, а у них есть телефон.
Он подождал еще немножко, но ничего не последовало. Эрна. Ее он не будет стирать. Всегда приятно, чтобы на автоответчике был знакомый голос, особенно когда приходишь домой ночью. Впрочем, сегодняшний вечер был совсем как ночь: тихий, без уличного движения, черно-белый, замерший и одновременно полный динамики. «Noche transfigurada», «Преображенная ночь», он произнес испанское название пьесы Шёнберга словно заклинание. «Verklarte Nacht», так тоже можно сказать, но transfigurada намного красивее, как будто весь порядок вещей опрокинулся и стал еще более таинственным.
До Аденауэрплатц было недалеко. Weinstubeгосподина Шульце находился в уродливом современном здании, где размещалось множество адвокатских контор и медицинских кабинетов и где никак не ожидаешь найти ресторан. Сначала надо было пересечь пустой двор с гаражами, потом вы попадали в коридор с дверьми из матового стекла и с решетками, на дверях висели таблички с фамилиями врачей и адвокатов. И только в самом конце коридора, в углу, светил сельского вида фонарь, нелепый в таком месте. Однако, открыв дверь, вы неожиданно попадали в старый деревенский трактир – низкое, темное помещение с дубовой мебелью, скудно освещенное желтоватым светом, свечи, приглушенные голоса, позвякивание рюмок. Артур стряхнул с пальто снег и вошел. Издали увидел Арно с Виктором, уже поджидавших его. У них было постоянное место в самом дальнем углу. Господин Шульце, казалось, обрадовался Артуру.
– Вы не побоялись выйти на улицу. Die Hollander sind tiichtige Leute, die sind nicht so zimperlich wie die Berliner. Голландцы – люди стойкие, они не такие изнеженные, как берлинцы.
Арно Тик был сегодня в ударе, что сразу бросалось в глаза; он обладал не только даром слова, но и тем, что Артур называл «даром увлеченности». Как-то раз он сказал об этом самому Арно, и тот повторил его слова: дар увлеченности,но Артур не признался – возможно, оттого что забыл подробности, – что словосочетание это он услышал в одном своем давнем сне, события которого разворачивались в лучах чистого горнего света, а суть заключалась в том, что после долгой борьбы кто-то стал «избранным» благодаря тому, что обладал «даром увлеченности».
Когда Артур через много лет после этого сна познакомился с Арно во время совместной работы над небольшим фильмом о доме, где умер Ницше, – впрочем, с тех пор тоже прошло уже много лет, – то сразу же понял, что этот поразительный человек, буквально фонтанирующий всевозможными историями, теориями и анекдотами, – единственный, к кому на самом деле подходит приснившееся определение. То немногое, что Артур Даане читал из Ницше до этих съемок, запомнилось ему как завывание урагана, голос, срывающийся от напряжения, который кричит с вершины горы, обращаясь к безымянной толпе, что они там, внизу, – ничтожная чернь; а потом крик вдруг превращается в причитания и жалобы на одиночество и непонятость. Артур догадывался, что в Ницше должно быть еще много всего, но истинным трагизмом внутренней противоречивости философа он проникся лишь тогда, когда прошел с камерой на плече следом за Арно Тиком по всем коридорам и лестницам запущенного дома, снимая и внимая.
Снимать Арно было достаточно трудно. Он носил очки со стеклами, отшлифованными так, чтобы отражать как можно больше света, а контактные линзы ему не подходили, поскольку левый глаз был не в порядке, так что левое стекло выполняло функцию скорее глазной повязки, чем оптической линзы, зато другой глаз, наоборот, устрашающе сверкал: асимметричный циклоп. К тому же у него были густые седые волосы, торчавшие во все стороны и словно стремившиеся выскочить за кадр. Рассказывая о чем-нибудь, Арно беспрестанно двигался. Во время тех съемок у Артура возникло ощущение, что он впервые в жизни понял трагедию сошедшего с ума философа, более того, ему казалось, что он чувствует на своих собственных плечах тяжесть его огромной головы с пышными усами – головы, которая в конце концов прижалась с рыданиями к шее упряжной лошади в Турине, после чего философа отвели к его кошмарной сестре в дом, имевший теперь, после многолетнего запустения, самый жалкий вид. Туг жил электромонтер, мечтавший устроить в доме музей, однако философ, фантазировавший о власти и праве на насилие, не пользовался популярностью в республике тоталитарной демократии, так что открыть музей не разрешили. С той первой встречи и началась дружба Артура с Арно Тиком.
Артур Даане знал с детства, что существуют разные виды дружбы, но самостоятельную ценность имеет только та дружба, которая основана на очень старомодном понятии – взаимном уважении.
После съемок, просидев рядом с Арно Тиком много часов в монтажной комнате, Артур решился наконец показать ему некоторые собственные фильмы. Услышанные комментарии глубоко поразили его. Это был тот редчайший случай, когда ему повстречался человек, по-настоящему понявший, к чему он, Артур, стремится. Он не любил, чтобы его хвалили, хотя бы потому, что не умел отвечать на похвалы, к тому же восторги Арно были обоюдоострым мечом: даже если он в целом отзывался о фильме тепло и по-доброму, то его суровый двойник подвергал все строжайшему и детальнейшему анализу. Лишь после этого Артур осмелился рассказать о своем другом, тайном замысле, о фрагментах, которые он снимает уже много лет и которые, казалось, никак между собой не связаны, – одни короткие, как, например, последний, снятый этим снежным вечером, другие длинные, едва ли не монотонные, – элементы огромной мозаичной картины, которую только он сможет когда-нибудь собрать.
– Если в один прекрасный день я решу, что пора, не напишешь ли ты к моему фильму сопроводительный текст? – И прежде, чем его собеседник успел ответить: – Ты же понимаешь, что, кроме тебя, ни одна собака таким фильмом не заинтересуется.
Арно посмотрел ему в глаза и ответил, что сочтет это за честь, или употребил какое-то другое выражение, от которого веяло прежней, давно исчезнувшей Германией, но в устах Арно звучавшее совершенно естественно, так же, как он иногда говорил: «Мое нижайшее почтение» или старомодно бранился с изобилием риторических оборотов, что тоже звучало архаизмом.
Много часов посвятили они после этого разговора просмотру артуровской коллекции: ледяные равнины Аляски, спиритические сцены в Сан-Сальвадоре де Байа, колонны военнопленных, дети в концлагерях, наемники, греки-монахи, картинки жизни на амстердамских улицах. На первый взгляд здесь не было единства и логики, но только на первый взгляд; это был мир, разорванный на мелкие клочки, заснятый со стороны, медленно, созерцательно, бессюжетно, фрагменты, из которых рано или поздно составится summa – слово, употребленное Арно, любившим отсылки к средневековой схоластике, – и они сложатся в единую картину.
К изумлению Артура, когда на экране были кадры верблюжьего рынка на юге Атласских гор, Арно поднял руку – знак, что надо остановить пленку.
– Перемотай-ка обратно.
– Зачем?
Но он знал зачем и почувствовал, что его поймали с поличными.
– Помедленнее, помедленнее… Эта тень… что-то не так с этой тенью на земле. Этот кадр чуууть-чуть затянут, но у меня ощущение, что это нарочно.
– Да, нарочно.
– Но зачем?
– Это моя собственная тень.
– А почему тогда не видно камеры?
– Это тоже нарочно. Туг нет ничего сложного. – И он показал, как надо встать. – Вот, видишь?
– Да, но зачем ты так снимаешь? Возможно ли, что я такое уже видел?
– Да, конечно. Но дело тут не в тщеславии.
– Это я понял. Но таким образом получается, что ты здесь есть и одновременно тебя здесь нет.
– Чего я и добиваюсь. Может быть, моя затея наивна. Это связано с… – Он не мог подобрать слова. Ну как такое объяснить? Оставленный знак, ты виден, ты невиден. Тень, у которой не должно быть имени, которую никогда и никто, вернее, почти никто не заметит, кроме этого человека.
– Это связано с анонимностью.
Он не любил таких слов. Абстрактные понятия, названные вслух, всегда звучат слишком высокопарно.
– Но ведь твоя фамилия указана в титрах?
– Да, знаю, но не в том дело… Для меня важно…
Его язык отказывался выговорить это слово. Силуэт на стекле витрины, отпечаток подошвы на снегу-на миг задержать кадр, – покачивающийся цветок или веточка, на которую кто-то подул, кого не видно, следы…
– Невидимая роспись. Здесь есть парадокс…
– Но ты-то эту роспись заметил. Или, скажешь, нет?
– Ты хочешь остаться, когда тебя уже не будет?
Это было уже слишком. Слова Арно были очень близки к правде, но не в самую точку.
Если твоих росписей никто не видит и не замечает, то тебя, значит, уже нет. Ты стал частью исчезнувшего. Но как такое скажешь – что ты хочешь присоединиться к исчезающему, при том, что ты, наоборот, пытаешься создать коллекцию для сохранения этого исчезающего?
В тот первый раз он показывал Арно наиболее узнаваемые кадры. При желании в них еще можно было увидеть их прямой смысл. Другие, более анонимные съемки – плавучие растения, поросшие чертополохом бесплодные поля, прибрежные птички на длинных ножках, сосредоточенно семенящие по песку перед линией прилива, – он пока приберег. Они были из этой же серии. Может быть, думал он, у меня просто не в порядке с головой.
Он подошел к столику.
Разговор между Виктором и Арно носил совсем иной характер: речь шла о колбасе. Арно выделял две категории: колбаса временная и колбаса окончательная – принципиально разные понятия. Но Артур пока не мог включиться в беседу, он существовал, как ему часто представлялось, в слишком медленном темпе. Поздороваться – самое обыденное дело на свете, так о чем тут размышлять? Но окружающие жили в более быстром мире – в том мире, где Арно распростер свои объятия, чтобы прижать Артура к сердцу, а сдержанность Виктора, этот защитный кокон, всегда окружавший его, позволил ему лишь официально поклониться. Наверное, именно так, как Арно, и здоровались в прежние времена, когда поэт или философ совершал путешествие из Веймара в Тюбинген чтобы навестить друга. Время, расстояние и неловкость растворялись в таком приветствии и определяли степень сияния радости на лицах по тем же правилам арифметики, по каким время и расстояние неизменно присутствуют в письмах тех дней. Поэтому с Арно невозможно было разговаривать по телефону: его дар красноречия, расцветавший в переписке и при личных встречах, скукоживался от фальшивой имитации близости, возникающей при телефонном общении, точно так же, как мгновенность переписки по факсу или электронной почте лишает ее блеска расстояния и прошедшего времени.
– Тут есть связь с таинственностью материального объекта как такового, письмо – это предмет, вещь, фетиш.
Так отреагировал в свое время Арно на рассуждения Артура, и тот его, как всегда, не сразу понял.
– В каком смысле?
Но он уже знал ответ, едва начал спрашивать. Сам он писал письма с трудом, особенно по-немецки, но в переписке с Арно откладывал свою грамматическую щепетильность в сторону: хочешь получать письма, получай и ошибки. В конце концов, это дело случая, что немцы приписывают женский род предметам, которые в испанском относятся к мужскому, в то время как голландский умывает руки и делает вид, будто думает о другом, почти как английский, в корне отказывающий солнцу, смерти и морю в какой-либо половой принадлежности, но голландский куда лицемернее, он прячет половые признаки под одинаковым для мужского и женского рода артиклем, так что никто, кроме специалистов и словарей, не разберет, скрывается за словом мужчина или женщина.
– А тебе самому это не странно? – спросил он как-то у Арно.
– Что «это»?
– Что ваши слова меняют пол при пересечении Рейна? Перебравшись из Германии во Францию по мосту близ Страсбурга, немецкий мужчина-месяц der Mond становится женщиной la lune, немецкая женщина-время die Zeit – мужчиной ie temps, немецкий старик с косой der Tod становится старухой-смертью lа mort… ну и так далее.
– А как в голландском?
– У нас пол невидим, у слов в моде унисекс, один артикль для всех, за исключением среднего рода. У нас никто уже не знает про море, мужчина это или женщина.
Арно передернуло от этой мысли.
– Тем самым вы перекрыли себе пути к истокам. Гейне ошибался. У вас все происходит не на пятьдесят лет позже, как он говорил, а на пятьдесят лет раньше. Но пиши мне как угодно, мне важно, что в письмах я слышу твой голос.
Так они и переписывались. Именно это и имел в виду Арно, говоря о таинственности писем. Письма пишутся от руки – ни одному из них и в голову бы не пришло перейти на компьютер, – и это усугубляет неповторимость того, что написано. Мысли выливаются на бумагу вместе с чернилами, их не подводят под единый знаменатель никакие печатные буквы. Теперь лист сложим, сунем в конверт, вот марка, оближем, наклеим – и в ящик. Он всегда отсылал свои письма сам. В некоторых странах письма опускают в ящик через львиную пасть. Она при этом так странно выглядит, приоткрытая, беззубая, бронза или медь на губах посветлела из-за миллионов писем. После этого письмо, рассуждали они с Арно, долгое время путешествует в полном одиночестве, ибо лев, подержав его у себя, вскоре отправляет дальше. Письмо выскользнуло из руки, написавшей его, и теперь пройдет несколько дней, прежде чем к нему прикоснется другая рука, рука друга. Все прочие руки, которые за него хватались, чтобы проштемпелевать, отсортировать и доставить по адресу, нам незнакомы, разве что ненароком встретишь у своих дверей почтальона (Арно: «Все почтальоны – это перевоплощения Гермеса»).
Теперь уже ему пора было принять участие в разговоре о колбасе. Временная колбаса – это, по мнению Арно, то, что в ресторане господина Шульце называлось frische Blut– und Leberwurst– «свежей ливерной кровяной колбасой»: перевязанные с двух сторон кондомы, туго набитые серой или лилово-черной мягкой массой. Когда в нее вонзаешь нож, происходит примерно то же, что случилось бы с велосипедной камерой: с шипеньем вырывается облачко воздуха, пахнущего печенкой или кровью, а потом вылезает кашица.
– Лично я предпочитаю пить кровь из чаши для причастия, – сказал Виктор. И затем спросил у Арно: – Ты никогда не задавался вопросом, отчего вы это едите? В смысле, то, что ты называешь временной колбасой, незагустевший вариант? Эту массу можно почти что пить, выходит, вы недалеко ушли от вампиров. Признай, что вы кровожадны. С тем же успехом можно вонзить зубы прямо в свинью. Дай Бог памяти, об этом писал Леви-Стросс, le cru et le cuit,сырое и приготовленное на огне, в этом, кажется, есть принципиальное различие? Французы варят кровь подольше, потом дают ей свернуться, остужают, и тогда получается окончательная колбаса – boudin.Вообще-то это значит «пудинг», вы об этом никогда не задумывались? Кровяной пудинг. А с печенкой дело обстоит ничуть не лучше. Слизистая тягучая кашица, расползается по всей тарелке. Знаете, как шикарно эта масса запакована, пока находится внутри свиньи? Свиньи – потрясающе компактные мясные склады, нет другого животного, у которого так же, как у свиньи, уже снаружи видно, как его разделывать. Окорок, голяшки, сало, чудесные развесистые уши, только обваляй в сухарях – на сковородку…
Но тут его прервал господин Шульце:
– Господа не испугались пурги. Нам это очень приятно. Вот так и узнаешь, кто у нас настоящий завсегдатай. Поэтому позвольте предложить вам по бокалу чудесного граубургундского, о котором не буду долго распространяться, но в нем столько южного солнца, что вы на время забудете про снег.
Он отвесил поклон. Артур знал, что теперь последует перечисление предлагаемых блюд. Господин Шульце обставлял это как небольшое театральное представление, полное иронии. Арно направил свой сверкающий глаз на хозяина и спросил:








