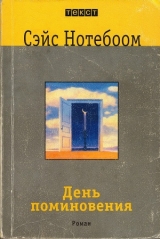
Текст книги "День поминовения"
Автор книги: Сэйс Нотебоом
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
Выходит, я не вижу того, что вижу, размышляла она, проезжая по пустынным кварталам. Тогда как же можно что-то увидеть с расстояния в тысячу лет?
Надо искать, сказала она Артуру, но что это значило?
Единственное, что осталось от королевы, – это документы в архивах, однако от ее мыслей и чувств не осталось ничего. Существовали немногочисленные и не вполне достоверные свидетельства современников, но они касались событий, а не стоящих за ними чувств. Вернувшись домой (домой! в эту нору!), она включила свет, влажный запах плесени проник вместе с ней в комнату, она разделась, устроила свою кровать наподобие кроличьей норы, подоткнув одеяло со всех сторон, как это любят дети, залезла внутрь, не переставая думать. Надо искать, но документы противоречили один другому. И все же Уррака была единственной женщиной во всей средневековой Испании, которая действительно имела власть. Она правила, совершенно одна, семнадцать лет. В двадцать семь лет она – вдова, мать двоих детей и королева Кастилии и Леона – вышла замуж за короля Арагона. Король, королева, сумасшедшие слова. Вот в Берлине в постели лежит женщина и размышляет о двух телах, читай: трех королевствах, в совсем другой, недоступной воображению постели. Нет, ей не удастся ничего выяснить, кроме сухих фактов, тех, которые уже известны, и тех, которые она, возможно, найдет. В той постели не было зачато детей. Значит ли это, что мужчина был импотентом? Ведь у нее-то дети уже имелись, и у него были все основания постараться сделать и своего собственного ребеночка. Он ее бил, об этом сообщали источники. Сплетня, которой тысяча лет, или правда, или что-нибудь еще хуже. Их брак обернулся катастрофой. Она била его в ответ, но уже с помощью войск. Что здесь ни придумаешь, все будет чистой фантазией, болезненным стремлением во всем увидеть отражение собственной жизни.
– Пожалуй, я догадываюсь, почему вы решили про нее писать, – сказал ей научный руководитель. – Она весьма созвучна нашему времени, не так ли?
Он был очень доволен собой, на лице играла та тупая улыбка, какая бывает у мужчин, полагающих, что выиграли очко. Она ничего не ответила, еще не настал срок.
Заснула она поздно, несколько раз просыпалась, хозяин ее квартиры колотил в дверь и что-то визгливо кричал ей, но она криком прогнала его. И вот она сидит напротив другого мужчины. Он налил последнюю порцию кипятка в кофеварку и подал ей чашку темного напитка. Он не станет ее спрашивать, зачем она пришла, он уж точно не станет. Сунув руку во внутренний карман, он сказал:
– Вот, это тебе, от Арно Тика.
Она взяла открытку. Кивнула, посмотрела на фотографию. Написанное на обороте она прочитает позже. Это была ее территория, эту местность она знала. Ей довелось побывать здесь, в этом тихом пространстве с надгробиями, надписи на которых не поддавались прочтению, и ей очень хотелось верить, что в одном из этих каменных фобов похоронена ее королева. Старый священник, оказавшийся поблизости, развеял ее мечты. И правильно сделал, потому что мечтать запрещается. Священник был глух, как тетерев, и, обращаясь к ней, фомко кричал, и она тоже кричала, задавая ему вопросы, и голоса их разносились эхом под низкими романскими сводами.
– Солдаты Наполеона хозяйничали здесь, как хотели. Тела или что от них оставалось они выкинули из саркофагов, а надписи сбили, в этих гробницах пусто.
– На обороте тут кое-что написано, – сказал Артур.
Ладно, посмотрим. Она перевернула открытку. Плутарх, Лукиан. Кто-то явно принял ее всерьез. Этот человек в толстенных очках, с торчащими во все стороны волосами и иероглифами на лице. Гегель, Наполеон, конец истории. Выкинуть всех королев из их могил! Но может быть, так и надо. Она посмотрела на мужчину, который снова сел напротив нее. Что могло быть общего между этими совершенно разными людьми? То лицо было все изрезано поразительной паутиной морщин, а это выглядело так, будто он слова лишнего не скажет. И все же вчера он сказал очень многое.
– Включи-ка музыку, – сказала она.
И когда он поднялся с места, чтобы выбрать компакт-диск, она остановила его:
– Нет, не для меня, включи то, что у тебя уже стоит, то, что ты сам слушал.
Это была «Stabat Mater» [28]28
Название по первым словам знаменитого католического песнопения, исполняемого на Страстной неделе, – «Стояла Мать» (у Креста) (лат.).
[Закрыть]Пендерецкого. Слов было не разобрать. Долгие распевы сумрачных мужских голосов, баритоны, басы, лишь потом зазвучали женские голоса, высокие, доказывающие что-то, зовущие издали, перекрывая мужские голоса, журча, шепча, убеждая.
– Музыка из царства мертвых, – сказала она, – заблудившиеся души.
Внезапный возглас точно удар кнута, затем таинственное бормотанье.
– Когда ты это слушал? Сегодня ночью, вернувшись домой?
– Я вернулся домой очень пьяный.
– А-а.
– Не хочешь снять пальто?
Она встала, сняла пальто, а потом, пока он смотрел на нее, свитер и туфли. Стоя у окна, она сложила свою одежду, предмет за предметом, аккуратной стопкой и, раздевшись совсем, постояла некоторое время, не шевелясь, затем повернулась к нему лицом.
– Вот я какая, – сказала она.
Шрам при таком освещении выглядел лиловым, но у него перехватило дыхание не поэтому. Из-за ее наготы шрам приобрел совсем другое значение, он выделялся на белой коже точно надпись, притча, Артур ощутил потребность подойти и прикоснуться к ее лицу. Она не пошевелилась, не выставила локти, когда он дотронулся до ее рубца, ее раны, когда его палец обследовал контуры шрама. Одну руку она легонько положила ему на грудь, и, когда он, не произнося ни слова, неслышно разделся, эта же рука так же беззвучно, но настойчиво подтолкнула его к кровати, словно его нужно было против воли уложить в постель, и эта же рука направила его, чтобы он лег лицом вверх; ему запомнилось, как он медленно и плавно опустился спиной на матрас, как над ним появилось ее лицо, а потом и вся она легла сверху, так что шрам оказался у самых его глаз, как она словно покрыла его всего полностью; потом он осознал, что чувство, испытанное им тогда, было смесью смятения и неверия, словно такого просто не могло быть, что это женщина гладила его своими ладонями и целовала его, словно это неправда, что она надвинулась на него и завладела им, сделала его беспомощным, казалось, эти равномерные движения уже не имеют к нему отношения, может быть, это тело, в экстазе выгибавшееся все сильнее и сильнее, и вовсе забыло про него, он видел над собой лицо женщины, которая урчала и бормотала голосом, сливавшимся со звучанием траурного хора, голосом, который, казалось, вот-вот закричит и который правда закричал, и в это мгновенье, как по команде, он изверг семя, ощутив резкую боль, которая, словно иначе и быть не могло, тотчас погасла, оттого что женщина снова легла на него вся, уткнувшись в подушку рядом с его головой, все еще бормоча что-то или ругаясь шепотом.
Она встала нескоро и тут же прошла в ванную комнату, потом вернулась. Он жестом предложил ей опять лечь, но она помотала головой, так что он сам встал и обнял это тонкое тело, которое все еще дрожало. Она медленно высвободилась из его рук и оделась, и тогда вновь наступило настоящее время, и он тоже оделся. Это все еще его комната. Почему у него вдруг возникла такая мысль? Потому что он знал, что комната уже никогда не станет прежней. Она снова села у окна, словно возвращаясь в исходное положение. Сейчас она снова разденется, и его взору снова откроется эта поразительная ранимость, и снова выяснится, что ее ранимость способна поработить его, швырнуть навзничь, овладеть им, отсутствующим, присутствующим, по другим законам, которые ему предстоит познать. Музыка кончилась, она встала и направилась к проигрывателю, на ходу чуть прикасаясь ладонью к некоторым предметам.
Он услышал, что в невидимой ему части Г-образной комнаты она остановилась, там, где стоял его письменный стол.
– Кто это такие?
Он и не глядя знал, чтб именно она рассматривает. Фотографию Рулофье и Томаса, ту же самую, что стояла у Эрны на подоконнике, только меньше размером.
– Это моя жена.
– А ребенок?
– Это мой сын.
– Они в Амстердаме?
– Нет. Их нет в живых.
Иначе никак было не ответить. Какой-то миг в комнате кроме них находилось еще двое других.
Других?
Он подождал, не спросит ли она еще что-нибудь, но она промолчала. Он медленно подошел к ней, увидел, что фотографию она держит у самой лампы и почти уткнулась в нее носом, она не рассматривала, а пожирала ее глазами. Он осторожно взял у нее фотографию и поставил на место.
– Давай поедим.
– Нет, спасибо. Мне пора уходить. Сегодня не так, как вчера, но я – чемпион мира по быстрому уходу. Не буду врать и не буду придумывать причин. – Она колебалась. – Ты еще долго пробудешь в Берлине?
– Пока не наймусь на очередные съемки.
Он вспомнил про звонок с Нидерландского телевидения. Надо им перезвонить. Россия, мафия.
– Но пока я еще здесь.
– Ладно, – сказала она. – До свиданья.
Она подняла свое пальто одним пальцем и мигом ушла. Чемпион мира по быстрому уходу. Он услышал ее шаги на лестнице, потом звук захлопнувшейся двери парадной. Теперь она принадлежала городу, была одним из прохожих на его улице. С ума он вроде бы не сошел, но явственно видел, что комната удивляется. Значит, не он один. Стулья, занавески, фотография, кровать, даже его приятель-каштан – все недоумевали. Лучше отсюда поскорее уйти.
* * *
В городе было два ресторанчика, куда они часто ходили, один – господина Шульце, второй – их друга Филиппа; этот второй Виктор называл «моя резиденция», потому что обедал здесь почти каждый день.
– У Филиппа есть душевный радар: он тотчас видит, когда я окутан молчанием, – для флибустьера редкий талант.
И то и другое было верно. Временами Виктора окружало невидимое облако молчания, а Филипп был похож на морского разбойника из Сен-Мало.
– Нет, на одного из трех мушкетеров, – считала Вера, и тоже была права. – А грустинка в нем оттого, что он скучает по двум другим.
Но сегодня Филипп был весел. Он обнял Артура, не терпевшего такого обращения ни от кого другого, и сообщил:
– Виктор там, в глубине зала. – И добавил на одном дыхании: – Что с тобой? У тебя такой вид, будто ты видел летающую тарелку.
Вот-вот, подумал Артур. Летающую тарелку. И пошел в конец зала. Сначала Виктор сделает вид, что не замечает Артура, и без того прищуренные глаза станут совсем щелочками, он изобразит близорукость, а потом разразится возгласами удивления. Артур видел, как Виктор кладет закладку в книгу, которую только что читал, и прикрывает ее сверху газетой.
– А! Кого я вижу!
Так бывало почти всегда. Они никогда не говорили об этом вслух, но оба очень любили время от времени поболтать по-голландски.
– Изумительный язык, – сказал как-то раз Виктор Арно. – Надо было и вам поменьше изменять свой немецкий. А вы сделали из него черт знает что. И очень уж он у вас громкий. Это, конечно, из-за ваших гор и долин, они разносят звук. А у нас все плоско, отсюда некоторая поверхностность, но зато все ясно и прозрачно. У вас же – таинственные пещеры, дремучие чащи, отдельные прогалины и склоны, поросшие лесом, это порождает Нибелунгов, друидов – поэтов и писателей-священнослужителей. Дело опасное. На польдере при восточном ветре такого не может быть по определению. Возьмем, к примеру, девочку, в смысле, слово «девочка». У вас девочка среднего рода, das Madchen, и вы говорите: SeinePuppe —. егокукла! Das Madchen hat Seine Puppe verloren – de– вочко потеряло егокуклу. Согласись, что это звучит диковато. С этой вашей девочкой явно что-то случилось, причем что-то ужасное. На польдере такого бы не произошло. Там все видят издалека, что с кем делается. Сначала было море, потом мельницы откачали воду, потом земля постояла-подсохла, а там и домики построили, заглядывайте в окошки сколько хотите, нам нечего скрывать, никаких тебе туманов, никаких секретов, сидит девочка, а в руках у нее еекукла. У нас девочки женского рода. Ты когда-нибудь слышал, как Гете звучит по-голландски?
И он прочитал ему из Гете по-немецки.
– Красиво, правда?
Сейчас Виктор снова был в великолепном расположении духа.
– Я изгнан из собственного дома, – сказал он.
А ты что здесь делаешь? Кто же нам преподнесет очередную порцию мировой скорби, если ты так долго торчишь в Берлине?
– Не волнуйся, я скоро уеду, – ответил Артур. – На следующей неделе, в Афгазию. Как это – изгнан из дома?
Виктор жил один и прогнать его не мог никто, кроме него самого. Артур положил руку на газету и почувствовал под ней прямоугольный предмет.
– Прячешь книгу?
– В какой-то мере.
– Можно посмотреть?
– Она еще спит.
– А чья она?
– Моя.
– Да не в этом смысле. Кто ее написал?
– Попробуй догадаться.
– Я его знаю?
– Трудно сказать, но он тебя точно знает.
Артур взял книгу из-под газеты. Карманное издание Библии по-голландски. Он открыл ее в том месте, где Виктор положил закладку.
– Вы слишком далеко заходите, молодой человек. Но раз уж ты такой бессовестный, отгадай загадку. Там одна строка отмечена крестиком.
– «Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле», [29]29
Книга Екклесиаста, 11:2.
[Закрыть]– прочитал Артур. – Последнее я понимаю, но что значит «семи» и «восьми»? В смысле – человекам? И что это за буковка «а»?
– Как говорится, разуй глаза. Вот тут, рядом, указано: «а, девять, два, Кор., десять», что значит «Об этом же читай Второе послание к Коринфянам, глава девять, стих десять».
– И что с того?
– Ну и поколение. Вопиющее невежество. Слышал когда-нибудь про апостола Павла?
– Слышал.
– Так вот, это послание апостола Павла к коринфским христианам. Новый Завет, он же Евангелие. В конце. В ближайший же день рождения подарю тебе Священное писание.
Артур нашел указанные строки и прочитал про себя. Потом захотел перечитать то, что читал раньше, и вопросительно взглянул на Виктора:
– А где это место с крестиком?
– Екклесиаст, глава одиннадцатая, стих второй.
Артур нашел нужное предложение, но не мог увязать его со строками из Послания к Коринфянам. Немного дальше несколько строк было подчеркнуто.
«Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуютсякости во чреве беременной, так ты не можешь знать дело Бога, Который делает все». [30]30
Книга Екклесиаста, 11:5.
[Закрыть]Буковка «а» – Иоанн, три, восемь, буковка «б» – Псалтырь, сто тридцать восемь, пятнадцать – шестнадцать.
– Теперь ты уже знаешь систему, – сказал Виктор. – Какая там ссылка насчет костей?
– Псалтырь, глава сто тридцать восьмая, стих пятнадцать и шестнадцать.
– Так, Псалтырь, – сказал Виктор. – После Книги Иова и перед Притчами Соломона. Ничему-то вас нынче не учат. Раньше полагалось знать псалмы наизусть.
Артур прочитал про себя.
– А теперь вслух, – сказал Виктор.
– «Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы.
Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было».
Виктор откинулся на стуле.
– Ты сейчас спросишь, зачем я это читаю, а я позову Филиппа и закажу вина, чтобы не отвечать.
– Да ради Бога, можешь и не отвечать. Я вообще – то ничего и не спрашивал. Стесняюсь. Но насчет костей… и этот зародыш…
Без всякой мысли он взял из книги открытку, но Виктор тут же отобрал ее и положил на прежнее место в Библию.
– Дай посмотреть-то. Это же картина Хоппера?
– Конечно. В картинах мы разбираемся лучше, чем в словах, не так ли?
Артур знал эту картину. Пять человек, образуя Жесткую композицию, сидят в шезлонгах на солнце. «People in the sun», люди на солнце. Шезлонги стоят рядом с домом, окна которого закрыты ставнями. Ставни того же цвета, что и желтое поле перед террасой, на которой они сидят. Сзади ряд остроконечных холмов, возможно, даже горы. В картине царит полнейшая тишина. Мужчина, сидящий дальше всех, читает, остальные глядят прямо перед собой. Артуру всегда представлялось, что это очень неприятные люди. У мужчины на переднем плане ноги в белых носках и бежевых ботинках, под лысеющую голову подложена подушечка. На женщине красный шарф и большая, видимо, соломенная шляпа. Еще один мужчина на переднем плане закрывает собой женщину в синем костюме, так что лица ее не видно. На читающем мужчине голубой шарф того же оттенка, что и на шее у Виктора.
– Это я, – сказал Виктор, – видишь, как наши тени лежат на земле?
Тени начинались, как увидел Артур, у туфель и ботинок и бежали, если так можно сказать о тенях, влево, где выходили за пределы картины. Нет, они, конечно, не бежали и не выходили, а лежали, плоские и одномерные, на земле.
– Тени вообще-то жутковатые, – сказал Артур.
– Ну-ну.
– А что ты тут, на картине, читаешь?
– Так тебе и скажи. – Но потом, чуть приоткрыв щелочки глаз, добавил: – Это самое лучшее изображение вечности, когда-либо созданное. Эту книгу я читал уже три миллиона раз.
Дверь открылась, и вошел бородатый молодой человек с пачкой газет в руке, который громко выкрикивал: «Берлинер цайтунг! Берлинер цайтунг!»
– Это что, уже так поздно? – спросил Виктор. Он купил сразу две газеты и подмигнул Артуру: – В таком случае ты на время свободен от моего красноречия.
Но вышло все иначе, потому что не успели они прочитать первые иероглифы, сообщающие о безработице и о бирже, как увидели Отто Хейланда, за которым шла его тень. Отто был художником, а тенью был его галерейщик, человек невообразимо мрачный, выглядевший всегда так, точно его только что вытащили из болота. Постоянно казалось, что с него капает вода.
– Лицо у него – это сталактит, – голос Виктора, – все вытянуто сверху вниз, и усы, и влажные глаза, фу! Не дело, чтобы галерейщик был похож на художника, особенно теперь, когда художники перестали носить свою униформу. Нынче художник должен выглядеть как банкир в воскресный день.
Как выглядят банкиры по воскресеньям, Артур не знал, но по виду Отто догадаться о его профессии было невозможно. Сдержанный – вот, пожалуй, самое точное слово, в его внешности ничто не наводило на мысль о тех таинственных, страдающих существах, которые населяли его картины.
Виктор знал Отто уже много лет.
– И что вы думаете? За Все это время он ни разу не произнес слово «искусство». А галерейщика он держит, по-моему, только из жалости.
– Друзья мои, решайте, что вы будете есть, последние заказы, и повар хочет домой.
Только сейчас Артур почувствовал, до чего он голоден. Каким же длинным был сегодняшний день!
– Я закажу для тебя что-нибудь очень вкусное, – сказал Филипп, – у тебя такой усталый вид.
– Усталый и отсутствующий, – сказал Виктор. – Мысли его где-то далеко. Он всматривается в себя через «Кука», а мы в поле зрения не попадаем.
«Кук» – это фирма, производящая оптику: объективы для съемки вдаль, с широким углом и с приближением. Как-то раз Виктор пожелал посмотреть через все эти объективы, а потом сказал только:
– Вот так вот человечество и обманывают.
– Вовсе нет, человечество обретает дополнительные глаза.
– Как Аргус?
– А сколько у него было глаз?
– Много, по всему телу. Но он плохо кончил.
Галерейщик схватил газету и застонал:
– Акции на бирже опять поднимаются… на месте безработного пролетария я бы уже давно разнес их лавочку.
– Ты-то на что жалуешься, – сказал Виктор, – ведь тебе от этой торговли воздухом тоже кое-что перепадает? Очень уж вы все много жалуетесь в последнее время. С тех пор как разрушили стену, слышатся одни причитания, будто вся страна вот-вот обанкротится.
– Тебе легко говорить. Живете себе в своей министране.
– Мал золотник, да дорог.
– И золотник этот знает за других, как им жить.
– Согласен, что это наша черта может раздражать. Но если забыть о наших безвкусных помидорах, то можно смело сказать, что мы и правда много чего знаем.
– Если у вас там так хорошо, то что же ты здесь делаешь?
– Вот-вот-вот, именно это я и говорю. Чуть что – обрушиваетесь на иностранцев. Auslander raus, говорите вы обиженным тоном, иностранцы, убирайтесь. Но нет, господа, выше голову, мы знаем, что вы самая богатая страна в Европе.
– Зависть, сплошная зависть.
– Несомненно, ну вы-то тогда чем недовольны?
Артур взглянул на Огго, подмигнувшего ему в ответ.
Отто любил, когда его галерейщика поддразнивают.
– А ты, Филипп, как считаешь?
– Меня не спрашивайте. У меня ноги французские, руки немецкие…
– О-ля-ля!
– …и французский язык. Вот, попробуйте. Фирменное блюда. И белое «Шато-Нёф». Знаете, сколько евро это стоит? – спросил он у галерейщика.
– Евро еще не введены. И если бы это от нас одних зависело, ни о каких евро и речи бы не было. С какой стати мы должны делиться своими честными трудовыми сбережениями с шайкой греческих и итальянских мошенников. А скоро прибавятся еще и поляки, и чехи…
– Пятьдесят лет назад вы так хотели, чтобы они были с вами…
– Нет, братцы, мой нектар предназначен не для этого.
– К тому же никаких сбережений у него и нет, – сказал Огго.
Филипп налил еще вина. Артур знал, как будут разворачиваться события. Через полчаса в глазах у Филиппа появится пиратский блеск, и еще через два часа они будут сидеть все вместе в закрытом ресторане, точно флибустьеры, захватившие корабль с золотом. Виктор и Филипп будут распевать песенки из «Шербурских зонтиков», и даже Отго будет им тихонько подпевать, а галерейщик расплачется.
– Мне, ребята, пора, – сказал Артур и встал.
– Изменник! Ты нас бросаешь!
– Он влюблен, – сказал Виктор. – Представляете, каково – в его-то годы. Просто опасно для жизни. Но уж кому что на роду написано…
За то время, что друзья ужинали, ветер заметно усилился. В какой-то миг Артуру показалось, что его сейчас поднимет в воздух. Интересно, что он почувствует. Он полетит вдоль этих высоченных домов, но не как птица, а как безвольный предмет, обрывок бумаги, подхваченный смерчем, под свист и завывание воздушных потоков, освобожденный от всех слов, сказанных за вечер, полетит обратно, в тот более ранний, удивительно беззвучный час, когда в тишине его комнаты перед ним стояло человеческое существо, которое, как он понял сейчас, одолело и захватило его, но которое само повиновалось штормовому ветру, дувшему из его прошлого. Неужели все это правда произошло? За такое короткое время? Было ли это началом чего-то нового?
На углу Лейбницштрассе он едва удержался на ногах. Ветер дул с Балтийского моря или из далекой степи там, на востоке, с бескрайней равнины, где с легкостью можно затеряться без следа. От ветра ветки на деревьях превратились в розги, они ударяли друг друга и сами же стонали от боли. И звук этот будет всю ночь стоять у него в ушах.
* * *
На Фалькплатц ветер воет и в той же, и в другой тональности. Он набрался силы, пролетая над Todess– treifen, полосой смерти, и теперь ревет еще громче и набрасывается на своего жалкого врага, этот лесок из плохо прижившихся саженцев, напоминание о доброй воле. Теперь ветер скорее свистит и шипит, Элик Оранье слышит в нем резкий шепот, стук в единственное окно в ее комнате, удары по подоконнику, она прислушивается к нему, как к оракулу, к неразборчивым хриплым голосам каких-то старух. Она сидит в позе лотоса в середине ограниченного пространства, стараясь сосредоточиться, но ничего не получается. Сознание ее поворачивается то в одну, то в другую сторону, словно флюгер, но потом неизменно возвращается к трем совершенно разным по своему характеру мыслям, которые она во что бы то ни стало должна додумать до конца. О правде относительно любовников и выкидышей ее королевы, о последней лекции про Гегеля и о человеке, прикоснувшемся к ее шраму, но так, что в прикосновении этом сокровенной близости было больше, чем потом в постели.
– От такого думанья мало проку, – произносит она вслух.
И это правда, в каждой из своих мыслей она чуть – чуть продвигается вперед, а потом тотчас перескакивает на другое, словно распускает свитер, связанный из разноцветной шерсти. И постоянно повторяет эти мысли одну за другой, как буддист свои молитвы. Ее шрам принадлежит ей и только ей, мгновение огня, боли, запах паленой кожи, мужчина, который гасит сигарету, вращательным движением вдавливает горящий кончик, наваливается на нее всем своим агрессивным весом, почти разрывает ее надвое, запах алкоголя из этого рта, бормочущего какие-то слова, ее собственный крик, мать, которая заходит в комнату нетвердыми шагами, цепляется обеими руками за дверь и смотрит на происходящее, – все это принадлежит только ей. Мне, мне одной. Говорить об этом невозможно ни с кем и никогда. Прочие моменты стираются и теряются, а этот остается. Он есть. В этот момент родился отказ. Он родился тогда и никуда не исчез. Отказ от чего? Просто отказ. А сегодня другой человек дотронулся до ее шрама, нежно провел пальцем по нему, словно это может исцелить. Нет. До этогоне дотронулся никто. Нежность – слово, которое нельзя употреблять. Как будто ему все известно. Но это невозможно.
И тут же, словно это вещи взаимосвязанные, мысль о другом. Королева, о которой Элик узнает все больше и больше, а значит, все меньше и меньше, потому что каждый новый факт рождает новые вопросы. Женщина из прошлого, как Элик называет ее про себя. Человек, с которым она связала несколько лет своей жизни и с которым у нее не должно быть ничего общего, с которым она ни при каких условиях не должна себя отождествлять, хотя прекрасно знает, что это уже произошло, вопреки запрету. Но ни в коем случае нельзя, чтобы это почувствовалось в ее диссертации. Работа должна получиться сухой как позавчерашний хлеб, и тем не менее чем больше Элик читает, вдумываясь в эти противоречивые сведения и в эти белые пятна, тем больше ей хочется заполнить остающиеся пустоты своими эмоциями, словно не Уррака, а она сама борется за свое королевство, будто это ее саму побеждают и насилуют, а она обращается в бегство и потом наносит ответный удар, будто это она, Элик, вынуждена искать помощи у других мужчин; непростительные фантазии, точно сочиняешь роман, отвратительные выдумки, когда хочется подчинить правду своей воле и написать: «В этот миг Уррака подумала…», хотя нам никогда в жизни не узнать, что думала Уррака. Прочитав десять книг о придворной жизни тех дней, мы все равно ничего не знаем, ни как от тех людей воняло, ни как они разговаривали, ни как они друг с другом спали; что бы мы ни стали утверждать об их образе жизни, все будет носить чисто умозрительный характер. В романе можно изобразить средневековую королеву в постели, но каким был в те времена оргазм, таким же, как теперь, или не совсем? Насколько другими, чем мы, были те люди, и насколько похожими на нас? Солнце тогда радостно вращалось вокруг Земли, и Земля была центром Космоса, а Космос располагался на ладони у Господа Бога, все было упорядочено, мир был со всех сторон окружен Божественным началом, и в этой системе мироздания у каждого человека было свое место в соответствии с четкой иерархией; теперь же все это стало настолько немыслимым, что уже невозможно вжиться в ощущения тех людей, невозможно даже приблизиться к ним. Но существуют же некие физические константы человеческой сути, которые позволяют представить себе достаточно многое? Крестовый поход церкви против плоти, память о котором хранят романские капители, где наказание за сладострастие изображено с таким садизмом, что и в наше время становится не по себе, – но с другой стороны, полные любовного томления голоса трубадуров, чью похоть с трудом удерживает узда рифмы и ритма. Элик покачивается туда-сюда. Дипломную работу она писала по статье Кржиштофа Помиана «История и выдумка», а эпиграфом взяла арабскую пословицу, которую нашла у Марка Блоха: «Люди имеют больше сходства со своим временем, чем со своими отцами».
– По-моему, это азбучная истина, – сказал ее руководитель, – и потому бессмысленная, но звучит красиво.
При этом он конечно же положил руку ей на плечо и чуть-чуть сжал его, так, что сказать на это было, собственно, нечего. Она сняла его руку со своего плеча, словно незнакомый предмет, и поспешно отпустила. Наказанием вновь стала снисходительная ирония:
– Noli me tangere. [31]31
Не прикасайся ко Мне (лат.). Евангелие от Иоанна, 20:17.
[Закрыть]
– Если хотите.
– Ладно, в любом случае я считаю, что эти возвышенные обобщения ни к чему. Мы изучаем историю и ничего боле. А умозрениями пусть балуются взрослые мужчины.
Разумеется, взрослые мужчины, смешно было против этого возражать. Мужчины вообще не терпят, чтобы им перечили. Последний разговор после лекции о Гегеле получился не слишком удачным. Восторги Арно Тика («Ах, как жаль, что вы не слышали лекций Кожева [32]32
Кожев (Кожевников) Александр (1902–1968) – французский философ, представитель неогегельянства, родился в Москве, профессор Сорбонны, способствовал распространению идей Гегеля во Франции и их истолкованию в духе экзистенциализма.
[Закрыть]о Гегеле!») в какой-то мере раззадорили ее, но вычурные фразы великого мыслителя оставались для нее проблемой, а манера лектора говорить в нос еще более усложняла дело.
– Он произносит слова в точности, как Ульбрихт, – сказал один из студентов, слушавших этот курс с ней вместе.
Трудно сказать, правда это была или нет, но внешне лектор больше всего походил на морковку в костюме-тройке; отвечая на ее вопрос, показавшийся ему глупым, он заметил:
– Да-да, я знаю, что в голландских средних школах философии уделяется крайне мало внимания, а уж немецкую философию, вероятно, и вовсе не проходят, впрочем, невежеству нет пределов. С другой стороны, вы в этом, наверное, не виноваты. Как сказал Генрих Гейне: в Голландии все происходит с запозданием в пятьдесят лет.
– Вероятно, именно по этой причине Майнц, Гамбург и Дюссельдорф отказались установить памятник Гейне, и даже в тысяча девятьсот шестьдесят пятом году ректор нового университета и местные власти не захотели назвать его именем Гейне, да и большинство студентов тоже этого не захотели.
– Вы хотите сказать, оттого, что Гейне был евреем?
– Это уж вы сами разбирайтесь. А по-моему, оттого, что Гейне был умным насмешником, и поэтому даже через сто лет, а сто лет – это два раза по пятьдесят, вы все еще не можете ему этого простить. Памятник, о котором я говорю, стоит сейчас в Нью-Йорке, в Бронксе. Наверное, там он себя лучше чувствует. Впрочем, насколько я знаю, Гейне ни о каких пятидесяти годах никогда не говорил.
От волнения она забыла, о чем его, собственно, спрашивала. Лектор, которого следовало называть не иначе как Неrr Professor, посмотрел на нее уничтожающим взглядом, из студентов в разговор никто не вмешивался, так что он продолжил свою туманную экзегезу. Беседуя с Арно Тиком, она высказывалась резко, и сама это прекрасно понимала, но сейчас, сидя дома в одиночестве, вдруг засомневалась.
Господи Боже мой, ну какой может быть прок от этой грандиозной словесной массы, из которой слушателя лишь изредка, наверное, затронут какие-то обрывки мысли, но затем гигантское целое снова станет похожим на окаменелый свод законов, а потом на почти религиозное стремление продемонстрировать, что все сходится; эти утопические органные тона недоказуемых предсказаний, обещание будущего, в котором, если Элик правильно поняла, мировой дух, кем бы и чем бы он ни был, познает сам себя, так что исчезнут все противоречия, терзавшие мир на протяжении целой истории.








