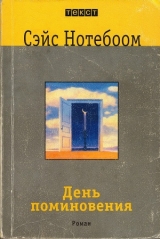
Текст книги "День поминовения"
Автор книги: Сэйс Нотебоом
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц)
Сэйс Нотебоом
День поминовения
Так мы и бьемся, лодки, плывущие против течения, которое беззаботно сносит нас в прошлое.
Ф. Скотт Фицджеральд. Великий Гэтсби
Впрочем, у сирен есть оружие еще более ужасное, чем пение: их молчание.
Франц Кафка. Молчание сирен
Лишь миновав книжный магазин и пройдя еще шагов сто, Артур Даане обнаружил, что в голове у него засело одно слово и что слово это он уже успел перевести на голландский язык, отчего оно стало звучать менее угрожающе, чем по-немецки, Geschiedenis, история. Может быть, дело в суффиксе? Nis, то есть «ниша», странное и короткое слово, но не злое и кусачее, как другие короткие слова, а, скорее, успокаивающее. Ниша – место, где можно спрятаться или найти что – то сокровенное. В других языках такого нет. Артур Даане попытался отделаться от этого слова, прибавив шагу, но ничего не вышло, весь этот город был им пропитан. Слово по-прежнему прочно сидело в голове. В последнее время с Артуром такое часто случалось, и выражение «засесть в голове» передавало это явление точнее всего: слова сами застревали в нем. И сами звучали. Даже не произнося их вслух, он все равно их слышал, иногда казалось, будто слово гудит, как колокол. Стоит вырвать отдельное слово из цепочки фраз, где оно находилось изначально, как в нем – для человека, имеющего слух, – проступает нечто пугающее, нечто чуждое, о чем лучше думать поменьше, а то весь мир сдвинется с места. Слишком много досуга, подумал Артур Даане, но ведь это он нарочно так устроил свою жизнь. Много лет назад он прочитал в старом школьном учебнике рассказ о «яванском жителе», который, заработав монетку, усаживается под деревом. Видимо, в те далекие времен;) на одну монетку можно было жить довольно-таки долго, потому что наш яванец, если верить учебнику, снова брался за работу лишь тогда, когда от заработанного грошика ничего не оставалось. Автор книги клеймил его позором, поскольку при таком образе жизни человек не двигается вперед, однако Артур Даане считал, что прав-то яванец. Сам он снимал документальные телефильмы как автор идеи и продюсер в одном лице; иногда если ему был интересен чужой сюжет, то подряжался кинооператором и изредка, по случаю или когда требовались деньги, делал рекламные ролики для фирм своих приятелей. Если не слишком часто, то это вполне занятно, ну а потом можно долго ничего не делать. Когда-то у него были жена и ребенок, но оба погибли в авиакатастрофе, остались только фотографии. Он часто смотрел на их лица, однако они с каждым разом отодвигались от него все дальше. Десять лет назад. Сели утром в самолет на Малагу и не вернулись. Кадр, который он сам отснял, но что получилось, уже не увидел. Светловолосая женщина с малышом на спине. Аэропорт Схипхол, очередь на паспортный контроль. Он окликает ее, она оборачивается. Замри, память. Вон они стоят, около секунды, повернувшись к нему на 90 градусов. Ее рука в прощальном жесте поднята вверх, мальчик машет частыми короткими движениями. Кто-то другой отснимет их прибытие, которое вместе с бунгало, плавательным бассейном и пляжем исчезнет в той же самой комковатой, черной, липкой массе, где исчезнут и их жизни. Он проходит вдоль очереди и отдает ей маленькую ручную кинокамеру. Это было последнее, а потом они исчезают. От той загадки, которую загадывают фотографии, он отгородился, она слишком грандиозна, с ней не справиться. Иногда так бывает во сне: хочется громко-громко закричать, но ничего не выходит; горло не издает ни звука, но ты слышишь собственный крик – какое-то стеклянное звучание. Он продал дом, раздал одежду и игрушки, словно все это было заразным. С тех пор он стал путешественником без багажа, лишь с ноутбуком, телекамерой, мобильным телефоном, радио, работающим на всех частотах мира, и несколькими книжками. Человек, технически оснащенный: автоответчик в его собственной квартире в северной части Амстердама, факс в офисе у приятеля. Независимость и связанность, невидимые нити протягиваются между ним и миром. Голоса, сообщения. Друзья, в основном из его профессионального круга, ведущие такой же образ жизни. Они живут, сколько хотят, в его квартире, он – у них. В остальное время – в небольших дешевых гостиницах или пансионах, дрейфующая вселенная. Нью-Йорк, Мадрид, Берлин, и везде, как ему представилось сегодня, есть ниша. Он все еще не отделался от этого слова, ни от коротенького слова-суффикса, ни тем более от длинного, им заканчивающегося, с которым оно и связано, и не связано.
– И что ты нашел в этой Германии? – часто спрашивали его голландские приятели. Причем с такой интонацией, словно справлялись о состоянии больного. На этот вопрос он придумал стандартный ответ, которого, как правило, бывало достаточно:
– Мне там нравится, немцы – народ серьезный.
На это приятели обычно говорили: «Понятно» или «Ну да, разумеется».
Забавное дело – толковать голландские речевые обороты. Поймет ли иностранец, даже изучавший голландский язык, что подобный, в общем-то утвердительный, ответ на самом деле выражает, наоборот, циничное сомнение?
Размышляя о словах, Артур Даане дошел до винного магазинчика на углу Кнезебекштрассе и Моммзенштрассе – места, где он всегда задавался вопросом, вернуться ли ему обратно или продолжить путь. Он остановился, посмотрел на сверкающие автомобили в выставочном салоне напротив, отметил про себя поток машин на аллее Курфюрстендамм, а потом увидел собственное отражение в зеркальной витрине с шампанским. Это жуткое раболепство зеркал. Они будут отражать тебя всегда, даже в те минуты, когда тебе этого, как сейчас, совершенно не хочется. Один раз он сегодня уже видел себя. Но теперь-то он во всеоружии, одет по-городскому, а это сильно меняет дело. Он знал кое-что про себя, и ему было любопытно, что из этого видят окружающие. «И все, и ничего», – сказала ему как-то раз Эрна. Ну при чем тут Эрна, здесь, на углу Моммзенштрассе?
– Ты это серьезно?
– Конечно, это тебе любой ежик скажет.
Так могла ответить только Эрна. Ну вот, теперь плюс к Эрне еще и ежик.
Пошел снег. Он видел в зеркале, как легкие снежинки садятся ему на пальто. Отлично, подумал он, так я хоть меньше буду похож на манекен.
– Не говори ерунды.
Опять голос Эрны. Эту тему они несколько раз обсуждали.
– Если ты считаешь, что похож на манекен, то покупай другую одежду. Не от Армани.
– Это вовсе не от Армани.
– Но выглядит, как от Армани.
– То-то и оно. Понятия не имею, что за фирма, купил на распродаже. Почти даром.
– На тебе любая одежда отлично сидит.
– Ну я и говорю, что похож на манекен.
– Ты себе не нравишься, вот и все. Это возрастное. С мужчинами бывает.
– Нет, туг другое. Я выгляжу не таким, каким себя считаю.
– В том смысле, что ты все время что-то про себя выдумываешь, но нам не рассказываешь, а мы этого не видим?
– Да, примерно так.
– Ну тогда подстригись как-нибудь иначе. У тебя прическа – не прическа, а сплошное вранье.
– Вот видишь, все-таки.
Эрна была его самой давней подругой. Через нее он в свое время познакомился с женой и ни с кем, кроме Эрны, сейчас не мог о ней разговаривать. Есть на свете мужская дружба. И у него были друзья среди мужчин, но самым лучшим другом оставалась Эрна.
– Не знаю, воспринимать ли это как комплимент.
Иногда он звонил ей среди ночи из какой-нибудь дыры на другом конце земли. И она всегда оказывалась на месте. Мужчины появлялись и исчезали из ее судьбы, жили у нее, ревновали к нему. «Ну и пустобрех этот Даане! Снял пару ерундовых роликов и разгуливает по городу, будто он Клод Ланцман [1]1
Ланцман Клод (р. 1925) – французский писатель и кинематографист. Прославился документальными фильмами, основанными на интервью с уцелевшими свидетелями Холокоста. (Здесь и далее примеч. переводчика.)
[Закрыть]собственной персоной!» Так обычно заканчивались все ее романы. От живших с нею мужчин у Эрны осталось трое детей, похожих только на нее.
– Иначе и быть не может, если выискивать самых невзрачных мужиков. Это ж курам на смех, кого ты выбираешь себе для размножения! Каких-то недоделанных. Лучше бы уж меня взяла.
– Ты для меня запретный плод.
– Любовь, которой имя – дружба.
– Именно.
Он повернул обратно. Это означало: «нет» Курфюрстендамм, «да» Савиньиплатц. И еще это означало, что он опять пойдет мимо книжного магазина Шёлера. Что же это все-таки за ниша в языке? Веkommernis, gebeurtenrs, belijdenis, besnijdenis – огорчение, приключение, покаяние, обрезание. Снег посыпался сильнее. Оттого что привык работать с камерой, подумал он, даже сам на себя смотришь со стороны и постоянно видишь себя идущим. И это не тщеславие, нет, скорее здесь есть что-то от изумления, смешанного с… м-да, это они с Эрной тоже как – то раз обсуждали.
– Почему ты не хочешь сказать прямо?
– Потому что не знаю.
– Чушь. Ты прекрасно все знаешь. Если уж я знаю, то ты и подавно. Просто не говоришь.
– И какого же слова ты от меня ждешь?
– Например, «страх». Или «смятение».
Он выбрал «смятение».
Теперь камера, медленно развернувшись, принялась снимать заснеженную Кнезебекштрассе, серые, огромные берлинские дома, нескольких прохожих, которые, пригнув головы, шли против летящих им в лицо хлопьев снега. Он – один из них. Это-то и есть главное: полная случайность данного мгновения. Вон тот человек, шагающий вон там, у магазина Шёлера, мимо галереи художественной фотографии, это ты сам. Почему всю жизнь это казалось обычнейшим делом, а иногда, вдруг, на протяжении одной пугающей секунды, становится невыносимым? Ведь к такому давно пора привыкнуть? Разве что ты сам – вечный подросток.
– Это абсолютно ни при чем. Некоторые люди не задаются никакими вопросами. Но из такого смятения все и рождается.
– Что, например?
– Искусство, религия, философия. Я тоже почитываю книжки.
Эрна несколько лет проучилась на философском факультете, но потом перешла на отделение нидерландской филологии.
На углу Савиньиплатц ему ударил в лицо такой резкий ветер со снегом, что он едва удержался на ногах. Настоящая вьюга. Континентальный климат. И это тоже одна из причин, почему он любит Берлин: здесь чувствуешь, что стоишь на гигантской равнине, простирающейся до России и еще дальше. Берлин, Варшава, Москва – маленькие точки в бескрайнем пространстве.
Он был без перчаток, руки сильно мерзли. В том же разговоре с Эрной он произнес целую речь о человеческих пальцах.
– Вот, посмотри, что это такое?
– Это, Артур, пальцы.
– Конечно, но это еще и щупальца, смотри!
Он взял карандаш, повертел его туда-сюда.
– Правда, здорово? Люди дивятся на роботов, но не дивятся на себя. Когда предметами орудует робот, им это кажется жутким, а когда они сами, то все нормально. Роботы, сделанные из плоти, – по-моему, достаточно жутко. Другого слова и не скажешь. Такие роботы могут все, даже самовоспроизводиться. А что такое глаза? Это ж и видеокамера, и телеэкран разом. Один и тот же инструмент и для видеозаписи, и для воспроизведения. Как бы это поточнее сформулировать… У нас есть компьютеры, или мы сами и есть компьютеры. Приказы по электронной системе, химические реакции, все, что душе угодно.
– В компьютерах нет химических реакций.
– Все еще впереди. И знаешь, что, по-моему, самое удивительное?
– Пока не знаю.
– То, что в средние века, когда люди понятия не имели ни об электронике, ни о нервной системе, или даже копнем еще дальше, неандертальцы – люди, которых мы называем примитивными, были точно такими же совершенными машинами, последнее слово техники. Они не знали, что, произнося слово, используют встроенную в них аудиосистему, в полном комплекте, с мембраной, усилителем…
– Ну тебя, Артур, прекрати, пожалуйста.
– Я же сказал тебе, я как подросток. Все удивляюсь да удивляюсь.
– Но хотел сказать другое.
– Пожалуй.
Я хотел сказать – дело в страхе, иногда пронзающем меня, как молния, подумал Артур, в священном трепете перед недоступной разуму странностью вещей, которые другим никогда не казались странными и к которым в моем возрасте уже пора бы привыкнуть.
Он проходил мимо ресторанчика своего друга Филиппа, еще не знавшего, что Артур Даане снова в Берлине. Он никогда никого не предупреждал о своем приезде. Сваливался как снег на голову, и все.
На переходе через Кантштрассе горел красный свет. Он посмотрел налево и направо, увидел, что машин нет, решил перейти, но не тронулся с места, прислушался к тому, как его тело реагирует на две противоположные команды мозга, некая странная интерференция волн, в результате которой он пошел не с той ноги и остановился – одна нога на тротуаре, другая на проезжей части. Сквозь снег он разглядел молчаливую группку пешеходов, застывших у перехода на той стороне. Как раз в такие моменты и выявляется различие между немцами и голландцами. В Амстердаме только дурак будет ждать зеленого света, чтобы перейти дорогу, а здесь считается, что только дурак идет на красный, причем приезжим это сразу дают понять.
– Да он же самоубийца!
Как-то раз он спросил у Виктора, скульптора, уже давно перебравшегося из Амстердама в Берлин, как тот поступает, когда на улице нет вообще ни единой машины.
– Перехожу. Если не видят дети. А то дурной пример, ты же понимаешь.
Сам Артур решил, что будет использовать эти странные, пустые секунды для того, что он называл «мгновенным размышлением». В Амстердаме все велосипедисты ездили, из принципа не глядя на светофор, часто на красный свет, иногда даже против движения. Голландцы желают решать сами, какие правила их касаются, а какие нет, этакая смесь протестантизма с анархией, порождающая упрямый вариант хаоса. В последние несколько раз, что он был в Амстердаме, он заметил, что теперь и машины, и даже трамваи тоже стали ездить на красный свет.
– Ты и сам стал как немец. Ordnung muss sein.Порядок прежде всего. Только послушай объявления в поездах у них в метро. Сплошные команды. Einsteigen bitte!Заходить! ZURUCKBLE1BEMОтойти от дверей! Знаем-знаем, к чему приводит их знаменитое законопослушание.
Голландцы не терпят, чтобы им указывали. Немцы любят дисциплину. Предвзятые мнения были, есть и будут.
– По-моему, в Амстердаме уличное движение просто-напросто опасно.
– Скажешь тоже! Посмотри лучше, как твои немцы носятся по автобанам. Просто всеобщий приступ бешенства. Агрессия в чистом виде.
Загорелся зеленый свет. Шесть заснеженных фигур на той стороне улицы разом задвигались. Обобщения – дело опасное. И все-таки каждому народу присущи какие-то свои черты. Интересно, откуда они берутся?
– Из истории, – объяснила ему Эрна.
Что его всегда завораживало в истории, так это химическое соединение судьбы, случая и цели. Сочетание этих факторов порождает события, которые влекут за собой другие события: вслепую – по мнению одних, неотвратимо – по мнению других, или, как считали третьи, в соответствии с некоей скрытой, еще неведомой нам целью, – но от этого начинала кружиться голова.
На секунду он задумался, не зайти ли в «Тинтенмаус» почитать газеты, хотя бы ради того, чтобы согреться. Он ни с кем здесь лично не дружил, но в лицо знал всех. Это были люди его склада, люди, у которых много времени. Но никто из них не походил на манекен. В этом кафе было широкое окно во всю стену. Вдоль окна стояло в ряд несколько столиков, а прямо за столиками находилась стойка бара, однако за ней никто никогда не сидел так, как обычно сидят за стойкой. Слишком сильна была притягательная сила внешнего мира. Перед человеком, заглядывающим в окно с улицы, представала такая картина: длинный ряд лиц с одинаково пристальным взглядом, словно над всеми ними витает одна большая и медленная мысль, некое молчаливое раздумье, причем такое тяжелое, что его можно вынести, лишь медленно-медленно потягивая пиво из огромных кружек.
Лицо Артура совсем закоченело, но сегодня был один из дней, когда он чего-то такого и хотел – добровольного наказания с примесью наслаждения. Гулять под проливным дождем по острову Схирмонникоох, карабкаться под палящим солнцем к заброшенной высокогорной деревне в Пиренеях. Изнурение, имеющее точно такую же природу, порой можно увидеть на лицах у любителей бега трусцой – разновидность страдания на глазах у посторонних, с оттенком непристойности, Иисусы, трусящие к своей Голгофе. Бег его ничуть не привлекал, поскольку нарушал ритм того, что он называл «думанье». Вероятно, к настоящему раздумью его думанье имело мало отношения, но так он это назвал, давным-давно, лет в пятнадцать-шестнадцать. Для его думанья требовалось уединение. Смешно, конечно, но оно так и осталось его любимым занятием.
Раньше это было связано с определенными местами, теперь могло нахлынуть где угодно. Единственное обязательное условие – чтобы ему не приходилось разговаривать. Вот Рулофье все прекрасно понимала. Случалось, они гуляли вместе часами, не произнося ни слова. Хотя они никогда не обсуждали этого вслух, он знал, что она знала, что только так и возникало то хорошее, что было в его фильмах. Как срабатывал этот механизм, он и сам не смог бы объяснить. Задним числом казалось, что к нему сами собой приходили воспоминания о том, что он хочет сказать в своем кино, причем не только основная мысль, но и ее разработка. «Вспоминание» – вот точное слово. Наведение камеры, освещение, последовательность кадров – что бы он ни делал, его не оставляло это поразительное ощущение дежа вю. Те несколько игровых фильмов, которые он снял со студентами киноакадемии, появились на свет точно так же – к отчаянию всех, кто вынужден был с ним работать. Он начинал с нуля, а потом делал сальто – мортале – со стороны кажется, что тело акробата на несколько минут зависает под куполом цирка, – а потом снова приземлялся на ноги. От изначального оставались рожки да ножки, по ему все прощалось, если результат был хорош. И все-таки что же это такое, это его думанье? Каким то ofipa юм оно связано с пустотой, больше, пожалуй, нечего сказать. День должен быть пустым, да и он сам, Артур Даане, тоже. При движении у него возникало ощущение, что пустота течет сквозь него, что он стал прозрачным либо что его как бы нет, в смысле – нет в том мире, где живут другие, что его прекрасно могло бы и не быть вовсе. Появляющиеся при этом мысли (впрочем, «мысли» – слишком громкое слово для тех смутных, расплывчатых раздумий, во время которых перед ним проплывала вереница неясных картинок и обрывков фраз) он впоследствии никогда не мог воспроизвести в мало-мальски четкой форме; все это больше напоминало увиденную где-то сюрреалистическую картину, название которой он забыл. Женщина из осколков взбирается вверх по бесконечной лестнице. Она еще невысоко, а верхушка лестницы теряется в облаках. Тело у женщины не сплошное, ибо составляющие его осколки нигде друг с другом не соприкасаются, и все-таки нет сомнений, что это женщина. Если же хорошенько присмотреться, то становится довольно сильно не по себе. Сквозь это тело струится туманный шлейф – его видно в тех местах, где должны быть глаза, груди, лоно; внутрь женщины входит расплывчатая, пока еще не распознанная электромагнитная информация, которую впоследствии, если все будет в порядке, можно будет преобразовать во что-то, о чем Артур пока еще не имел ни малейшего представления.
На углу Гётештрассе от ветра у него перехватило дыханье. Моммзен, Кант, Гёте – здесь ты всегда в хорошей компании. Он проходил мимо принадлежавшей турку итальянской кофейни, где всегда пил кофе Виктор, но сейчас его тут не было. Виктор, как он сам говорил, уже давно сумел проникнуть в немецкую душу, разговаривая и с жертвами, и с виновниками, и написал об этом, не назвав ни единого имени, серию коротких рассказов, которые глубоко задевали читателя именно отсутствием показного пафоса. Артур Даане любил людей, в которых, по его выражению, «уживается сразу несколько человек», и уж был совсем без ума от тех, в ком эти разные ипостаси казались на первый взгляд несовместимыми. В Викторе, под внешней напускной небрежностью, скрывалась целая толпа людей. Пианист, скалолаз, бесстрастный наблюдатель человеческой комедии, поэт в вагнеровском духе, с полководцами и льющейся кровью, скульптор и автор весьма риторических рисунков, иногда всего из нескольких линий, с названиями, все еще толковавшими о войне, такой далекой и давно забытой. Берлин и война стали для Виктора его охотничьими угодьями; если он что-нибудь говорил о них, то всегда в полушутливом тоне: это, мол, связано с детскими воспоминаниями, потому что «когда ты сам маленький, то солдаты кажутся ужасно большими», ну а солдат в оккупированной Голландии он повидал в детстве достаточно, потому что дом, где он жил тогда с родителями, стоял рядом с немецкой казармой. Манерой одеваться он напоминал артиста довоенного варьете: клетчатый пиджак, шарф, тонкие, четко очерченные усики, как у Дэвида Найвена, [2]2
Найвен Дэвид (1910–1983) – британский киноактер, дебютировал в Голливуде в 1935 г., во время Второй мировой войны служил в действующей армии, после войны прославился комическими и характерными ролями «типичного англичанина» в американских фильмах.
[Закрыть]похожие на поднятые в недоумении брови, словно и своей внешностью он хотел выразить ту мысль, что войне не следовало начинаться и и что тридцатые годы должны были длиться до бесконечности.
– Вон, смотри, видишь выбоины от снарядов… – такой бывала первая фраза Виктора во время их совместных прогулок по Берлину.
И тогда Артуру Даане качалось, что Виктор сам стал этим городом, которому есть что вспомнить: политические убийства, полицейские облавы, костры из книг, место, где Розу Люксембург бросили в воду Ландверканала, докуда как раз и дошли русские в 1945 году. Он читал город, как книгу, как рассказ о невидимых зданиях, проглоченных историей, – здесь находились застенки гестапо, вот место, где смог бы приземлиться самолет Гитлера, и все это говорилось речитативом, почти нараспев. Когда-то Артур хотел вместе с Виктором снять программу о Вальтере Беньямине, [3]3
Беньямин Вальтер (1842–1940) – немецкий культуролог и эссеист. В 1933 г. эмигрировал в Париж, получил американскую визу, однако при пересечении границы с Испанией подвергся шантажу и от отчаяния покончил жизнь самоубийством.
[Закрыть]которую собирался назвать «Подошвы воспоминаний» – по цитате из Беньямина о фланирующих по городу людях. Виктору отводилась роль берлинского фланёра, потому что именно он, как никто другой, ступал по мостовой подошвами воспоминаний. Однако Нидерландское телевидение не заинтересовалось фильмом о Вальтере Беньямине. Артур до сих пор видел перед собой того телевизионного редактора, выпускника Тилбургского католического университета, с его затасканным нимбом из смеси марксизма с религией, – душный дядечка лет пятидесяти в душной каморке на гигантской фабрике снов, впрочем уже весьма заболоченной, где в столовой перекусывают отечественные знаменитости с неестественно загорелыми физиономиями и такими голосами, будто у всех у них рак горла. Редко бывая в Голландии, Артур, слава Богу, не помнил, как их всех зовут, но достаточно одного взгляда, и сразу ясно, о ком речь.
– Я знаю, что внутри вас сосуществуют два полюса, – сказал редактор (у него чуть было не вырвалось «у вас в душе»), – склонность к рефлексии и активность, но рефлексия, увы, не ведет к росту числа телезрителей.
Напускной идеализм марксиста и глубоко запрятанная коррумпированность католика, продавшегося, чтобы благополучно доплыть до пенсии, – сочетание, честное слово, невыносимое.
– Ваш материал о Гватемале, про исчезновение тамошних профсоюзных деятелей, – это высший класс. Да и про Рио-де-Жанейро, где полиция стреляла по детям, за него вам еще в Оттаве присудили премию, – вот, вот что нам нужно. Это был дорогой материал, но думаю, он уже оправдал себя. Его у нас купила Германия для своего третьего канала и Швеция… Хм, Беньямин! Раньше я знал его почти наизусть…
Артур Даане снова увидел тела семи или восьми мальчиков и девочек на высоких столах с каменными столешницами, пальцы ног, нелепо торчавшие из-под серых покрывал, к щиколоткам привязаны бирки с фамилиями, недолговечные картонки с буквами, начавшие разрушаться уже здесь, на столе, равно как и те лишенные жизни тела, чьи имена должны были хранить эти картонки.
– М-да, Беньямин… Трагическая судьба, – сказал редактор. – И все-таки, если б у него в тогда Пиренеях после первой же неудачи не опустились руки, то все бы обошлось. Выжил бы. Потому что испанцы хоть и были фашистскими свиньями, но евреев Гитлеру не выдавали. Не знаю, мне как-то не по душе самоубийства. Со второго раза у него бы все получилось, как и у остальных. Представьте себе. Беньямин в Америке, вместе с Адорно и Хоркхаймером. [4]4
Хоркхаймер Макс (1895–1973) – немецкий философ и социолог, основатель Франкфуртской школы в немецкой философии и социологии и директор Института социальных исследований во Франкфурте-на-Майне, с 1939 г. переместившегося из Европы в США, где и находился по 1949 г.
[Закрыть]
– Да, представьте себе, – сказал Артур.
– Хотя Бог его знает, может быть, ом и бы все перессорились, – продолжал размышлять редактор, – с эмигрантами всяко бывает.
Редактор встал. Некоторые люди, подумал Артур, даже в приличных костюмах выглядят так, словно лежат в грязной пижаме в постели и никогда уже с нее не поднимутся. Он взглянул на потрепанного человека у окна, глядевшего на другой флигель телестудии. Здесь производится весь тот вязкий ил, который тягучей кашицей расползается по королевству Нидерланды по многочисленным каналам, где отечественные подражания смешиваются с донными осадками трансатлантического образца. Все его знакомые говорили, что никогда не смотрят телевизор, но по разговорам в кафе и в гостях у друзей ясно было обратное.
Артур поднялся, чтобы уйти. Редактор открыл дверь в соседнее помещение – огромный зал, где уйма людей молча сидели за компьютерами. Чем так жить, лучше умереть; Артур еще долго помнил, что именно такая мысль мелькнула у него в тот момент. Но с его стороны это было несправедливо. Ведь что он знал о сидящих здесь людях?
– Что они делают? – спросил он.
– Подбирают базовые данные для выпусков новостей и дискуссионных клубов. А потом мы вручаем эти данные нашим гениям, когда им предстоит вещать на темы, о которых они понятия не имеют. Вот, пожалуй, и все. Факты, исторический анализ и так далее. Мы поварешкой черпаем информацию из компьютеров, а потом слегка отжимаем.
– Получается блюдо, которое легко переварить.
– Нет, еще нет. Из того, что мы туг стряпаем, в дело идет в лучшем случае одна десятая. Большего зритель не выдержит. Мир становится, таким образом, до безобразия узок, но большинству и это не по силам. Думаю, многим хотелось бы, чтобы он вообще прекратил свое существование. Во всяком случае, зритель не любит, когда ему о нем напоминают.
– А как же тогда мои профсоюзные деятели?
Их он сейчас тоже увидел. Фотографии на столе в офисе правозащитной организации в Нью-Йорке: жесткие, скрытные лица с индейскими чертами. Их похитили, замучили до смерти, а потом про них все забыли.
– Можно я отвечу честно? Вы – наше оправдание. А часы, когда никто не смотрит телевизор, тоже надо чем-то заполнять. Всех уже тошнит от Боснии, но вот если бы вы поехали в Боснию…
– Мне больше не хочется в Боснию.
– …то привезли бы оттуда такой материал, который заинтересует хотя бы меньшинство и с которым нестыдно выйти на международный уровень. Всегда хорошо, медаль под стеклом в холле. Третий мир тоже почти невозможно пропихнуть, но если вы туда соберетесь…
– Третий мир сам скоро будет здесь. В общем-то он уже здесь.
– Но об этом никто и знать не хочет. Он должен оставаться вдалеке.
Оправдание. «Скука – это физическое ощущение хаоса», прочитал он недавно где то. Не было ни малейших оснований вспоминать эту фразу сейчас. Или наоборот? Эти фигуры за компьютерами в зале, мужчины, женщины, никак не становились настоящими людьми. Вспышка!Тот миг нечеловеческой, звериной скуки, отвращения, ненависти, страха был вызван экранами с приросшими к ним людскими телами: это были сиамское близнецы, полулюди-полумашины, постукивающие пальцами по легким клавишам, в результате чего на экранах появлялись слова, которые немедленно будут стерты, но прежде за одну секунду расскажут о хаосе, каковым является мир. Он попытался найти подходящее слово для звука клавиш среди царящей в зале тишины. Больше всего этот звук напоминал тихое кудахтанье одурманенных кур. Он видел, как по клавишам бегают чисто вымытые руки. Они работают,подумал он, вот это-то и есть работа.Как сказал редактор? Черпаем данные поварешкой, отжимаем. Они залезают поварешкой в судьбу, в недавнее прошлое. Данные – то, что нам дано. Но кто нам это дает?
– И все-таки я бы очень хотел сделать программу про Беньямина, – сказал Артур.
– Попробуйте на немецком телевидении, – ответил редактор. – Там вас уже достаточно хорошо знают.
– Немцы хотят от меня передачу про наркотики, – сказал Артур. – А кроме того, они хотят понять, почему мы их все еще ненавидим.
– Я их не ненавижу.
– Если я им это скажу, они откажутся от программы.
– Ах вот как. Ну ладно, до свидания. Вы знаете, что мы всегда открыты для любых предложений. Во всяком случае, если они исходят от вас. Преступления в среде новых русских, мафия, ну и так далее, поразмыслите над моими словами.
Дверь захлопнулась у него за спиной. Он шел через зал, как через церковь, с ощущением огромного одиночества. Какое он имел право судить людей, здесь сидевших? И опять мелькнула та же мысль, которая сейчас, в этом новом, берлинском сейчас, с такой силой нахлынула на него. Каким бы он стал, если б его жена и ребенок не погибли?
– Не ребенок, а Томас. – Голос Эрны. – Если ты лишаешь его имени, значит, ты хочешь, чтобы не было и его самого.
– Его и так нет.
– Он имеет право на собственное имя.
Иногда Эрна бывала очень строгой. Во всяком случае, этого разговора он никогда не забудет. Но в возникшем теперь вопросе было что-то дьявольское. Каким бы он стал? Несомненно, у него не было бы той свободы, которая теперь отделяет его от других людей. Уже одна эта мысль вызывала у него чувство вины, приводившее в замешательство. Он так привык к своей свободе, что уже не мог вообразить иной жизни. Но эта свобода означала в то же время и пустоту, и бедность. Ну и что? Он видел ту же пустоту и бедность у других, у людей с детьми, которым, как он однажды сказал Эрне в минуту пьяной откровенности, «не придется умирать в одиночестве».
– Артур, уймись. Терпеть не могу, когда на тебя находит сентиментальность. Тебе не к лицу.
Он засмеялся. Размышляя об этом, он дошел всего лишь до Штайнплатц. Удивительно, как много всего можно обдумать за какие-нибудь двести метров. На двери большого дома на Уландштрассе ему в глаза бросилась начищенная до блеска медная ручка. На ней лежал сугробик, точно взбитые сливки на шарике золотого мороженого. («Ты навсегда останешься ребенком».)
Он подошел и скинул снег. И увидел свое отражение – широченное тело, колобок-лилипут, горбун из «Собора Парижской Богоматери». Посмотрел на свой непомерно увеличенный нос, на глаза, расплывшиеся в разные стороны. Разумеется, он показал себе язык – самый правильный способ прогнать призраки. Сегодняшний день предназначен не для этого, напиться и то было бы лучше. Нынче весь день должен быть свободным, он будет делать всякие несуразности, и снег ему в этом поможет, снег – гигантский маскировщик, который сейчас медленно, но верно покрывал, точнее, скрывал от глаз все частности, все, что лишнее.
Откуда же появляются эти внезапные озарения? У Каспара Давида Фридриха есть две картины, которые Артуру захотелось немедленно увидеть, странные, полные пафоса полотна. Может быть, на витрине книжного магазина он углядел книгу об этом художнике? Он не мог вспомнить. Фридрих – вообще-то Артур его не очень любил, но сейчас отчетливо представил себе эти картины. Безлюдные развалины монастыря, все исполнено символикой. Смерть и заброшенность. И вторая, почти нелепая, – пейзаж с лиловыми горами, туман, волнистая, усыпанная острыми камнями равнина, в середине – немыслимо высокая скала с крестом на вершине. Крест узкий, или тонкий, как обычно говорят? И опять же, слишком высокий, а у подножия креста женщина в платье, похожем на бальное, – дама, убежавшая с бала у герцога П., даже не накинув манто, и преодолевшая в своем легком платье трудный путь к этой причудливой скале, на которой страдает распятый Спаситель, без Богородицы и без Крестителя, без римлян и первосвященников, в недосягаемом одиночестве. Все они слишком далеко, чтобы можно было рассмотреть выражение на лицах. Женщина помогает мужчине, отставшему от нее на несколько шагов, выбраться на ровную площадку на вершине горы, но при этом она на него не смотрит, а у него спина человека, который ни за что на свете не обернется. Эту картину надо разглядывать либо в благоговейной религиозной тишине, либо под иконоборческий раскатистый хохот, на который откликнулись бы эхом лиловые горы. Но замкнутый мир Фридриха исключал второе – это могла допустить его, Артура, испорченная душа человека XX столетия. Никакой иронии, апофеоз великого страдания. Он же сам говорил, серьезный народ. И все же у него был друг, с которым можно хорошо посмеяться, написавший о Каспаре Давиде Фридрихе целую книгу. Так вот, Виктор ему объяснял, почему у Фридриха все мужчины всегда повернуты спиной к зрителю: это связано не то с прощаньем, не то с неприятием мира, с чем именно, Артур не помнил. Может быть, он вспомнит, если увидит саму картину, она висит в замке Шарлоттенбург, совсем недалеко.








