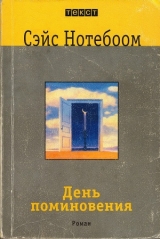
Текст книги "День поминовения"
Автор книги: Сэйс Нотебоом
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
Эта картина казалась ей устрашающей. Внутренне она постоянно протестовала против высокопарных фраз, и все же иногда трудно было не поддаться чарам некоторых формулировок, словно тебе внушал что-то волшебник или шаман: хоть слова и непонятны, но откреститься от них невозможно. Это чувство возникало у нее не тогда, когда она слушала морковку в костюме, а позднее, когда она сидела дома или в библиотеке, вчитываясь в архитектуру длинных – предлинных гегелевских фраз и подчеркивая их в книге. Ей казалось, что в подчеркнутых фразах она разобралась до конца, но час-другой спустя у нее уже не получалось воспроизвести их, и от них оставалась только их религиозная, их фантастическая составляющая. Неужели всерьез можно было думать, что «Наполеон был человеком полностью удовлетворенным, который в силу своей окончательной удовлетворенности завершил ход исторического развития человечества»? Где и что вы видите вокруг нас, что можно назвать «завершенным»? И все же у нее было ощущение, что нехорошо так думать об этих гегелевских словах, что она не поддается их обаянию только потому, что чего-то в них не уловила. Как это сформулировал Арно? «А у вас нет ощущения, что Гегель, живя в то далекое время, впервые понял идею свободы и в этом смысле на самом деле можно говорить о завершении эпохи?»
Возможно, но это же еще не означает, что кончилась история? Потому что если именно в тот момент родилось осознание настоящей свободы, если сказочные фигуры господина и слуги ушли со сцены, как-в пьесе Гольдони, то ведь тогда вдвойне ужаснее, что в том самом городе и в той самой стране, где прозвучали и были написаны эти слова, слуги стали своими собственными господами, а потом сами же надели на себя смирительную рубашку в сотни раз худшей несвободы! Слуги, которые искали себе господ ради того, чтобы оставаться слугами, при господах, которым они могли бы быть равны, однако не были, – какой идиот это выдумал! Обман стал еще более вопиющим. Нелепица, за которую заплатили своей жизнью миллионы людей.
– Это не его вина.
С кем же это она разговаривает? Не лучше ли, если она будет заниматься только своей королевой. Терпеливо изучать свидетельства, фолианты, источники, наводить порядок только в своем собственном огороде? Она уже поняла, что та узкая область, которую она выбрала для своего исследования, разрасталась день ото дня: за каждым фактом и документом, который ей удавалось разыскать, вставали все новые и новые факты и документы: она находила ссылки на диссертации о папских посланниках в Сантьяго, о союзах между магометанскими королевствами, о влиянии бенедиктинцев. Зачем надо было выстраивать эту немыслимо разветвленную, лабиринтоподобную сеть, о которой Элик знала так много и одновременно так мало, как соотносились эти кропотливые, терпеливые поиски истины с грандиозными и вдохновенными теориями, куда больше интересными для публики? Означало ли это, что она сама и ей подобные годами работают для того, чтобы внести свою крохотную лепту в подготовку великого мига, мощного апофеоза?
Она встала и потянулась. Теперь она снова услышала ветер, его вой и шепот. Почти физическое ощущение одиночества, никто не мог объяснить ей, в чем здесь секрет. Ощущение полной автономности, безразличия к внешнему миру, когда тебя окружает тобою же созданная тишина, неподвижная, всепроникающая, целительная тишина.
В Амстердаме целые толпы людей просиживают штаны в кафе, интересно, читает ли кто-нибудь из них хоть что-то, кроме толстых и скучных газет. Может быть, в огромном Берлине, где легко оставаться безымянным, это не так заметно, но дома у нее часто складывалось впечатление, что ее соотечественники постепенно впадают в детство, что идет процесс необратимого и невыносимого уплощения человеческого сознания. Люди пытаются доказать свою яркость тем, что все дружно смеются над одними и теми же анекдотами, решают одни и те же кроссворды, покупают – но не читают – одни и те же книги, испытывая при этом такое самодовольство, от которого делается душно. Все ее знакомые увлекались йогой, ездили в отпуск в Индонезию, занимались восточными единоборствами, у всех тысяча дел, лишь бы не сидеть дома, и почти никто не мог выдержать общения с самим собой.
– Не заводись на ровном месте!
Кто это ей сказал, если не она сама? Она подошла к треснувшему зеркалу и взглянула на себя. Нет, лучше не смотреть. Что могут рассказать ей эти глаза? Они не мамины. Отцовские. Два черных угля, унаследованные от неизвестного. Как-то раз она поехала в Мелилью и бродила по ней два дня. Кошмарное место. Испания не Испания, Марокко не Марокко, ислам не ислам. Она всматривалась в мужские лица и размышляла о том, что не хотела бы, чтобы кто-то из этих людей оказался ее отцом. На этих лицах она тысячу раз видела свои собственные глаза, но они смотрели на нее не так, как отцовские глаза должны смотреть на дочь. Дочь. Она осторожно приблизила руку к шраму, слегка дотронулась. Она никогда к нему не прикасалась. Тело ее резко окаменело, словно неслышный голос вдруг призвал ее к порядку. Она ли это сейчас коснулась своей щеки? Элик будто со стороны видела, как стоит около зеркала, негнущаяся, точно кукла. Даже глаза приняли другое выражение. Было ясно, что существуют вещи, которых нельзя делать.
Это снова мы. И всякий раз ночью, так уж получается. Хор у Софокла имеет собственное мнение. У нас своего мнения нет. Хор в «Генрихе V» требует справедливого суда. Мы ничего не требуем. Мы выбираем ночь, потому что ночью вы неподвижны. Это время размышления, подведения итогов или просто сна, когда вы больше всего похожи на мертвых, но на самом деле живы. Сейчас наши герои все на своих местах. Арно читает античных историков, это из-за Элик. Точнее, он читает Полибия. [33]33
Полибий (ок. 200 – ок. 120 до н. э.), древнегреческий историк.
[Закрыть]Его удивляют острота мысли, научная манера, он обнаруживает, что чувствует себя современником автора. Он слышит ветер за окном и читает о культурах, поглощающих друг друга, переходящих одна в другую. Две тысячи лет назад люди думали, что история – это некое фундаментальное и органичное целое. Человек в Берлине отрывает взгляд от книги и размышляет о том, согласен ли он с таким мироощущением. Затем читает дальше, пока ночь не побеждает его. Зенобия менее вынослива, она уже давно заснула, сидя над статьей про межпланетную станцию «Сервейер», которая летит к Марсу и к 12 сентября текущего года будет находиться в пути уже 309 дней, за это время она должна пролететь 466 миллионов миль. Нет, мы не можем сказать с уверенностью, все ли получится так, как задумано, и точно ли к 2012 году человек высадится на Марсе. Если вы тогда еще будете в живых, то вы сами об этом узнаете. Что для нас сейчас важно, так это пространственное изображение линий, соединяющих наших героев с теми предметами, которыми они занимаются, а также друг с другом. Артур спит, он потерян для всех и для всего, а Виктор сидит у себя в мастерской и всматривается в доисторическую окаменелость: кусок кости, которому по меньшей мере сто миллионов лет. «Как ты не знаешь путей ветра». Кости и незнание, загадка, определяющая суть его следующего произведения. Он ничего никому не расскажет, а сейчас сидит совершенно неподвижно. Он хочет, чтобы загадка стала видимой в том, что он сделает. «И все это вписывается в Твою книгу». Мы видим, видим тонюсенькие линии, тянущиеся от взятого в заложники Полибия, который трудится, сидя за столом, к Арно, от него к Зенобии и первому человеку на Марсе, оттуда – к военному походу Урраки и к Элик, затем – к Виктору и к тому году, когда его окаменелость была живой костью, далее – к ^Екклесиасту и, наконец, к сну без сновидений, в котором пребывает Виктор. И наша главная задача – удерживать все это вместе. Ваша способность существовать во времени ограниченна, ваша возможность размышлять во времени неисчерпаема. Световой год, человеческий год, Полибий, Уррака, «Сервейер», фрагмент доисторической кости, линии, пространственная фигура в четвертом измерении, связывающая между собой этих пятерых, – созвездие, которое позднее распадется, но еще не пришел срок. Мы почти не будем больше появляться, много вы от нас не услышите, еще несколько фраз, а потом еще несколько слов. А именно, четыре слова.
Проснувшись, Артур как раз успел услышал, как улеглась буря, причем улеглась в буквальном смысле слова, такого звука умеют добиваться только гениальные музыканты-ударники, последний ветерок, прикоснувшись к каждой веточке каштана, по вертикали, но неспешно, спустился с неба на землю, напоследок поиграл мертвыми листьями во дворе, прошуршал, прошелестел последнее слово и замер. Чуть позже до слуха донесся звук первых капелек настоящего дождя, их можно было считать.
В голове вертелось столько мыслей, что даже не хотелось начинать их обдумывать, лучше быстро встать, побриться, чашка кофе и на улицу. Первым делом поснимать. Чемпион мира по расставанью. Как можно заснять расставанье? Листья на земле. Но листья падают не по своей воле, это деревья роняют их. Нет, здесь нужно что-то другое, движение, означающее покидание. Тот, кто сам уходит, всегда имеет преимущество. А вот другой, другой остается один.
Он берет свою камеру и отдельно звукозаписывающую аппаратуру, на этот раз ему важно как можно лучше записать звуки, штатив для микрофона, наушники. В той съемке, которую он задумал, синхронность не имеет значения. Словно вьючный осел, он с трудом спускается с лестницы. Слишком много слишком тяжелых предметов, как всегда. Дон Кихот, бормочет он себе под нос, ничего лучшего ему в голову не приходит. Всю аппаратуру он завернул в полиэтилен, потому что дождь усилился. Прощание, колеса, звук шин по асфальту. Час пик, это удачно. По Вильмерсдорферштрассе он идет до Кантштрассе, потом доходит до парка Литцензее. Сейчас здесь ни души. Из парка, расположенного чуть ниже улицы, он сможет поснимать без конца мчащиеся друг за другом колеса, колеса и только. Чтобы невозможно было различить марки автомобилей, ему важно движение само по себе, вращение и разбрызгиванье луж, туман из грязных капелек вокруг вращающихся дисков, он знает абсолютно точно, как это будет выглядеть, нечто серое и угрожающее, большие колеса автобусов и грузовиков, быстро-быстро вращающиеся колеса легковых машин, вот они останавливаются, отталкиваются, затем снова движение, гонки, преследование. Лишь нанимавшись вдоволь, он переходит к записыванию звуков. Стоя на тротуаре, старается протянуть микрофон как можно ближе к колесам, в наушники он слышит шуршащие и чавкающие звуки, тысячи резиновых шин мчатся сквозь его голову, теперь это уже не женщина, которая два раза ушла от него совершенно неожиданно, теперь это резина на асфальте, не поддающийся расшифровке механический звук, предупреждение, к которому он не станет прислушиваться. Лишь промокнув до нитки, он идет домой. Несколько часов спустя звонит в дверь дома Зенобии.
– Кто там?
Раскатистый голос Зенобии в переговорном устройстве дома на Блейбтройштрассе.
– Это я, Артур!
– А-а, Мальчик-с-Пальчик!
– Он самый! Только можно я не буду звать тебя Спящей красавицей или Белоснежкой?
– Я тебя умоляю! Я в другой весовой категории, чем они.
Зенобия стоит наверху лестницы, в дверях своей квартиры.
– Я уже думала, что ты вообще никогда не придешь. Знаешь, что мне рассказал Арно? Сказал, что она красивая.
Артуру вопрос о том, красива ли Элик, даже в голову не приходил. Он вспоминает ее волосы, словно тончайшие железные проволочки. Когда он положил руку ей на голову, они так спружинили, что пальцы не успели почувствовать под ними твердой основы. Шлем из пружинистой ткани.
– А ты что, сам не знаешь?
– Не знаю.
– Значит, она необыкновенная.
– Ты меня в квартиру-то пустишь?
В гостиной с высоким потолком было прохладно. Массивная деревянная мебель. Стены белые, без украшений.
– На стены нельзя ничего вешать. Надо время от времени ставить что-нибудь на пюпитр и долго это разглядывать.
Пюпитр стоял совершенно сам по себе, метрах в трех от большой печки, выложенной фаянсовыми плитками, которую нельзя было топить.
– Печка – моя гордость. Правда, красивая?
– Меня больше интересует вот это.
На пюпитре стояла фотография планеты Марс.
– Тогда скажи что-нибудь умное. Что ты здесь видишь?
Он всмотрелся. Неровности, пятна, колеи, светлые и темные пятна. Очень таинственно, что можно по этому поводу сказать?
– Это какие-то письмена?
– Недурно, недурно. Да-да, тайные письмена. Господи Боже мой, я прямо дождаться не могу.
– Чего дождаться?
Зенобия искренне возмутилась:
– Ах, Артур! Но ведь мы туда скоро прилетим! Пока мы с тобой здесь сидим-беседуем, одинокий космический аппарат летит вот сюда!
Она ткнула пальцем в середину устрашающе пустынной планеты на фотографии.
– Если все пойдет по плану, Господи, это потрясающе, приземление с помощью баллонов, а потом такая вот малюсенькая машинка, прямо игрушечка, поедет по Марсу, ты подумай, Артур, по-настоящему поедет, на колесиках, др-др-др, др-др-др, вот такая вот, – и она показала руками ее размеры, как рыбаки показывают величину пойманной рыбы, только привирая в другую сторону, – вот такая махонькая! И она расскажет нам всю правду об этих тайных письменах.
Она сунула ему в руки несколько компьютерных распечаток. Он ничего не понимал.
– Начало операции «Траверс». Измерения «А Пэ Икс-пять».
– А что такое «А Пэ Икс-пять»?
– «Alpha Proton X-ray». Исследование с помощью излучения. А в распечатках возможные программы. Если мы туда благополучно долетим. Программы исследования земли под колесами машинки.
Земли, надо же, как дико звучит.
– И ты думаешь, что все получится, как задумано?
– Не сомневаюсь. Пятого июля он уже будет там разъезжать и посылать нам сюда фотографии. Камней, скал, состава почвы, вот посмотри…
Зенобия достала из ящика фотографию безжизненного ландшафта с отдельными лежащими там и сям камнями. Освещение было свинцово-серым, и обломки камней отбрасывали в нем резкие, четкие тени, еще более подчеркивавшие пустынность пейзажа.
– Это Марс?
– Нет, чучело, Марс так близко еще не снимали. Это Луна, но, может быть, окажется, что на Марсе то же самое. Во всяком случае, деревьев нет ни там, ни там.
– С виду пустовато. Подходящее место для автобусной остановки.
– Дайте только срок!
– То есть? Мы что, туда полетим?
– А как же! Будем там жить. Лет через пятнадцать на Марсе высадится первый человек. А пока мы можем посылать туда миссии каждые двадцать шесть месяцев. Это связано с расположением орбиты Марса относительно нашей орбиты. Эта маленькая машинка не сможет вернуться, но лет через восемь мы уже добудем первые марсианские камни. Смотри, вот моя машинка…
Она показала ему фотографию детской игрушечной машинки.
– И разработала ее женщина! Хочешь чая? Русского? По вкусу в точности пороховой дым.
– Выпью с удовольствием.
Он сел.
– Русский чай, русская увлеченность. Ты, наверное, думаешь: и зачем этой старухе разрабатывать какие-то машинки!
– Чушь, я вовсе так не думаю.
– Послушай-ка меня серьезно, раз в жизни, ладно? Никакой сентиментальности. В детстве я жила в Ленинграде, и вот во время блокады, в ту ужасную зиму, когда от голода умерло столько людей… меня тогда волновали две мысли. Во-первых, мысль о том, что если только это станет возможным, то я буду есть, и есть, и есть, не переставая… согласись, что мне это вполне удалось. Но вторая мысль была совсем другая: о том, что я хочу оказаться как можно дальше от этого мира, да-да, клянусь тебе, я, малявка, думала тогда так. Я не хочу здесь больше жить, думала я, и однажды зимней ночью, когда было совершенно темно, потому что отключили электричество, я посмотрела на звезды и подумала: вот туда я и хочу, наш мир – не единственный на свете, неправда, не может быть, чтобы, кроме этой вони, холода, смерти, больше нигде ничего не было. Если ты хочешь представить себе, что я тогда чувствовала, всмотрись в Верины картины. Мы с ней близнецы, ты же знаешь, она – что называется, пессимист… темная сторона моего существа, но так раньше не было, из-за этой самой тьмы, что ощущается в Вериных картинах… я решила учиться, и до сих пор из-за этой же… и я тебе честно скажу, что никогда, ни до, ни после, я не испытывала такого счастья, как когда запустили первый спутник: я убедилась, что это возможно, что все сбудется… потому что таково мое глубочайшее убеждение, это наш долг – вырваться в Космос, подальше от этой промозглой навозной кучи. Тебе знакомо такое чувство? Наша Земля слишком стара, мы раздели ее почти донага, мы обошлись с ней бессовестно, и она отомстит нам. Мы больны от наших воспоминаний, здесь все заражено, ах, Зенобия, помолчи-ка лучше и напои гостя чаем, но все же, Артур, посмотри на красоту этих машин и сравни их с нашим захватанным, залапанным… ладно, ладно, не буду больше. Так странно, иногда кажется, что молодежь совсем не интересуется… я же вижу, что ты надо мной смеешься.
– Вовсе не смеюсь. Но сколько времени туда лететь, этому, первому…
– До Марса четыреста шестьдесят шесть миллионов миль.
– А-а, ну-ну.
– Время в пути триста девять дней.
– И назначение человека – туда слетать?
– Я готова отправиться завтра же. Но меня почему-то не берут. Слишком много ем.
– Но послушай, Зенобия…
– Ладно уж, говори прямо. Но все-таки закрой на минуту глаза и почувствуй,как они туда летят… Прямо сейчас, пока мы тут сидим. «Вояджер», «Патфайндер»… а скоро и «Сервейер»…
– И все летят к этим лысым каменюгам. Только потому, что они существуют?
Маловерный ты мой. Так надо, потому что так надо. Пусть не на твоем веку, но уж точно на веку твоих детей…
– У меня нет детей.
– Прости. Я дура. Не сердись на меня.
– Мне не за что на тебя сердиться. Это я не должен был так говорить. Но покажи мне фотографии, про которые ты говорила по телефону.
– Да-да, конечно же. – Лицо ее снова засияло. – Тоже почти что Марс, но только с водой.
Она принесла ему папку с фотографиями, проложенными папиросной бумагой.
– Все напечатаны при жизни фотографа. Садись за стол. Это две работы Волса. [34]34
Волс, настоящее имя Альфред Отто Вольфганг Шульце (1913–1951) – немецкий художник и фотограф, с 1933 г. жил в Париже. Увлекался сюрреализмом и китайской философией. Иллюстрировал Кафку, Сартра и других родственных ему по духу авторов.
[Закрыть]
Он осторожно снял тонюсенькую бумажку с первой фотографии. На паспарту карандашом было написано: «Wols. Ohne Titel (Wasser)». Но разве это вода? Эта застывшая, похожая на лаву масса, черная, серая, с яркими бликами, изборожденная морщинами, а дальше опять словно отполированная жирная поверхность, то сверкающая, то в мелких неровностях. Вот так выглядела где-то и когда-то поверхность воды. Он хотел провести по ней пальцем, но вовремя спохватился. Это именно то, к чему он стремился. Безымянный, никем не созданный и никем не названный мир явлений должен уравновесить наш мир, мир имен и событий. Я хочу сохранить вещи, которых никто не видит, на которые никто не обращает внимания, я хочу защитить самое обычное от исчезновения.
– Что с тобой, Артур, ты не смотришь.
– Я вижу слишком многое.
– Тогда погляди вот эти. Альфред Эрхардт. Серия называется «Прибрежные отмели».
Его глазам предстали одновременно и хаос, и структура, уйма несуразностей, линии, внезапно отклоняющиеся в сторону, разделяющиеся на несколько волосков и снова сходящиеся вместе. Но произносить слова «хаос и структура» он не хотел. Они прозвучали бы отвратительно.
– Интересно, как он это снимал. По некоторым снимкам можно подумать, что он висит прямо над тем, что снимает, но ведь это невозможно. И светом он пользуется потрясающе, но…
– Но?
Извечная проблема. Нечто природное, созданное не по сознательному плану, излучает великую, никем не замышленную красоту. Но кому же принадлежит эта красота теперь? Природе, которая, не задумываясь, выдает эту красоту на-гора, как она делает это уже миллионы лет подряд, совершенно не думая о людях, способных эту красоту заметить, или фотографу, сумевшему эстетически или драматически пережить увиденное и как можно лучше воспроизвести? Фотограф представил нам неслучайный фрагмент действительности, которая сама по себе ко всему безразлична.
– Это связано с автономностью. Он выбрал кусочек пейзажа, но не может им овладеть. Он присваивает себе этот кусок, но не можетчпроникнуть в него, и искусство его заключается именно в том, чтобы дать это почувствовать. Фрагмент по-прежнему принадлежит только самому себе, а фотограф сохранил его для нас. Море стирало этот узор уже сто тысяч раз, но если я завтра пойду на это место, то увижу то же самое, изменившееся лишь на какой-то волосок…
Зенобия кивнула:
– И это все?
– Нет, конечно,' не все. Теперь на сцене появляемся мы с тобой. Но что бы мы ни делали, хочешь – можешь увеличить фотографию или повесить ее здесь на стену – изображение остается неизменным: это то, что какой-то человек увидел и сфотографировал на песчаной отмели двадцать первого января тысяча девятьсот двадцать первого года. Тут ничего изменить невозможно.
Зенобия положила ладонь на его лоб:
– Чувствую, что здесь все кипит. Великие события?
– Может быть, наоборот.
Артур не мог продолжать этот разговор. Тело, овладевшее твоим телом, восторжествовавшее над твоим так, словно тебя самого рядом и не было, каким словом его назвать? У тела этого было имя, но в тот момент в нем было больше от природы, чем от имени, упоение сделало его безымянным. Возможно ли такое или это-то и есть самое главное? Он почувствовал, как в нем поднимается волна огромной нежности, и встал.
– Сколько они стоят? – Он указал на фотографии. – Вернее, сколько будет стоить одна из них. Большего я все равно не смогу себе позволить.
Он снова увидел перед собой беззащитное белое тело. Как можно спасти его от исчезновения?
– Не ной. Лучше выбери, какую ты возьмешь.
– Слишком трудно. Надо будет присмотреться получше. Я еще зайду.
Он хотел скорее попасть в библиотеку.
– Меня пригласили на съемки репортажа о России, – сказал он.
– Здорово. Чтобы все знали, как у нас там дерьмово?
– Наверное. Но я только в роли оператора.
– Что ж, давай. Все равно никто и никогда не сможет в нас разобраться.
Молчание.
– Послушай, Артур!
– Да?
– Давай ты не будешь выбирать фотографию, а я сама выберу и подарю тебе ту, которая мне особенно нравится, но только не сейчас. Сейчас, я чувствую, ты хочешь поскорее уйти. Отправляйся к своей тайной цели, а я вернусь на Марс. Или, может быть, на Сатурн, потому что туда мы тоже скоро полетим. Может быть, мне удастся записаться в космонавты. Следующим в те края отправляется маленькое-маленькое межпланетное суденышко, ровно такое, чтобы я одна туда поместилась. А названо оно в честь твоего соотечественника «Гюйгенс».
– И когда ты отправляешься?
– Пятнадцатого октября. Прибытие в две тысячи четвертом. Так что считай, сколько лет лететь, в общем, всего ничего. Мы полетим вместе с «Кассини», он оставит меня в моем «Гюйгенсе» на Титане, а сам еще несколько лет полетает вокруг Сатурна. Осталось ждать девять месяцев, я сгораю от нетерпенья.
– Да ну тебя.
– Если ты собрался иметь дело с русскими, то привыкай к нашей сентиментальности. Сатурн изумителен, намного красивее Марса, где только стужа и больше ничего. В Сатурне Земля уместилась бы семьсот пятьдесят раз, состоит он из одних газов, дивно легких, если бы на свете был достаточно большой океан, то Сатурн плавал бы по его поверхности, как воздушный шарик. У тебя бывает такое ощущение, когда хочется полностью раствориться, исчезнуть? В этом и состоит прелесть цифр, никто не знает, какой соблазн таят в себе эти нули.
– Я думал, что ученые не страдают подобными фантазиями.
– Ученые – это либо вычислительные машины, либо мистики. Выбирай, что тебе больше по душе. Но я-то ученый-неудачник. Стою в стороне от событий и только пишу дурацкие статейки.
– Я выбираю сентиментальные русские мистические вычислительные машины. Но сейчас мне пора.
Он хотел взять свою куртку и остановился около компьютера. Весь голубой экран занимала какая-то формула, сообщавшая что-то на своем тайном языке.
– Что это такое?
– Стихотворение.
Он наклонился поближе к экрану. Если это стихотворение, то оно выражало реальность, крайне далекую от его жизни, – мир пугающей чистоты, в котором ему не было места.
– А чем это стихотворение отличается от настоящего?
– Настоящие стихи пишутся горем или кровью или грязью, а это – ни то, ни то. В этом стихотворении нет языка, значит, в нем нет и чувств. И чем твое стихотворение красивее, тем оно опаснее. С помощью этой же самой чистоты можно создать самые жуткие изобретения.
Она посмотрела на формулу. Если это можно назвать чтением, то хотел бы он знать, что она сейчас читает. Зенобия рассмеялась.
– Все математики – в какой-то мере духи, – сказала она. – Они живут в безвоздушном пространстве и пишут друг другу письма на таком вот языке. Это мир существующий и одновременно несуществующий, ты не можешь ничего снять в нем своей камерой. Отправляйся-ка ты лучше в Россию и не забудь, что я говорила тебе о сиренах.
– Даю слово.
Он абсолютно не понимал, что она имеет в виду, но сейчас он не мог размышлять об ее словах. Ему внезапно стало ясно, что он успеет, если поторопится. Она еще сидит в библиотеке, склонившись над книгой, за тем же столом, что и в первый раз. Запыхавшись, он вбежал в читальный зал, однако на ее месте сидел мужчина с такой индейской внешностью, что Артур буквально отпрянул от неожиданности. Лишь пройдя по всем залам и коридорам, он поверил, что ее действительно нет в библиотеке. Это означало, что теперь он будет вести себя как мальчишка: немедленно поедет в кафе «Эйнштейн», где ее тоже не окажется. Все это уже было в начальной фазе его жизни, когда он ездил на велосипеде мимо домов одноклассниц, замирая от страха, что они его увидят. Он решительно развернулся, как солдат на параде. Издалека приближалось такси, точно знак чего-то. Когда шофер спросил его, куда ехать, он понял, что вопрос этот даже не приходил ему в голову. Солдаты, парад. Что же, пусть так.
– К «Новой гауптвахте», [35]35
«Новая гауптвахта» – здание в стиле классицизма в центре Берлина, в годы существования ГДР – главный в стране памятник жертвам фашизма, в 1993 г. переименован и преобразован в памятник жертвам войны и насилия.
[Закрыть]– сказал он.
Когда-то, во время смены караула, он заснял там солдатские сапоги, от которых захватывало дух. Точно многоногое животное вышагивали эти молодые ребята, и подковки их сапог цокали по асфальту. Раньше здесь горел вечный огонь в память о жертвах фашизма. Теперь же стоит скульптура Кэте Кольвиц, разработка темы «пьета», страдающая мать, на коленях у которой лежит сын, тоже многое выстрадавший, – два типа страдания, навеки слившихся воедино в этой скульптуре. Артур вышел из такси. Солдат уже нет, растаяли в воздухе. Никто не увидит их чеканного шага, при котором носки сапог взлетали до высоты ремня на поясе. Он вспомнил возбужденные лица глазеющей публики, вспомнил, как тогда уже пытался понять, в чем же привлекательность этого зрелища. В механически-полном совершенстве, которое обращало людей в машины, лишенные всякой индивидуальности? Невозможно было представить себе, как такой вот отдельный робот способен ласкать женщину, и тем не менее общая картина каким – то образом возбуждала сексуальное начало, кто его знает, может быть, потому, что эти сапоги и шлемы напоминали о смерти и уничтожении. Он прошел к Дворцу Республики, где видел однажды, как толпа освистала Эгона Кренца, [36]36
Крени Эгон, политический деятель ГДР, в 1997 г. по обвинению в причастности к убийству граждан ГДР у Берлинской стены был приговорен к тюремному заключению сроком на 6,5 лет.
[Закрыть]человека, которого в конце концов смыло волной перемен. Год спустя в музее напротив под стеклом были выставлены атрибуты бывших правителей ГДР: очки Гротеволя, ордена и медали Ульбрихта, а у входа стояла фигура Ленина, больше человеческого роста, судя по виду, из цинка, руки в карманах, вызывающий взгляд, словно он сам, своими руками сделал огромную ракету у него над головой, – картины из прошлого, которому не дали времени как следует состариться, которое из-за собственной смехотворности и нежизнеспособности покрылось плесенью с такой непристойной быстротой. Но по лицам посетителей музея, разумеется, ничего не было видно, ни тогда, ни теперь. В этом-то и состоит парадокс: каждый человек сам по себе история, и никто не хочет в этом признаваться.
* * *
А потом? Потом ничего. Он решил ее больше не искать и стал ждать. В конце четвертого дня ему послышалось, что кто-то скребется у входа в его квартиру. Он открыл дверь, и она проскользнула в квартиру как кошка, и, когда он обернулся, она уже сидела в комнате, устремив взгляд прямо на него. Он не стал ей рассказывать, как ее искал, он ни о чем ее не спросил, и она ничего не ему сказала. Она никогда не называла его по имени, и он ее почему-то тоже, как будто на пользование именами был наложен запрет. Как и в прошлый раз, она молча разделась, после чего он сказал что-то, в форме вопроса, насчет пилюли или презерватива, она отмахнулась от его слов, ответила, что это ни к чему.
– У тебя же нет СПИДа, и у меня нет СПИДа, а родить я не могу.
Когда он все-таки спросил ее, почему она в этом так уверена, она ответила:
– Потому что я не хочу рожать.
Он бы охотно продолжил этот разговор, но она уже легла на него во весь свой рост, а когда он попытался ее приподнять, осторожненько передвинуть в сторону, погладить ее, она стала резко сопротивляться, словно прочно окопалась на этой позиции, и пробормотала: «Нет-нет, НЕТ!», так что он понял, что если не оставит своих попыток, то она уйдет, и снова все было так же, как в первый раз, с той лишь разницей, что сейчас он позволил себе полностью отдаться происходящему, пожар удвоенной силы, за которым последовало такое же резкое, молчаливое расставание: человек пришел к нему, чтобы что-то получить, и получил то, к чему стремился, а потом исчез, и в последующие недели человек этот будет делать то же самое. Что ему, Артуру, остается про себя думать, было уже совершенно непонятно.
На вопросы Эрны он не мог ответить ничего вразумительного.
– Где наше прежнее взаимное доверие?
– Никуда не делось.
– Но ты как воды в рот набрал. Ведь мы всегда друг другу все рассказывали. Я спрашиваю не из любопытства. Я хочу понять, что с тобой происходит. Ты очень странно разговариваешь. Что-то явно не так. Ты знаешь…
– Что?
– Вчера было восемнадцатое марта.
18 марта – день авиакатастрофы.
– И я тебе впервые в жизни не позвонил. Не ты ли сама говорила, что рано или поздно должен наступить момент…
– Говорила, но все-таки…
Удар ниже пояса. Они оба опять были тут, с ним в комнате. Но они ничего не говорили. Они находились от него далеко, как никогда. Это каким-то образом было связано с их возрастом. Вообще не стариться – так не может продолжаться бесконечно.
– Не торчи в Берлине слишком долго. Это не идет тебе на пользу. Займись чем-нибудь.
– Я много чем занят.
– Чем-нибудь настоящим.
– Я скоро поеду с бельгийскими телевизионщиками в Эстонию. Голландцы хотят свозить меня в Россию, а бельгийцы в Эстонию. Там тоже уйма русских. Это достаточно настоящее дело?








