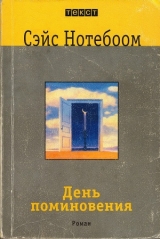
Текст книги "День поминовения"
Автор книги: Сэйс Нотебоом
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
Если Артур Даане думал об Элик Оранье, то обратного не происходило. В ее голове, лежавшей, действительно, на подушке совершенно неподвижно, роились мысли о лекциях, которые она слушала в Берлине. В рамках международного научного обмена Элик получила стипендию от Deutsche Akademische Austauschdienst, [20]20
Немецкая служба научного обмена.
[Закрыть]давшую ей возможность прослушать цикл из десяти лекций в университете. Читавший их профессор не был блестящим оратором, но одна его фраза не оставляла ее в покое. «Если вы едете в поезде…» Что-то в этом духе. Темой лекций была философия истории у Гегеля. Обычно ей с трудом удавалось следить за мыслью лектора, она ощущала в себе типично голландский протест против «мышления в параграфах», как она это называла, к тому же человек за кафедрой был с головы до ног покрыт академической пылью и говорил с саксонским акцентом, который она не всегда понимала. Но время от времени, как в этот раз, она слышала по его интонации, что приближается что-то живое, какая-то байка, рассказанная с личной ноткой, возможность перевести дух, прежде чем снова нырнуть в пучину доктринерства, которым некогда, в этом же самом городе, так упивались молодые люди ее возраста, слушая то же самое из уст самого Учителя.
– Если вы едете в поезде и смотрите не в окно, а на соседей по вагону, то по их речам и по тому, что они читают, а также по их позам и одежде вы составляете для себя некое о них представление. Если вы потом изложите это представление на бумаге, то вы будете думать, что изобразили действительную картину. Вы же правда их видели, может быть, даже говорили с ними. Но если все повернуть в другую сторону и вообразить, что один из них так же пристально наблюдал за вами, как вы за ним или за ней, то подумайте, насколько представление вашего попутчика о вашей особе будет соответствовать действительности? Вы же знаете, какую огромную часть себя вы не показываете, скрываете, прячете или с какой частью себя вы и сами еще не разобрались, – потому что существуют вещи, которые человек утаивает от самого себя, отрицает, не хочет знать. Прибавьте к этому еще арсенал воспоминаний, область того, что мы видим и читаем, мир тайных стремлений… чтобы вместить все это, не хватит целого поезда. И тем не менее каждый из троих или шестерых пассажиров, сидящих рядом в купе, думает, что за время пути, как бы это сказать… успела проявиться действительность. Но так ли это на самом деле?
После этих рассуждений он перешел к элементу вымысла в исторических трудах, даже тех авторов, которые предельно строго следуют фактам. Но что такое факты? Не поворачивая головы, она взяла книгу, лежавшую у нее на животе, и поднесла к лицу. Серо-коричневая обложка с размытой фотографией реки. На переднем плане тростник, по которому, похоже, гуляет ветер. Облаков не видно, но их, возможно, убрал издательский художник, чтобы освободить место для названия и имени автора: Bernard F. Reiliy. «The Kingdom of Leon-Castilla under Queen Urraca, [21]21
Бернард Ф.Рейли. «Леоно-Кастильское королевство в эпоху правления королевы Урраки» (англ.).
[Закрыть]1109–1126». Ha том берегу реки дома с пустыми черными окнами, темноватые силуэты деревьев, высокое здание с колоннадой, башня, высокая надстройка, вид на замок Самора с южного берега Дуэро.
– А зачем вам это нужно, писать диссертацию? – с самого начала спросил ее научный руководитель, как будто она сделала ему неприличное предложение.
– Потому что учительские ставки все уже заняты, – ответила она, но это было полуправдой. Те несколько уроков, которые она провела в разных школах для практики, не доставили ей ни малейшей радости уже только потому, что ей все время казалось, будто ее место не за учительским столом, а за партой, вместе с учениками, где еще столько незрелости, неопределенности, хаоса, особенно по сравнению с невыносимой взрослостью коллег-учителей, чья жизнь была четко очерчена. Часть детства, как она считала, у нее украли, и оставшуюся молодость она хотела растянуть насколько только возможно. Свобода и независимость стоили того, чтобы ради них жить почти впроголодь, а диссертация была идеальным оправданием для такой жизни; точно так же, как лекции этого зануды о Гегеле дали ей возможность съездить в Берлин. Ради Берлина можно послушать и о Гегеле.
– Почему вы хотите писать об Испании, я понимаю, так как знаю вашу предысторию, но почему именно об этой никому не известной средневековой королеве? И кем и чем она вообще-то правила?
Таков был второй вопрос руководителя, и ответила она как можно более обтекаемо:
– Во-первых, потому, что она женщина, – против такого аргумента в наше время никто уже возразить не может, – и именно потому, что она никому не известна. Это же так увлекательно…
Да, увлекательно, что правда, то правда: женщина среди мужчин, епископов, любовников, мужей, сыновей, мощная борьба за власть, за положение, единственная средневековая королева, по-настоящему правившая своим государством.
– Но достаточно ли найдется материала? Напомните, какой это век?
– Начало двенадцатого. И материала более чем достаточно.
– Достоверного или туманного? Я не очень-то разбираюсь в этом предмете, в любом случае это глухой закоулок истории. К тому же выходит, что мне и самому придется углубиться в вашу тему.
Да не утруждайтесь, хотела она ответить, я принесу вам уже полностью готовую работу, но писать я ее собираюсь очень долго, однако, разумеется, промолчала. Королева Уррака гарантировала ей свободу, по крайней мере на несколько лет, и за это она испытывала к ней благодарность. Королева Сорока. Однажды она поймала себя на том, что разговаривает с ней. Элик-оруженосец. Интересно, как Уррака выглядела. Кстати, на самом деле! Единственный ее портрет, который нашла Элик, был совершенно дикий, его напечатали в испанской книжке про ее друга и врага Гельмиреса, епископа Сантьяго, и на нем она выглядела карточной королевой, со сплюснутым свитком в правой руке, на котором значилось ее имя, но с одним «г» и буквой «к» вместо «с»: Uraka Regina. Трон, корона, скипетр, расставленные ноги в мягких розовых сапожках опираются на переплетенные мавританско-христианские арки, мантия – как небо с жирными звездами, корона – точно чудная коробочка, надетая набекрень, лицо – полная абстракция, не таким было лицо у женщины, которая когда-то жила на самом деле, которая говорила, смеялась, боролась, спала с мужчинами. Как же если не влезть в ее шкуру, то хоть приблизиться к пониманию такой жизни? И наоборот, каким образом могла бы Элик рассказать этой самой королеве Урраке о своей собственной жизни в совсем другую эпоху? Берлина тогда еще вообще не существовало. Хотя человеку, который привык мыслить категориями власти, вполне можно рассказать историю этого города, его взлетов и падений в борьбе за господство – конечно, оставаясь в рамках средневековых понятий и не вдаваясь в идеологическую проблематику: император, проигранная война, народное восстание, требования победителей, народный трибун, новая война… Тут становится сложнее. Или не так уж сложно? Погромы, ислам – это Урраке будет более или менее понятно, даже про атомную бомбу можно рассказать, назвав ее «всеуничтожающим оружием»… но мир без веры в Бога – для человека средних веков это нечто немыслимое, разве что подразумевается ад. Однако если пропасть между сегодняшним днем и стариной так велика, то как же можно ожидать, что мы сумеем понять и описать реальность прошлого? Реальность, реальность, чушь собачья. Лучше заснуть. Хватит размышлять, спать, спать. Со двора донеслись звуки, она различила шаги своего друга, пустившего ее сюда жить почти просто так. Он работал в баре и вначале несколько раз появлялся у ее кровати пьяным, но, почувствовав то презрение, которым она обдавала его на следующее утро, больше так не поступал. Лишь выключив свет, она вспомнила об этом необычном голландце, с которым познакомилась днем. Кино, да-да, он сказал, документалист.
Существует много дорог в царство сна, иногда туда попадаешь через картинки перед глазами, иногда
188
189 через слова, преобразования, повторения. Документалист, документы. Кто-то тихо-тихо поднимается по лестнице. Как сегодня мало машин на улице. Тишина. Город на огромной равнине, простирающейся к востоку, простирающейся и простирающейся, в темноте, темно…
* * *
Дни оттепели, таяния снега, а потом вдруг утро, которое вливается в комнату совершенно особым светом, заявляющим о близости прощания с зимой. На широте Берлина в это время года такой свет имеет в своем распоряжении всего несколько часов, и никто не знает об этом лучше, чем кинооператор. Артур Даане разложил на полу большую карту – план города, страдающего шизофренией, но это нестрашно, не так уж много здесь за последние сорок лет изменилось, надо просто представить себе, что нет этой широкой розовой линии с ее странными углами и изгибами, которая указывает, где начиналась чужая империя. Из этого города некогда рычали на весь мир, и за это мир наказал город, попытался сровнять его с землей, народ пожрал здесь сам себя, но выжившие выползли из развалин и подвалов, чтобы увидеть новых хозяев, не знавших их языка, а потом этот мир разломился надвое, и более слабая часть продолжала существовать только благодаря помощи с воздуха, и среди всех этих людских перипетий, в этом прибое добра и зла, вины и искупления, город вновь обрел душу, не такую, как у других, а израненную, наказанную, униженную, и два слога его названия стали с тех пор символом того великого преступления, сопротивления и страдания, что довелось увидеть его улицам и площадям, и с тех пор в этих двух слогах – первом глухом и мрачном, втором ясном и светлом – слышатся все те голоса, которые некогда здесь звучали. Но об этом можно не думать – город сам все помнит, благодаря памятникам, площадям, названиям улиц. Так что Артуру пора было оторвать взгляд от карты, пора было, наоборот, растянуть эту карту во все стороны до размеров настоящего города, взять камеру, доехать на такси до Государственной библиотеки, посмотреть, там ли она, затем позвонить Арно и попросить у него на день машину, чтобы отвезти ее на мост Глинике, или озеро Халензее, или на Павлиний остров.
* * *
Он уже раньше размышлял о том, что если ему потребуется музыка, чтобы передать ощущение скорости, то он возьмет что-нибудь из Шостаковича. Виктор когда-то играл ему несколько его пьес, и, слушая эту музыку, он представлял себе движение, воду, струящуюся по скалам, бегущих животных, погоню. Нельзя сказать, чтобы у него было много подобных сюжетов, но он пытался заранее составить список композиторов и произведений, которые ему в будущем пригодятся. Желательно чисто инструментальная музыка, вроде той, что он слушал тогда у Виктора. Однако Виктор не торопился ему помочь.
– Номер одиннадцать, номер двенадцать, прелюдии и фуги, ты которую имеешь в виду?
– Ту, что ты играл первой, которая гонится, что ли, сама за собой.
– Это одиннадцатая, си-мажорная.
– Си-мажорная – мне ничего не говорит, но цифру «одиннадцать» я запомню.
– И прелюдия будет фоновой музыкой к фильму, видеть важнее, чем слышать, тарам-тарам, так что ли?
А фильм не может обойтись без музыки? Это ж ты расписываешься в собственной слабости.
– Не аккомпанемент, а усиление эффекта. Или, наоборот, контраст.
– Как у Брехта. Великая трагедия, униженные и оскорбленные страдают, а музыка – бух-бух-бух.
– У меня нет униженных и оскорбленных.
На это Виктор ничего не ответил. Вернее, пожал плечами и сказал сухо: «Тринадцатая», после чего сыграл медленную и задумчивую пьесу. А когда отзвучал последний такт, произнес с такой интонацией, словно Артура не было в комнате:
– Идиот, идиот. Если он способен был на такую музыку, то зачем громоздил эти чудовищные симфонии?
Почему он сейчас вспомнил тот разговор? Потому, что бежал со своей камерой вниз по лестнице, спешил по улице, так, здесь за угол, Вильмерсдорферштрассе, вот Бисмаркштрассе, если не придется долго стоят у светофора, то с первыми нотами двенадцатой прелюдии он как раз сядет в такси и, пока будут звучать двенадцатая и тринадцатая, успеет обдумать свой безрассудный план. Он уже выучил весь цикл Шостаковича наизусть, четырнадцатая прелюдия была коротенькая, длительность звучания – полчаса, так что номер пятнадцать с резкими нервными ударами молота – именно то, что подойдет идеально, если он и вправду застанет ее в читальном зале. Но дирижер в гардеробе не желал его слушать.
– Камеру надо сдать, вон там ячейки, с камерой вход в библиотеку запрещен.
– Мне на минуту, только посмотреть…
«Но не в Пруссии, додо». Голос Виктора.
Сдав камеру, он вошел в читальный зал. Она взглянула на него так, словно перед ней появился призрак. Хотя на самом деле все было наоборот, он не был призраком, а призраками были все те, кто ее в тот миг окружали. Ее королева проиграла сражение и вот-вот будет взята в плен собственным мужем, против которого она начала войну. Октябрь 1111 года, года, который никогда уже не повторится. За королевой Урракой гонится Альфонсо эль Батальядор. Альфонсо-Воин. Сорока и воин, хоть роман о них пиши.
«Даже приблизительное местонахождение королевы Урраки после этого эпизода является почти неразрешимой загадкой». Загадкой, которую и хочет разрешить Элик Оранье. Где-то в горах Галисии, полагают некоторые историки. Но как это себе представить?
– Пока что ничего себе представлять не надо, – сказал ей научный руководитель, когда они обсуждали трудности такого рода. – Надо читать источники, разыскать новые, о которых никто не знает. В Испании полным-полно архивов. Ну а если в конце концов все же останутся лакуны, то так и надо указать. А все остальное – художественный вымысел.
Вот тут-то и скрывалось главное.
– Что же я могу поделать, если мне представляются какие-то картинки?
– Не очень-то у вас научный подход. Ваши картинки – вымысел. Письма, акты, буллы, протоколы – это не вымысел. Не роман же вы пишете!
Вы должны узнать правду, выяснить факты, понять, как было на самом деле, не страшась трудностей. Если же вы видите при этом пажей, рыцарей и мечи – отлично, но только смотрите, чтобы они вас не похитили. Впрочем, с вами, думаю, все будет в порядке, вы, по-моему, не чересчур романтичны. А если вдруг почувствуете соблазн, то вспомните о том, как от них от всех в те времена воняло.
Что правда, то правда, чересчур романтичной она не была. Почему же тогда эта картинка – Уррака с горсточкой верных ей людей где-то в горах – оставалась такой яркой? Самоотождествление. Вживание в образ той женщины, про которую пишешь, с одной стороны, и отсутствие фактов, с другой, – вот и готова лазейка для фантазии. Большой трудностью оказался фактор времени, из-за которого воюющие стороны часто не знали в точности о передвижениях и своих, и особенно чужих войск, что приводило в конце концов к недостоверности многих документов. Максимальной скоростью был лошадиный галоп, и в зависимости от скорости лошадиного бега монарх узнавал чуть раньше либо чуть позже, взяла его армия город или была разбита.
– Послушайте, – сказал ее руководитель, – никогда не забывайте урок Марка Блоха: исторический феномен невозможно понять вне того момента, когда он имел место.
Мудрая мысль, но одновременно и парадокс: выходит, нечего и пытаться представить себе, как что – то происходило. Так что сейчас ей лучше повнимательнее всмотреться в карту и вникнуть в реальные или мнимые передвижения главных действующих лиц: король занял Паленсию и теперь направляется к Леону, проигравший сражение епископ прибыл в Асторгу, чтобы подобрать раненых и тех, кто бежал, а потом вернуться в Сантьяго, а королева где-то, но вот только где… И была еще одна важная фигура в этой шахматной партии: ее сын, которого она родила от другого мужа и которого теперь тоже короновали в Сантьяго на царствование. Пока он оставался при ней… В этот миг перед Элик вдруг предстал ее вчерашний знакомый, которого она узнала лишь через несколько секунд, он что-то сказал, но что? Тут она увидела, какие у него ярко-голубые глаза, и поняла, что не хочет делать то, что он предлагает, а именно съездить на Павлиний остров или куда там еще, обнаружила, что руки ее сами складывают карту и закрывают книгу, что она уже попрощалась с королевой в горах Галисии или, может, в другом месте и идет следом за этим человеком с раскачивающейся походкой и выходит на улицу, где зимнее солнце ярко освещает то вырастающий вверх, то снова опускающийся ниже фасад филармонии.
* * *
Элик Оранье была первой женщиной, которую Артур привел с собой к Арно Тику, и это тем более удивило Арно, что он сразу понял: эти двое познакомились совсем недавно. Арно прислушался к странным голландским имени и фамилии своей гостьи, попробовал их вкус у себя на языке, потом его заверили, что их носительница не имеет отношения ни к голландскому королевскому дому Оранских, ни соответственно к Оранжевой реке в ЮАР, после чего хозяин присоединился к общему молчанию, которое ему в конце концов надоело. Он и так весь день молчит в четырех стенах среди своих книг, но зачем же молчать, когда напротив тебя сидят живые люди?
Что он видел, так это смущение Артура, которому хотелось поскорее уйти, но прежде услышать мнение о своей спутнице, хотя высказывать его вслух Арно, разумеется, не станет. И о каком мнении может быть речь, если Элик не произносит ни слова, и вообще не похоже, чтобы она собиралась заговорить, у нее слишком закрытое, слишком упрямое лицо.
Чего он не видел, так это мыслей Элик, занятой составлением своей собственной инвентарной описи. Пока перед ней сидел незнакомый ей человек, она могла распоряжаться им на свое усмотрение. Так, хозяина дома в его толстых очках, сверкавших столь устрашающе, чью голову окружал нимб из торчавших во все стороны волос, она превратила в жуткого чародея, оккультиста-обскурантиста. Словно почувствовав это и словно желая подыграть ее фантазиям, Арно Тик разразился тирадой о символике оранжевого цвета.
Артур прекрасно знал, что оккультизм абсолютно чужд его другу, но те, кто поддавался воздействию ораторского дара Арно, были склонны отождествлять философа с его речами. У него была очень нарочитая манера говорить, весь его массивный торс раскачивался в такт потоку слов, руки так и летали по воздуху, отгоняя те неправильные образы, которые могли возникнуть в воображении слушателя, чтобы они не помешали дальнейшим рассуждениям. Говорил ли он о гностицизме Гитлера или об орфографической реформе, о величии «Рабочего» Юнгера, неповторимости карпа в пивном тесте или о теневых сторонах Пруста, выбирал ли он рискованную тему или забавную, серьезную, поверхностную или труднодоступную – стратегия его красноречия была одна и та же: прекрасный язык, искрометные фразы, музыкальная интонация, чередование престои анданте,от пулеметных очередей стаккато до смертельного оружия риторики – тщательно вымеренного молчания. Таким образом, наши двое голландцев, зашедших в этот дом всего-навсего попросить машину для первой в их жизни совместной поездки, попали под водопад оранжевого цвета, среднего между желтым и красным, который, разумеется, не случайно стал символом королевской семьи. Как на американских горках, они то взмывали к небесному золоту, то ухали вниз, ныряя в красноту земли, от шафраново-желтого цвета буддийских монахов их несло к оранжевым одеяниям, которые наверняка должен был носить Дионис, соответственно от верности к измене, от похоти к одухотворенности, и, таким образом, ко всему, что только есть на свете увлекательного.
– А еще шлейф у Елены, – сказала Элик. – И крест рыцарей ордена Святого Духа.
Артур заметил, как загорелись глаза у Арно.
– Какой такой шлейф у Елены?
– О нем упоминает Вергилий. Тоже шафрановый.
– Гм.
Этот камушек всколыхнул новую волну в затихшем было пруду, и через некоторое время Арно Тик уже всерьез увлекся разговором с этой поразительной голландкой, которую привел с собой его тихоня-друг Даане.
История, курс по Гегелю (только не это!), диссертация (вот это да!), средние века (восхитительно!), как челнок на ткацком станке носились туда-сюда вопросы и ответы между шрамом и сверкающими очками; названия книг, имена, понятия – Артур оказался вне этого разговора, а между тем на улице тоже происходили изменения: свет, пока еще незаметно, с каждой секундой становился слабее и слабее. Артуру хотелось уйти, но хотелось и остаться. То ли из-за немецкого языка, то ли по другой причине, но ему казалось, что голос Элик сейчас стал другим, более темным, да и сама она стала другой, словно ускользнула от него. Не успел он с ней познакомиться – а она уже в другом месте.
Говорить на чужом языке, размышлял Артур, – значит имитировать других, и не только в смысле произнесения необычных звуков, но и во многих других аспектах. Владение иностранными языками связано и с амбициями, и с наблюдательностью, и с освоением интонаций и всей манеры поведения людей, которые говорили на этом языке до тебя. Амбиции – в том, чтобы на тебя не показывали пальцем и не говорили «вон, смотрите, иностранец». В этом смысле он был противоположностью Арно, который казался голым, когда ему приходилось говорить по-французски или по-английски, голым и безоружным, ибо лишался при этом своего важнейшего инструмента. Нельзя сказать, чтобы Арно расстраивался из-за этого, он был достаточно уверен в собственном знании предмета разговора. А за Элик Оранье Артур такого свойства не знал, для человека, который так молод, это было бы странно.
Сейчас же казалось, будто они на сцене, он видел, что ей льстит внимание Арно, ее голос звучал мелодично, словно виолончель, может быть, поэтому Артур и перестал вникать в слова, а слушал их диалог как музыку, речитатив-дуэт для альта с баритоном, причем распеваемый текст полностью ускользал от его внимания. Он заметил, что их жестикуляция тоже стала согласованной, так что, Господи Боже мой, разговор превратился и в своего рода балет, невидимые стрелы летали от одного собеседника к другому, нет, братцы, этому надо положить конец.
Он дождался мгновенья, когда оба, удовлетворенные, ненадолго умолкли, чтобы оглянуться на свои боевые подвиги, медленно-медленно поднялся со стула, демонстративно выставив свою камеру таким образом, чтобы дуэту стало ясно, что у него на сегодня были вообще-то другие планы.
– Куда вы поедете? – спросил Арно.
– На Павлиний остров, но сначала на мост Глинике.
– Ностальгия по мрачному прошлому? ГДР, полиция, угроза? Недоступный тот берег?
– Кто его знает.
Подъехав к мосту, он хотел объяснить, что имел в виду Арно, но она и так все знала.
– Я тоже иногда смотрю документальное кино.
Кино, кино. Но был ли снят хоть один фильм, в точности передающий атмосферу этого места десять лет назад? Разумеется, хоть один, да был. Разумеется, не было ни одного. Он стоял, опираясь на зеленые перила. Вода Хавеля текла точно так же, как тогда, в озеро Юнгфернзее, но серых судов погранполиции теперь не было. Машины летели по шоссе в сторону Потсдама без оглядки, словно их никогда здесь не останавливали. Он подбирал слова.
– Я снимал здесь фильм с участием… – И Артур назвал имя голландского писателя. – Он стоял вон там, а потом по нашей просьбе раз десять перешел из восточной части в западную и из западной в восточную, рассказывая при этом о пограничном контроле, об обмене шпионами, чем для многих и знаменит этот мост… он рассказывал очень неплохо, но…
– Это было уже совсем не то.
– Может быть, так… Что-то в этом есть лживое… когда события, происходившие на самом деле, превращаются в рассказ и кто-то рассказывает этот рассказ от своего лица. Слишком многое теряется.
– Это потому, что ты видел здесь все своими глазами.
– По твоей логике получается, что чем дальше некоторые события отодвигаются от нас в прошлое, тем меньше от них остается правды.
– Не знаю… Но сохранять все прошлое таким, какое оно было, – задача, не имеющая решения. Даже в своей собственной жизни это невозможно, такого было бы просто не вынести. Представь себе, что твои воспоминания будут занимать столько же времени, сколько длились сами события. У тебя не останется времени на реальную жизнь, а от этого, поверь мне, никому лучше не станет. Если прошлому не позволять бледнеть и стираться, то не будет движения вперед. Это относится и к жизни каждого человека, и к жизни целых стран. – Она рассмеялась. – К тому же на свете есть историки. Они тратят всю свою жизнь на то, чтобы быть чужой памятью.
– А ложь – это как бесплатное приложение?
– Какая ложь? Насколько я понимаю, тебе кажется невыносимым, что прошлое утрачивает силу. Но так невозможно жить. Если слишком много прошлого, то человеку крышка. Поверь мне.
Ей было явно неохота продолжать разговор, и она закурила.
– А как мы попадем на Павлиний остров?
Не успел он ответить, как она вдруг обернулась к нему и спросила:
– А тот фильм, который ты здесь снимал, это и есть твоя работа?
Что тут можно сказать? «Такие фильмы я снимаю для заработка» – прозвучит пошло, к тому же это не совсем правда. Он любил работу «для публики», как он называл это про себя, будь то его собственные режиссерские опыты или чужие фильмы, где он был лишь оператором. Заказы могут быть очень поучительны Для себя же он создавал нечто совсем иное. Но об этом ей еще рано рассказывать.
Они поехали обратно до съезда с шоссе к Никольскому. Под высокими голыми деревьями еще лежали остатки снега, большие серо-белые пятна среди темных влажных листьев. У маленького парома он припарковал машину. Удивительно, что паром все еще работал, кроме них на остров переправлялась только одна пожилая пара. Он подумал, что их самих окружающие тоже воспринимают как пару. Что она сказала? Если не позволять стираться прошлому, то не будет движения вперед. Насколько стерлись Рулофье и Томас? Уже в самом этом слове было что-то подозрительное, стираться, так говорят о неодушевленном предмете. У него всегда было ощущение, что они постепенно от него удаляются, однако стоит им захотеть, как сразу вновь приблизятся к нему. Но для чего им этого хотеть?
Мотор паромного катера зарычал громче. Она положила руку ему на штанину, но так, что показалось, будто она сама этого не замечает. Переправа длилась всего несколько минут, и все же это было настоящее путешествие. Отпльгтие, прибытие, между ними – движение по светящейся воде, по сверкающей, чуть покачивающейся поверхности, отражавшей яркий свет зимнего солнца, и таинственность, свойственная всем островам, даже совсем небольшим.
В тот момент, когда они ступили на сушу, раздался громкий крик павлина. Они остановились послушать, не прокричит ли он опять, но ответ, такой же высокий и протяжный, донесся откуда-то совсем издалека.
– Как будто они чего-то просят, чего никогда не смогут получить.
Это были ее слова.
Но вот снова крик, а потом опять.
И вдруг она пустилась бежать. С камерой в руках ему было се не догнать. Однако она на это и не рассчитывала.
– Скоро увидимся! – крикнула она.
Глядя на ее удаляющуюся фигуру, огг подумал, что она удивительно быстро бегает. Через минуту-другую, а то и меньше она уже исчезла из виду. Выходит, он приехал на остров все равно что без спутницы, он снова тот же, что и всегда. Пожилые супруги тоже куда-то скрылись. Паромщик крикнул, что последний рейс в четыре, значит, впереди еще два часа.
Шорох в кустах, в нескольких метрах от него на дорожку неожиданно вышел павлин, остановился. За ним второй, третий. Он смотрел на их странные кожаные ноги с уродливыми пальцами, так не соответствующие пышной роскоши всего того, что выше. В павлине все нескладно, злая маленькая головка с колючими глазками и торчащим вверх хохолком, толстый слой черно-белых перьев, покрывающих, словно пуховым одеялом, сине-зеленое туловище, длинный хвост с яркими кружками, который, когда он не раскрыт, волочится сзади безвольной метелкой, и нелепые движения клювом, выклевывающим что-то из коричневых листьев.
Артур вдруг громко закричал и сделал резкое движение в сторону павлинов, так что три птицы вихрем помчались от него по дорожке. Он хотел показать ей маленький дорический храм, построенный в память о королеве Луизе, той самой, с грудью кремового цвета, воспоминание о Древней Греции на холодном севере, одна из тех ностальгических построек, с помощью которых немецкие монархи пытались в прошлом веке доказать, что они достойны того, чтобы именовать себя новыми афинянами. Но ее не было, она, как одержимое дитя, умчалась куда-то, как можно дальше от него, от человека, неспособного даже ответить на вопрос, кем он, собственно говоря, работает. Вот именно, чем же он, собственно, занимается? Чем собственным он занимается? Что бы он рассказал ей, если б она не убежала? Что разделяет весь мир на мир открытый, связанный с людьми и с тем, что они делают, вернее, что они друг с другом делают, – и другой мир, мир сам по себе,как он его называл. Нельзя сказать, чтобы в этом втором мире вовсе не встречалось людей, иногда они попадали и сюда, но тогда они были без имен и без голосов. Поэтому в этом мире он обычно использовал части человеческой фигуры, руки или, как сегодня в метро, ноги: безымянная толпа, людская масса. Этим вторым миром до сих пор ни разу не заинтересовался ни один продюсер, что и правильно, ведь это был только его, Артура, мир, и, пока этот мир не примет достаточно убедительную форму, лучше не выставлять его напоказ. «Notaten», то есть заметки, сказал как-то раз Арно про его коллекцию, и это немецкое слово понравилось Артуру. Благодаря этому слову он почувствовал себя похожим на нотариуса, на бухгалтера, который в один прекрасный день покажет людям свои бесконечные арифметические вычисления. А может быть, так никогда и не покажет. Найдется ли в этом втором мире место для первого мира, состоящего из заказов? Пока неясно. Поскольку он так легко вливался в любую съемочную группу, его куда только не посылали, и он с удовольствием повсюду ездил, кто бы ни выступал в роли заказчика – голландская телекомпания VARA или правозащитные и гуманитарные организации вроде Amnesty International или Novib, [22]22
Amnesty International – международная правозащитная организация, центр которой расположен в Лондоне. Novib – нидерландская гуманитарная организация, оказывающая помощь бедным слоям населения в развивающихся странах и информирующая европейцев о ситуации в «третьем мире», штаб-квартира находится в Гааге.
[Закрыть]ведь в этих поездках он после оплачиваемой работы всегда мог поснимать и что-нибудь для себя.
– Патентованный специалист по катастрофам, – называла его Эрна, – рупор всех страждущих, эксперт первого класса по смерти. Когда ты наконец снимешь настоящий фильм?
– Я вовсе не горю желанием снять настоящий фильм. А что бы мне хотелось снять, о том они и слышать не хотят.
– Знаешь, Артур, я иногда начинаю побаиваться, что эта твоя коллекция – не более чем отговорка. Ты вглядываешься в этот свой второй мир, как ты его называешь, в ущерб первому. Первый мир мы знаем, мы смотрим его по вечерам, это наша ежедневная доза горестей, а твой второй, твой второй…








