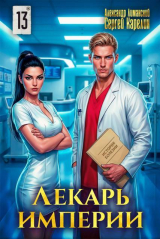
Текст книги "Лекарь Империи 13 (СИ)"
Автор книги: Сергей Карелин
Соавторы: Александр Лиманский
Жанры:
Городское фэнтези
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
Глава 18
Кровь была везде.
На полу, на стойке регистрации, на моих руках, на халате медсестры, которая всё ещё визжала где-то на периферии сознания. Алая, горячая, липкая – она растекалась по кафелю приёмного отделения, превращая его в каток.
Мужчина хрипел подо мной, захлёбываясь собственной кровью. Его глаза закатывались, тело билось в конвульсиях – мозг уже начинал голодать без кислорода.
– В сторону!
Тарасов рухнул на колени рядом со мной, не обращая внимания на лужу крови, в которую погрузился по самые бёдра. Его лицо было сосредоточенным, почти спокойным. Лицо человека, который видел подобное не раз.
– Держу голову! – он подхватил затылок пациента, фиксируя шейный отдел. – Аспиратор! Нужен зонд, живо!
Я выхватил из рук подбежавшей медсестры зонд Блэкмора – толстую резиновую трубку с двумя баллонами на конце. Стандартная процедура при варикозном кровотечении из пищевода. Раздуваешь баллоны, они прижимают расширенные вены к стенкам, кровотечение останавливается.
Просто. Эффективно. Спасает жизни.
– Александра! – я обернулся к Зиновьевой.
Она стояла у стены, зажав рот рукой. Её лицо приобрело тот особенный зеленоватый оттенок, который я слишком хорошо знал. Рвотный рефлекс. Запах крови, вид крови, ощущение беспомощности – всё это било по ней одновременно.
– Александра! Растворы! Два венозных доступа, катетеры четырнадцать G! Живо!
Она судорожно сглотнула. Я видел, как она борется сама с собой – страх против долга, тошнота против профессионализма. Секунду, две, три…
Зиновьева оторвалась от стены. Её лицо всё ещё было зелёным, но руки уже тянулись к укладке с расходниками.
– Д-да… сейчас…
Она упала на колени с другой стороны от пациента, прямо в кровь. Открыла укладку, достала катетер. Руки тряслись так, что она едва попала в вену.
– Ордынская! Держи ноги!
Маленькая целительница, та самая, на которую плюнул пациент, бросилась к нам. Она плакала, слёзы текли по щекам, но она вцепилась в лодыжки мужчины и прижала их к полу, не давая ему биться.
– Д-держу… – всхлипнула она. – Держу…
Молодец. Все молодцы. Потом поблагодарю, если выживем.
Я ввёл зонд в рот пациента, осторожно проталкивая его по пищеводу. Мужчина захрипел, дёрнулся. На него накатил рвотный рефлекс, но я уже прошёл критическую точку.
– Зонд на месте! Раздувай желудочный баллон!
Тарасов схватил шприц, подсоединённый к порту зонда, и начал нагнетать воздух. Один кубик, два, пять, десять…
– Манжета полная! – он потянул зонд на себя, фиксируя баллон у кардиального отдела желудка. – Теперь пищеводный!
Ещё воздух. Ещё давление. Баллоны должны были прижать кровоточащие вены к стенкам пищевода, как турникет прижимает артерию.
Должны были.
– Готово! – Тарасов закрепил зонд. – Давление в манжетах максимальное!
Я смотрел на пациента.
Кровь продолжала течь.
Не так обильно, как раньше, но она всё ещё пульсировала вокруг зонда, просачивалась между баллоном и стенкой пищевода, стекала по подбородку мужчины алыми ручейками.
– Твою мать… – Тарасов выругался сквозь зубы. – Не держит! Манжета полная, а оно течёт!
Я смотрел на кровь.
Алая. Яркая. Пульсирующая.
Это было неправильно.
При варикозном кровотечении кровь тёмная – венозная, бедная кислородом. Она течёт равномерно, без пульсации, потому что в венах нет такого давления, как в артериях.
А эта кровь била толчками. В такт сердцебиению. Как будто где-то внутри этого человека открылся кран, подключённый напрямую к аорте.
– Двуногий… – Фырк материализовался на моём плече, и его голос был непривычно серьёзным. – Я вижу что-то странное. Там, внутри. Свечение не такое, как должно быть.
Я не ответил. Я уже понимал.
– Зиновьева! Статус!
– В-венозный доступ есть! – она прижимала пластырем катетер, её руки по локоть были в крови. – Лью физраствор!
– Плазму! Нужна плазма! И эритроцитарная масса!
– Уже несут! – крикнул кто-то из толпы, собравшейся на безопасном расстоянии.
Толпа. Зеваки. Медсёстры, санитары, случайные посетители – все стояли полукругом, наблюдая за нашей борьбой, как за представлением в театре. Никто не помогал. Никто не догадался хотя бы разогнать остальных пациентов, которые теперь имели прекрасный вид на человека, захлёбывающегося кровью.
Добро пожаловать в медицину катастроф.
– Тарасов, – я посмотрел ему в глаза. – Это не вены.
– Что?
– Посмотри на цвет. На пульсацию. Это артериальная кровь.
Он замер. Посмотрел на алые потёки на своих руках. На ритмичные толчки, с которыми кровь продолжала сочиться вокруг зонда.
– Твою ж… – он побледнел. – Аорта?
– Аорто-пищеводная фистула. Свищ между аортой и пищеводом. Мы прижимаем вены, а льёт из артерии.
– Это вообще бывает?
– Бывает. Редко. Обычно после операций на аорте, когда протез начинает прорастать в пищевод. Или при аневризме.
Я смотрел на зонд Блэкмора, торчащий изо рта пациента. На раздутые баллоны, которые должны были спасти ему жизнь.
Баллоны, которые сейчас давили на стенку пищевода рядом с дырой в аорте. Растягивали ткани. Увеличивали свищ.
Мы не спасали его. Мы убивали его быстрее.
– Сдувай манжеты, – сказал я.
Тарасов посмотрел на меня как на сумасшедшего.
– Что⁈
– Сдувай. Немедленно. Мы только увеличиваем дыру.
– Если сдую – он истечёт за минуту!
– Если не сдуешь – он истечёт за тридцать секунд. Давление баллона рвёт ткани. Сдувай!
Секунда колебания. Две. Я видел, как в его глазах борются инстинкт и логика. Инстинкт кричал: держи давление, не отпускай, это единственное, что между пациентом и смертью. Логика шептала: он прав, ты и сам видишь, что это не работает.
Тарасов сдул манжеты.
Кровь хлынула с новой силой.
* * *
Семён не смотрел на кровавое представление в холле.
У него был свой пациент.
Бабушка лежала на каталке в дальнем углу приёмного отделения, забытая всеми. Когда мужчина начал захлёбываться кровью, персонал бросился к нему, как мотыльки на огонь, – и Семён остался один.
Один с женщиной, у которой внутри тикала бомба.
«Расслаивающаяся аневризма аорты», – он повторял про себя, как мантру. – «Разница давления на руках в двадцать единиц. Боль в спине. Бледность. Всё сходится. Всё, блин, сходится».
Бабушка застонала. Её лицо, и без того бледное, приобрело сероватый оттенок, который Семён уже научился узнавать. Цвет приближающейся смерти.
– Настасья Андреевна? Настасья Андреевна, вы меня слышите?
Она не ответила. Её глаза были закрыты, дыхание – поверхностным и частым.
Семён схватил тонометр, трясущимися руками накачал манжету.
Семьдесят на сорок.
Десять минут назад было девяносто на шестьдесят.
«Она уходит», – мысль была ледяной и ясной. – «Аневризма подтекает. Кровь заполняет забрюшинное пространство. Ещё немного – и она разорвётся окончательно».
Он огляделся.
Вокруг никого. Все санитары, все медсёстры, все врачи столпились у стойки регистрации, где Разумовский боролся с фонтаном крови. Крики, команды, звон падающих инструментов – всё это доносилось как из другого мира.
Семён мог позвать на помощь. Мог закричать, привлечь внимание.
Но сколько времени это займёт? Минуту? Две? Пока кто-то услышит, пока отвлечётся от своего пациента, пока добежит…
У бабушки не было двух минут.
«Не облажайся, Семён», – голос Ильи звучал в его голове так отчётливо, будто тот стоял рядом. – «Иногда правила нужно нарушать».
Семён схватил каталку за поручни.
Она была тяжёлой. Старая, металлическая, с тугими колёсами, которые не хотели поворачиваться. Семён навалился всем весом, сдвинул её с места.
И побежал.
Каталка грохотала по коридору, как танк. Семён сбивал углы, врезался в стены, едва не переехал чью-то ногу. Бабушка стонала на каждом толчке, но он не мог остановиться.
– Дорогу! – орал он. – Дорогу, твою мать!
Люди шарахались от него, как от чумного. Кто-то выругался вслед, кто-то что-то кричал – Семён не слышал.
Поворот. Ещё поворот. Лифт. Где же ты, лифт?
Он летел по больничным коридорам, толкая каталку перед собой, и молился всем богам этого мира, чтобы успеть.
– Эй! Парень!
Голос раздался сбоку. Семён обернулся, не снижая скорости.
Коровин.
Старик догнал его у очередного поворота. Но в отличие от остальных, он не смотрел на Семёна как на психа. Он смотрел на пациентку.
– Аневризма? – спросил он коротко.
– Да! Расслоение! Подтекает!
Коровин не стал задавать лишних вопросов. Он просто подбежал к каталке и схватил её за задний поручень.
– Давай, сынок! Навались!
Вдвоём они понеслись по коридору вдвое быстрее. Вот он лифт. А потом и родное отделение хирургии.
Двери оперблока распахнулись от удара каталки.
Дежурная медсестра Зинаида Петрова Сурикова – женщина лет пятидесяти с суровым лицом – подскочила со своего места, роняя журнал.
– Вы что творите⁈ Сюда нельзя без…
– Экстренная! – Семён задыхался, пот заливал глаза. – Расслоение аорты! Нужна операционная!
Медсестра бросила взгляд на каталку. На бледную, почти неподвижную старушку. На монитор, который Семён успел подключить по дороге – давление шестьдесят на ноль, пульс сто сорок, нитевидный.
– Операционные заняты, – она покачала головой. – ДТП на трассе, три тяжёлых. Все хирурги там. Ждите.
– Ждать⁈ – Семён почувствовал, как внутри что-то оборвалось. – У неё давление шестьдесят! Она умрёт через пять минут!
– Я вызову дежурного хирурга…
– Они все заняты, вы же сами сказали!
Зинаида Петровна развела руками. В её глазах было сочувствие, но и бессилие. Она не могла вытащить хирурга из операционной. Не могла создать лекаря из воздуха. Не могла ничего.
Семён смотрел на бабушку.
Она больше не стонала. Её лицо приобрело восковой оттенок, дыхание стало едва заметным. На мониторе пульс перескочил на сто пятьдесят, потом на сто шестьдесят – сердце отчаянно пыталось компенсировать потерю крови.
«Она умирает», – подумал Семён. – «Прямо сейчас. Прямо здесь. И я ничего не могу сделать».
Нет.
Мысль пришла откуда-то из глубины, из того места, где жил страх и неуверенность. Но сейчас там было пусто. Страх исчез. Остался только холодный, кристально чистый расчёт.
«Я могу. Я знаю анатомию. Я ассистировал на десятках операций. Проводил их сам. Я видел, как Илья делает невозможное».
– Разворачивай в пятую, – услышал он собственный голос. Почему-то спокойный.
Медсестра уставилась на него.
– Что?
– Пятая операционная. Свободна?
– Да, но…
– Разворачивай. Я буду оперировать.
Тишина.
Медсестра смотрела на него так, будто он внезапно заговорил на древнеегипетском. Коровин, стоявший рядом, присвистнул сквозь зубы.
– Ты… – медсестра сглотнула. – Семен… Шаповалов запретил вам самостоятельно проводить операции…
– У меня нет права? – Семён шагнул к ней, и что-то в его взгляде заставило её отступить. – А у неё есть право умереть в коридоре, потому что все заняты? Это нормально? Это по протоколу? Я хирург в конце концов…
– Я не могу пустить тебя в операционную…
– Можете, – он не отводил взгляд. – Готовьте набор для лапаротомии и сосудистые зажимы. Если она умрёт в коридоре – это будет на вашей совести. Если на столе – на моей.
– Парень дело говорит, – вмешался Коровин. Его голос был усталым, но твёрдым. – Я старый хрен, сорок лет в медицине. Видел всякое. И скажу тебе, дочка: эта бабулька не дождётся твоих занятых хирургов. Либо этот парень её режет, либо она умирает. Третьего не дано.
Медсестра переводила взгляд с одного на другого. Семён видел, как в её голове борются инструкции и здравый смысл, страх наказания и страх смерти пациента.
– Я… – она облизнула губы. – Если узнают…
– Узнают – отвечу я, – сказал Семён. – Вы выполняли мои указания под давлением. В пятую. Сейчас.
Секунда. Две.
Медсестра кивнула.
– Катите за мной.
Операционная была холодной и пустой.
Семён мылся у раковины, яростно надраивая руки щёткой.
– «Что я делаю?» – мысль мелькнула и исчезла. – «Без разрешения Шаповалова… Последствия могут быть весьма плачевными».
Но руки продолжали двигаться. Щётка, мыло, вода. Щётка, мыло, вода.
«Илья бы не остановился. Илья бы сделал».
За спиной слышалась суета. Медсестра готовила инструменты, зло гремя металлом о металл. Коровин натягивал хирургический халат, и выглядел при этом до странного естественно.
– Делал такое раньше? – спросил Семён, не оборачиваясь.
– Сосуды? Пару раз. Давно, – Коровин хмыкнул. – Но руки помнят. Буду ассистировать.
– Спасибо.
– Не за что. Храбрый ты парень. Глупый, но храбрый.
Дверь операционной распахнулась. Вошёл мужчина в зелёной форме анестезиолога – невысокий, с залысинами, с выражением крайнего изумления на лице.
– Какого хрена тут происходит⁈ – он уставился на каталку с бабушкой. – Мне сказали, что какой-то подмастерье захватил операционную!
– Расслоение аорты, – Семён повернулся к нему, протягивая руки, чтобы медсестра надела перчатки. – Давление было шестьдесят, сейчас, наверное, ещё меньше. Хирурги заняты. Я оперирую.
– Ты⁈ – анестезиолог побагровел. – Да ты в своём уме⁈ Я вызываю охрану!
– Вызывай, – Семён подошёл к столу. Бабушка лежала на нём, уже подключённая к мониторам. Давление пятьдесят на ноль. Пульс сто семьдесят. – Пока они придут, она умрёт. Или ты её интубируешь, и мы попробуем спасти. Выбирай.
Анестезиолог открыл рот. Закрыл. Снова открыл.
– Ты хоть понимаешь, что с тобой сделают? – его голос стал тише. – Если она умрёт на столе…
– Понимаю. Интубируй.
Тишина.
Анестезиолог посмотрел на монитор. На давление, которое продолжало падать. На пульс, который становился всё более хаотичным.
– Жопа, – он выругался сквозь зубы и схватил ларингоскоп. – Жопа, жопа, жопа. Ладно. Но если что – я тебя не знаю, и ты меня заставил под угрозой насилия.
– Договорились.
Через минуту бабушка была интубирована. Через две – Семён стоял над ней со скальпелем в руке.
«Срединная лапаротомия», – он вспоминал учебник, вспоминал операции, на которых ассистировал. – «От мечевидного отростка до лобка. Послойно. Кожа, подкожка, апоневроз, брюшина».
– Скальпель, – сказал он.
Металл коснулся кожи.
* * *
Тарасов сдул манжеты, и кровь хлынула с новой силой.
Я был к этому готов. Физически – нет, морально – да. Я знал, что увижу. Знал, что услышу.
Алый поток ударил в заднюю стенку глотки, и пациент захрипел, захлёбываясь. Его тело выгнулось дугой, руки забились по кафелю. Он тонул в собственной крови.
– Отсос! – громко сказал я. – Аспиратор! Держите дыхательные пути!
Тарасов среагировал мгновенно. Схватил аспиратор, сунул наконечник в рот пациента, начал откачивать кровь. Противный хлюпающий звук – как будто кто-то через соломинку высасывает остатки коктейля.
Только коктейль был красным. И его было много.
– Литр, – бормотал Тарасов, не отрывая взгляда от банки аспиратора. – Полтора… Твою мать, откуда её столько?
Зиновьева стояла на коленях рядом с пациентом, вливая в него физраствор с такой скоростью, с какой позволяла капельница. Её лицо было бледным, но руки больше не дрожали. Адреналин – великая вещь.
– Плазма! – крикнула она кому-то за спиной. – Где чёртова плазма⁈
– Несут! – донеслось из толпы.
– Быстрее несите!
Я смотрел на кровь.
Она по-прежнему была алой. По-прежнему пульсировала. Но что-то изменилось. Напор стал слабее. Не потому что кровотечение остановилось – потому что крови в теле почти не осталось.
Он умирает. Прямо сейчас. И я ничего не могу с этим сделать.
– Тарасов, – мой голос звучал спокойнее, чем я себя чувствовал. – Что мы знаем?
Он поднял на меня взгляд. В его глазах была усталость, злость, отчаяние – всё то, что испытывает лекарь, когда понимает, что проигрывает.
– Знаем? Что у него дырка в аорте, из которой он вытекает, как проколотый воздушный шар.
– Причина?
– Какая, к чёрту, разница? Аневризма, рак, травма – он умрёт раньше, чем мы это выясним!
– Разница есть, – я посмотрел на пациента. Мужчина лет пятидесяти. Костюм, галстук, начищенные ботинки – пришёл не с улицы, а с работы или деловой встречи. – Зиновьева, документы! Должны быть в карманах! Нужно узнать об этом пациенте хоть что-то!
Она кивнула и полезла в пиджак пациента, не прекращая следить за капельницей. Через секунду вытащила бумажник.
– Паспорт… Вересов Андрей Михайлович, пятьдесят три года… Какие-то визитки… и больше ничего.
– Дьявол!
– Это все что есть… И что нам это даёт? Он всё равно умирает.
Я открыл рот, чтобы ответить…
И замер.
Кровь перестала течь.
Не постепенно – резко, как будто кто-то закрыл кран. Секунду назад она хлестала из горла алым потоком, а теперь… ничего. Только красная плёнка на губах и подбородке.
Пациент сделал судорожный вдох. Потом ещё один.
– Остановилось… – выдохнула Зиновьева. Она откинулась назад, прислоняясь к стойке регистрации. На её лице было облегчение. – Господи. Остановилось. Тромб?
Тарасов тоже расслабился. Вытер лоб тыльной стороной ладони, размазывая кровь.
– Фух. Пронесло. Видимо, сосуд затромбировался. Давление?
– Сто на семьдесят, – Зиновьева проверила тонометр. – Растёт. Стабилизируется.
– Ну слава богу. – Тарасов поднялся с колен, разминая затёкшие ноги. – Думал, потеряем.
Медсёстры начали вытирать пол. Кто-то уже тащил каталку, чтобы переложить пациента. Толпа зевак расходилась, разочарованная отсутствием трагического финала.
Все расслабились. Все, кроме меня.
Я смотрел на Вересова Андрея Михайловича, пятидесяти трёх лет, с протезом аорты и аорто-пищеводной фистулой. Смотрел на его лицо – бледное, но живое. На грудь, которая мерно поднималась и опускалась. На монитор, показывающий стабилизирующееся давление.
И чувствовал, как холод ползёт по позвоночнику.
– Двуногий, – Фырк сидел на моём плече, невидимый для остальных. – Почему у тебя такое лицо? Он же жив.
– Пока жив, – прошептал я одними губами.
– Что?
– Это не тромб.
– А что тогда?
Я не ответил.
Потому что я знал, что это. Читал о таком. Видел – один раз, в прошлой жизни, когда ещё был обычным хирургом в обычной больнице.
«Сигнальное кровотечение».
Первый эпизод массивной кровопотери из аорто-пищеводного свища. Он возникает, когда фистула прорывается в пищевод. Кровь хлещет фонтаном – как мы только что видели. Пациент теряет литры за минуты.
А потом кровотечение останавливается.
Само.
Не потому что фистула закрылась или организм справился. А потому что давление упало настолько, что кровь перестала проталкиваться через дырку. Образуется временный тромб – рыхлый, нестабильный, готовый разрушиться в любой момент.
«Сигнальная пауза».
Затишье перед бурей. Обычно длится от нескольких минут до нескольких часов. Пациент приходит в себя, давление стабилизируется, все думают, что опасность миновала.
А потом тромб срывается.
И второе кровотечение – финальное – убивает за секунды.
– Тарасов, – мой голос звучал странно даже для меня самого. Слишком ровно. Слишком спокойно. – Зиновьева. Никто не расходится.
Они обернулись ко мне. На их лицах было недоумение.
– Илья Григорьевич, он стабилен, – начал Тарасов. – Давление сто на семьдесят, пульс…
– Готовьте торакальную операционную.
– Что?
Я поднял руки. Они были в крови – от локтей до кончиков пальцев. Кровь Вересова Андрея Михайловича. Кровь, которой скоро станет ещё больше.
– Готовьте торакальную операционную, – повторил я. – Вызывайте сосудистых хирургов. Всех, кто есть. У нас максимум десять минут, прежде чем его сердце вылетит через глотку.
Тишина.
Все смотрели на меня. Тарасов, Зиновьева, Ордынская, медсёстры, санитары. Смотрели как на сумасшедшего. Как на человека, который видит призраков там, где их нет.
– Мастер Разумовский… – Тарасов шагнул ко мне. – Он стабилен. Кровотечение остановилось. Нужно просто подождать, понаблюдать…
– Нет времени ждать.
– Но…
– Это не тромб! – мой голос сорвался, впервые за всё это время. – Это сигнальная пауза! Временная закупорка на месте свища! Она держится минуты, максимум час! Когда она сорвётся – он умрёт раньше, чем вы успеете сказать «реанимация»!
Тарасов открыл рот.
И в этот момент пациент дёрнулся.
Его глаза распахнулись – широко, удивлённо. Рот открылся. Из горла вырвался хрип – мокрый, булькающий.
И кровь хлынула снова.
На этот раз её было больше.
Намного больше.
Глава 19
Операционная номер пять была залита холодным белым светом.
Семён стоял над раскрытой брюшной полостью Настасьи Андреевны и смотрел на то, что открылось его взгляду.
Это было похоже на поле боя.
Кишечник – раздутый, багровый, похожий на клубок толстых змей – мешал обзору, закрывая собой всё пространство. Где-то там, в глубине, под слоями жира и спаек, пульсировала забрюшинная гематома.
Она была огромной. Размером с два кулака, может, больше. И двигалась в такт сердцебиению, как живое существо. Как что-то злобное и голодное, готовое взорваться в любой момент.
Бомба с часовым механизмом. И таймер тикал.
– Давай, сынок, – голос Коровина донёсся откуда-то из тумана. Старик стоял напротив, по другую сторону операционного стола, и держал крючки-ранорасширители. Его руки сжимали металл мёртвой хваткой. – Не дрейфь. Глаза боятся, руки делают. Я держу, ты лезь.
Семён сглотнул.
Он знал, что нужно делать. Теоретически. Он читал об этом в учебниках, видел на операциях, слышал объяснения преподавателей. Но такую операцию еще не проводил.
Так. Доступ к аорте через забрюшинное пространство. Мобилизация двенадцатиперстной кишки. Выделение сосуда. Наложение зажимов.
Просто. На бумаге.
В реальности перед ним было месиво из крови, жира и воспалённых тканей, в котором он должен был найти тонкую нить аорты и не убить пациентку в процессе.
– Ретрактор, – сказал он. Голос не дрогнул. Удивительно. – Кишечник нужно отвести.
Медсестра Зинаида Петровна подала инструмент. Её лицо было бледным, губы сжаты в тонкую линию, но руки работали чётко. Профессионализм побеждал страх. Или, может, она просто решила, что раз уж влезла в это безумие, то нужно довести до конца.
Семён осторожно отвёл петли кишечника в сторону, открывая доступ к забрюшинному пространству.
Гематома пульсировала прямо перед ним. Тёмная, зловещая, похожая на огромный синяк под тонкой плёнкой брюшины.
– Вскрываю брюшину, – он взял скальпель. – Отсос наготове.
– Готов, – анестезиолог – тот самый, который грозился вызвать охрану – теперь стоял у изголовья с видом человека, смирившегося с судьбой. Он следил за мониторами, время от времени добавляя препараты в капельницу.
Семён сделал разрез.
Кровь хлынула сразу. Не фонтаном, но обильно. Тёмная, венозная, она заполняла рану быстрее, чем отсос успевал её откачивать.
– Больше отсоса! – он работал на ощупь, погружая руки в тёплую липкую жидкость. – Где-то здесь… должна быть…
Его пальцы наткнулись на что-то твёрдое. Пульсирующее.
Аорта.
Он нащупал её. Толстую, как садовый шланг, трубку, которая несла кровь от сердца ко всему телу. Стенка была… неправильной. Не гладкой и упругой, как должна быть, а рыхлой, истончённой. Как мокрая папиросная бумага, готовая разорваться от малейшего прикосновения.
«Расслоение», – подумал он. – «Кровь затекла между слоями стенки и растянула её изнутри. Ещё немного – и…»
– Сосудистый зажим, – он протянул свободную руку. – Быстро.
Медсестра вложила зажим в его ладонь. Холодный металл, надёжная хватка.
Семён попытался завести инструмент за аорту.
Сосуд выскользнул.
Он попробовал снова. Ткани были слишком рыхлыми и скользкими от крови. Аорта уходила из-под пальцев, как живая, не давая себя поймать.
– Давление скачет! – голос анестезиолога сорвался на визг. – Сто шестьдесят на сто! Что вы там делаете⁈
«Гипертонический криз», – мелькнуло в голове. – «Стресс, боль, кровопотеря – организм выбрасывает адреналин. Давление растёт. А стенка аорты и так на пределе…»
– Снижай давление! – крикнул Семён. – Нитропруссид, быстро!
– Уже ввожу!
Поздно.
Он почувствовал это раньше, чем увидел. Под его пальцами что-то дрогнуло. Что-то… порвалось.
Аорта лопнула.
Кровь ударила фонтаном – вверх, в лицо, в потолок. Алая, горячая, она залила операционную лампу, забрызгала маски, потекла по халатам. Анестезиолог икнул от удивления.
Семён замер.
Время вокруг него остановилось.
Он видел всё как в замедленной съёмке. Струю крови, бьющую из разрыва. Лицо Коровина – удивлённое, но не испуганное. Медсестру, отшатнувшуюся от стола. Красные капли, летящие в воздухе, как рубины в свете ламп.
И где-то глубоко внутри него что-то щёлкнуло.
Страх исчез.
Не ушёл или спрятался, а именно исчез, как будто кто-то нажал выключатель. На его место пришло… ничего. Пустота. Холодная, кристальная пустота, в которой не было места панике, сомнениям, неуверенности.
Только расчёт.
«Разрыв ниже почечных артерий», – мысль была ледяной и чёткой. – «Диаметр дефекта – сантиметра два, может три. Кровопотеря – литр в минуту. Нужно пережать выше».
Семён не отдёрнул руку. Наоборот – он нырнул ею глубже, прямо в поток горячей крови. Пальцы скользили по тканям, искали, нащупывали…
Вот.
Аорта. Выше разрыва. Целая. Пульсирующая Он сжал её.
Со всей силы, на какую был способен. Прижал к позвоночному столбу и держал. Держал так, будто от этого зависела его собственная жизнь.
Потому что от этого зависела чужая.
Фонтан крови иссяк.
В операционной наступила тишина, в которой был слышен только писк монитора и тяжёлое дыхание людей.
Семён стоял, по локоть погрузив руку в живот восьмидесятилетней женщины, и держал её жизнь в кулаке. Буквально.
– Твою ж мать… – прошептал Коровин. Его глаза были широко раскрыты. – Ты это сделал. Ты реально это сделал.
Семён не ответил.
Он смотрел на свою руку – вернее, на то место, где она исчезала в ране. Красная перчатка, красный рукав, красная кровь вокруг. Всё красное.
«Я остановил смерть», – подумал он. – «Я – живой зажим. И я не могу двигаться».
Он попробовал пошевелить пальцами. Они откликнулись – пока. Но он знал, что это временно. Рука уже начинала неметь от напряжения. Мышцы горели, требуя отдыха. Через десять минут он не сможет разжать кулак. Через двадцать – потеряет чувствительность полностью.
«У меня есть двадцать минут», – он сглотнул. – «Двадцать минут, чтобы кто-то пришёл и закончил то, что я начал».
– Вызывайте сосудистого хирурга, – его голос звучал спокойно. Удивительно спокойно для человека, который только что голыми руками остановил разрыв аорты. – Срочно. Экстренно. Вчера.
Медсестра бросилась к телефону.
Семён остался стоять.
Держать.
Ждать.
* * *
Вересов лежал на столе. Бледный, почти белый, похожий на восковую фигуру. Его грудная клетка была уже подготовлена к разрезу – обработана, обложена стерильными простынями. Монитор показывал слабый, но стабильный ритм.
Пока стабильный.
– Все готовы? – я оглядел свою команду.
Тарасов стоял справа от меня – первый ассистент. Его лицо было сосредоточенным, руки уже в перчатках. Ни следа недавней паники. Боевой режим.
Зиновьева – слева. Второй ассистент. Бледная, с кругами под глазами, но держится. Её руки больше не дрожат. Либо привыкла, либо адреналин закончился и пришло профессиональное спокойствие.
Ордынская стояла у двери, прижав руки к груди. Её не пустили к столу – слишком мало опыта, слишком много эмоций. Она смотрела на нас широко раскрытыми глазами, и в них было что-то… странное. Что-то, чего я не мог понять.
– Готовы, – Тарасов кивнул.
– Тогда начинаем. Скальпель.
Металл лёг в ладонь привычной тяжестью. Я сделал глубокий вдох.
И начал резать.
Торакотомия – вскрытие грудной клетки – это не для слабонервных. Разрез идёт от грудины вбок, между рёбрами, рассекая кожу, мышцы, межрёберные ткани. Кровь, зажимы, электрокоагулятор. Запах палёного мяса. Хруст, когда расширитель раздвигает рёбра.
Я работал быстро, но аккуратно. Каждое движение выверено, каждый разрез точен. Тысячи операций в прошлой жизни не прошли даром – руки помнили, даже если голова иногда сомневалась.
– Расширитель, – я протянул руку.
Зиновьева подала инструмент. Металлические челюсти вошли в рану, раздвинули рёбра. Грудная клетка раскрылась, как шкатулка.
И я увидел ад.
Вся плевральная полость была залита кровью. Тёмной, густой, она заполняла пространство вокруг лёгкого, скрывая под собой все структуры. Лёгкое, спавшееся и безжизненное, лежало сморщенным комком у позвоночника. Где-то там, в глубине этого кровавого озера, скрывался свищ. Дыра между аортой и пищеводом, через которую жизнь утекала из этого человека.
– Отсос, – мой голос звучал хрипло. – Много отсоса. Глеб, держи лёгкое!
Тарасов подхватил спавшуюся долю, отводя её в сторону. Зиновьева орудовала аспиратором, откачивая кровь из полости. Банка наполнялась с пугающей скоростью – пятьсот миллилитров, семьсот, литр…
– Плазму льём? – спросил анестезиолог.
– Лейте всё, что есть. Эритроцитарную массу тоже. Он потерял половину объёма.
Я активировал Сонар.
Мир вокруг изменился. Я видел сердце слабо светящееся, работающее на пределе. Видел сосуды тусклые, обескровленные. И видел его. Свищ.
Чёрная дыра в сияющей структуре аорты. Место, где энергия жизни утекала в никуда.
– Вижу, – сказал я вслух. – Дефект на задней стенке дуги аорты, переход в пищевод. Размер… сантиметра полтора-два. Края рваные, воспалённые.
– Можешь ушить? – Тарасов бросил на меня взгляд.
Я не ответил сразу.
Потому что ответ был – не знаю.
Добраться до свища было почти невозможно. Он располагался в самом неудобном месте – между дугой аорты и пищеводом, в узком пространстве, забитом воспалёнными тканями. Любая попытка выделить его грозила катастрофой. Ткани были рыхлыми, как мокрый картон, и рвались от малейшего прикосновения.
– Нужно выделить аорту, – я начал работать диссектором, осторожно раздвигая ткани. – Наложить зажим выше и ниже дефекта. Потом шить.
– Легко сказать, – буркнул Тарасов.
– Знаю.
Я работал медленно. Каждое движение занимало секунды, которых у нас не было. Ткани расползались под инструментами, кровоточили, мешали обзору. Зиновьева не успевала откачивать кровь – она прибывала быстрее.
– Двуногий, – голос Фырка раздался в моей голове. – Он слабеет.
– Знаю.
– Нет, ты не понимаешь. Он почти…
Монитор взвыл.
Длинный, протяжный звук. Прямая линия на экране. Асистолия.
– Остановка! – крикнул анестезиолог. – Асистолия! Адреналин?
– Адреналин в вену! – я бросил инструменты. – Массаж! Прямой массаж на сердце!
Я сунул руку в грудную клетку, нащупал сердце. Оно лежало в моей ладони. Тёплое, неподвижное, похожее на мокрую тряпку. Я начал сжимать ритмично, с силой, пытаясь заставить его работать.
Бесполезно.
Мышца была дряблой, пустой. Желудочки не наполнялись – крови просто не хватало. Я качал пустоту.
– Ещё адреналин!
– Ввёл!
– Атропин!
– Есть!
Ничего. Прямая линия на мониторе не дрогнула.
– Дефибриллятор! – я вытащил руку из груди. – Внутренний! Ложки!
Мне подали электроды для прямой дефибрилляции. Я приложил их к сердцу.
– Десять джоулей! Разряд!
Тело дёрнулось. На мониторе – рябь, потом снова прямая.
– Двадцать! Разряд!
Рябь. Прямая.
– Тридцать!
– Не поможет, – голос Тарасова был мрачным. – Слишком много крови потерял. Сердцу нечем работать.








