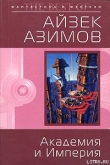Текст книги "Великая империя зла (СИ)"
Автор книги: Сергей Пилипенко
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
Нельзя упрекнуть ее и в излишнем желании получить что-то, окромя ей уже принадлежащего. У нее с сыном был небольшой дворец, построенный на месте давно снесенного Турченского дворца, издавна славившегося своими страстями.
Но, слава эта постепенно угасла, и теперь уже почти никто и не вспоминал об этом.
Конечно, тот подземный ход, о котором говорил звездочет, показывая входную дверь, сохранился, и здание было построено именно так, чтобы палаты султанской жены выходили именно под этот вход.
Для этого потребовалось лишь завалить старый вход в подвал и дополнительно прорыть вход в палату. Этим занимался лично сам эмир, лишь изредка прибегая к помощи того же Керима, который, к его удивлению, не задавал никаких вопросов и вообще, даже никогда не намекал на что-то.
Очевидно, он знал или догадывался о последней просьбе султана и никак не реагировал на происходящее.
Абдах тоже молчал и не говорил об этом сам. С одной стороны ему все же было стыдно перед тем же Керимом, а с другой – вроде бы все было по-человечески.
У него не было семьи, жен и тому подобного. Он часто находился в походах, и они просто ему не были нужны, так как его голова и руки были заняты всегда другим.
Но, в момент прибытия в Стамбул, он непременно посещал Гуляб-хиз-ляр, что обозначало примерно то же, что в Европе-леди, и они долго рассказывали друг другу о своих переживаниях, чувствах и прочих человеческих признаках существования.
Конечно, было в этих встречах и много ими обоими желаемой любви, сгораемой в их объятиях, но о ней мы несколько опустим, считая, что это личная жизнь каждого, в которую не вправе вмешиваться никто, даже сама история с ее россказнями, прибаутками и прочими принадлежностями.
Так и протекала в обоюдосторонних заботах, тревогах, волнениях друг за друга беспристрастная по их отношениям жизнь.
Конечно, Гуляб понимала, что она не единственная, которой принадлежит Абдах, но никогда не говорила об этом, особенно когда дело касалось их личного духовного и физического сближения.
Им нравилось проводить время вдвоем, и они долго бродили, взявшись за руки, по вечернему саду.
Возможно, кто-то за ними и наблюдал со стороны, но в их взаимоотношениях не было ничего такого, запрещающего общим мнением людей и того же халифата.
Вечерами эмир долго засиживался у нее в палатах, то и дело, обсуждая тот или иной государственный вопрос.
И хотя, ее это не касалось, Гуляб живо принимала участие в делах такого порядка. Иногда, они даже ссорились и ругались, но это не было той степенью надругательства над чужим мнением, как это существует в быту или на улице.
Скорее, это был тот, извечно идущий спор о преобладании какого-либо из видов сосуществования в человеческом выражении. Или проще, спор между женщиной и мужчиной в степени обладания теми или иными познаниями.
В большей степени, конечно, Гуляб проигрывала эмиру, но при этом награждала его долгим поцелуем за ее длинную и, порой, бессвязную белиберду, как она сама это называла.
Но бывали случаи и поражения эмира, при которых уже тот, довольный тем, что у его духовной избранницы тоже имеется небольшое количество странного вещества, которое помогает находить выход из положения, дарил ей обязывающий к этому поцелуй, и они дружелюбно пожимали друг другу руки и потом смеялись, довольно громко и продолжительно.
Но, таких моментов, к сожалению, было очень мало, и эмиру часто недоставало такого общения. Но, он ничего не мог изменить в этом, так как понимал, что изменить уже ничего нельзя.
Долг его обязывал к другому, а ее долг – к воспитанию своего сына.
Так и проходила их совместно-разьездная жизнь, если считать, что самого эмира во дворце можно было наблюдать лишь в течение нескольких дней со дня возвращения с очередного похода.
Но Абдах в душе, наверное, и не желал другого. Этого вполне хватало, и оно было ненавязчивым, а просто исподволь уходящим, что давало преимущество той же совести в борьбе со своими мыслями, одолевать их и убеждать в чем-то другом.
Вот и сейчас, стоя на корме, эмир, молча, созерцал море и вспоминал о таких встречах.
Они уже не вызывали у него того бурно пьянящего влечения, что раньше, потому как он взрослел и становился мудрее, а мудрость, как известно, всегда предпочитает знания, чем утеху.
И хотя, самому Абдаху это казалось весьма подозрительным, и где-то там внутри жег камень "уж не старею ли я", он все же смог понять, что это такое.
А это и была та жизненно избранная им самим позиция, от которой теперь было просто некуда бежать.
И она заставляла его все больше и больше работать на себя. И, конечно же, это был разум. Его разум. Тот, самый маленький на огромной земле среди множеств таких же, которые допускали многое и прощали другим подобное, и который, в то же время, был огромен по сравнению с ними же, но оставался пока в стороне от всеобщего им овладения.
Поэтому, смирившись с мыслью, что это так и должно быть, эмир внутренне успокоился и соблюдал даже некоторую осторожность в своих желаниях.
Порой, ему вообще казалось, что этого не нужно и вовсе, если бы не его внутренняя привязанность к чему-то подобному.
Именно она побуждала его всякий раз направлять свои мысли в нужную сторону, тем самым спасая от какого-либо не соответствующего положения.
И вскоре, Абдах вовсе привык к этому и направлял свою мысль именно тогда, когда это было нужно, тем самым больше не беспокоясь за свою внутреннюю силу.
Иногда, его мысли перескакивали с одного на другое, и тогда было невероятно трудно справиться с собой, но он все же справлялся, и это придавало ему ту постоянную уверенность в силе своего разума, которая держала его на плоту времени, не взирая ни на что.
И, к удивлению самого себя, Абдах сам сейчас решил свою задачу, которую он поставил ранее, думая о длительности жизни Юсуф-паши. Очевидно, он понял это раньше его, но не хотел признаваться в этом даже ему, считавшемуся его давним учеником.
Теперь, зная все это, эмиру будет легче с ним вести беседы и говорить о самом сокровенном.
Кто, как не он, теперь сможет его понять, ибо сила его разума практически уже равна силе того.
"Наверное, в некоторой стадии эта сила сравнивается с другой такой же", – подумал Абдах, переходя от одного борта к другому и, наслаждаясь видом открытого его взору моря.
– Но, что же дальше? – никак не мог ответить он на свой заданный тут же вопрос. – Будет видно, – успокоил он сам себя и глубоко вдохнул морской воздух.
И он напомнил ему далекое детство, юношество и ту же встречу с женой султана и его сыном.
Мысли Абдаха вновь перекинулись на юношу и почти полностью поглотили его самого.
На минуту его вывел из оцепенения невесть откуда набежавший ветерок, и эмир посмотрел на небо.
Оно становилось темным и суровым, и он понял: скоро будет штормить...
Глава 15
Эмиру не впервой приходилось встречать шторм, и поэтому, он не очень волновался, ибо знал: боится тот, кто боится умереть, а Абдаху бояться нечего.
Он уже давно перешагнул ту черту, за которой стоит та же смерть, и теперь ощущал лишь небольшую тревогу за других, в том числе, и за султанского сына.
И снова, одному ему известная, внутренняя жила забила тревогу.
Как он там?
Никто ли не замышляет против него чего-либо? Или попытается в самый ответственный момент нанести тот роковой удар.
Эмир намеренно поехал сам и покинул Стамбул. Он дал время затаившимся врагам вылезть наружу и обнаружить себя явью.
За будущим султаном следили и днем, и ночью, его не оставляли нигде.
За ним постоянно ходило два человека с ружьями на плечах и пистолетами за поясом, и к тому же, вооруженные, как обычно.
Но, этого было мало, и эмир приставил к нему еще двоих, только уже спереди, а по бокам по одному.
Таким образом, его укрывала шестерка, которая в тех же картах прикрывает туз.
Но и этого эмиру показалось сравнительно мало. Потому, он наводнил дворец своими проверенными за время походов людьми, переодев их в обыкновенных слуг и обучив к действию в таких условиях.
Кроме того, он поручил Керим-бею смотреть неусыпно за передвижениями внутри всех лиц, наново туда поступивших, и вычислять их, но пока не брать под стражу.
Заодно, он также поручил ему и султаншу, снабдив его ключом от потайной двери в ее покоях.
Керим не удивился этому поручению и принял ключ, как знак уважительного к нему доверия. Саму султаншу охраняли не менее бдительно, и почти так же, как юного наследника.
Во дворце тот же неусыпный эмир обзавелся и верными слугами, коих подбирал лично и не раз проверял.
Они-то и донесли ему о чем-то готовящемся за его спиной со стороны халифата.
А произошло все довольно случайно. Один, очень верующий слуга и без устали посещающий мечеть, как-то раз задержался и, как оказалось, совершенно не напрасно.
Кто-то тихо шептался за перегородкой внутри самой мечети и, прислушавшись, он понял, что готовится что-то серьезное на день празднования.
Поэтому, тот потихоньку оттуда удалившись, быстро принес весть самому Абдаху, который поблагодарил его тут же за службу и наградил довольно дорогим для слуги подарком: эфесом обломанной сабли с драгоценными камнями.
Конечно, это было довольно дорого для самого эмира, так как саблю держал как раз он, но донесение стоило того, и он никогда не сожалел об этом.
В знак почтения и уважения от такого дорогого подарка, слуга стал на колени и стал просить о том, чтобы тот забрал подарок обратно, так как понимал, что этого не заслуживает.
Но, эмир не согласился и вручил ему эфес почти насильно. На что тот поклялся на всю жизнь, что сохранит его, как великую реликвию этих времен в будущих поколениях.
И вот, в этой тревожной обстановке, Абдах покинул не очень любимый им город.
Он уважал Стамбул так же, как и другие города за его крикливо бегущие в стороны улицы с живой трепещущей толпой, за его веселые голоса и звонкое повизгивание детей от восторга приближения к какой-то знати.
Он уважал его также за то, что тот не был городом чванливого царства, а скорее простым и обыденным, как многие и многие другие.
Его никто не называл столицей, хотя все объединялись вокруг него. Но, в этом и было то таинство верхнего благоугодия приезжему или любому человеку, проживающему здесь же, которое несло радость общения, говорливость, незазорность и простоту поведения.
Он также уважал его и за то, что тот всегда был неприступен для врага, и всегда предпочитал умереть, нежели сдаться в плен.
И этого хватило бы, чтобы сказать о его отношении к городу, но в то же время, чувство такого уважения любовью назвать было нельзя, ибо любовь подразумевает нечто другое, более таинственное и сокровенное, принадлежащее только ему одному.
А Стамбул не был таким в его понимании.
Он принадлежал всем, кто в нем проживал, ибо, если бы там никого не было, это уже был бы не Стамбул, а просто мертвый город.
Корабль потихоньку приближался к берегу, который показался вскоре после очередного качка вновь набежавшей волны на судно.
Шторм заходил со стороны, и это как-то удаляло их от желаемого берега, но в то же время, давало возможность попасть туда быстрее, если приспособиться к самой волне.
Поэтому, оставив свои мысли на корме, Абдах двинулся вперед к капитанскому мостику, который за последние пятнадцать лет сильно изменил свой вид.
Капитан судна был его давний знакомый и не кто иной, как эфенди Мюр.
После того злополучного случая с неудачно сложившимися для него обстоятельствами сохранения тайны в секрете, он оставил свой пост и занялся мореходством.
Навыки у него кое-какие были, так как еще его дед ходил по морю.
Эмир понимал Мюра, и никогда не приглашал вернуться обратно. Он прекрасно понимал, что человеку, которому
служба искалечила тело и душу, совсем не приятно к ней снова возвращаться.
Это удел только сильных, а Мюр к таким не относился. Он был более покладист, более свободолюбив и не особо любил насилие с любой стороны.
В общем, обладал как раз теми качествами, которые для государственной службы не годились.
Конечно, он был предан и, прежде всего, эмиру.
Все-таки тот, хоть и дал ему поручение, но в последнюю минуту спас жизнь. И за это Мюр вечно благодарил его при встречах, как бы постоянно напоминая о тех далеких временах.
Эмир не любил этого, но все же терпел, понимая, что их больше ничего не связывает, кроме воспоминаний.
После того, как Мюp ушел со своего поста, они очень редко виделись. И это лишало возможности совместимости в какой-то области развития их мысли.
При встречах они обменивались рукопожатием, а затем Мюр всегда почему-то притрагивался к своей искалеченной ноге, а уже потом начинал рассказывать о прошлом.
Словом, это был тот повсеместный ритуал, который ему казался неотъемлемым при встрече с таким весьма уважаемым человеком.
Но, все же иногда они обменивались и мыслями о том или другом, ибо, как не говори, а служба, даже в далеком прошлом, накладывает свою жизненную дань.
Именно поэтому, эмир и выбрал его корабль для сопровождения на другие берега.
Конечно, он руководствовался также и личной безопасностью, хотя во многом другие тоже уже проверены. Но, когда дело касалось особо важного, он доверял тем, кого давно знал и верил, что никогда не предадут.
И сам Мюр, видимо, понимал все это, так как не пытался чего-то доискаться от него самого и не спрашивал, куда и зачем они направляются.
В общем, это был тот тип человека, способного во многом, но не желающего отягощать свою судьбу тяжелой долей государственной, либо ей подобной службы.
Взобравшись наверх к Мюру, Абдах поздоровался, как и всегда, за руку. Со вчерашнего вечера они еще не виделись, и поэтому, рукопожатия были более сильными.
Мюр смотрел вперед, лишь изредка поворачивая голову к эмиру. Сейчас он был занят своей работой, от которой, в принципе, и зависела жизнь членов его экипажа и охраны эмира.
Кроме того, на судне были и торговцы, пожелавшие просто так пересечь море и полюбоваться другой его стороной, а заодно втайне и чем-либо поторговать.
И хотя они не говорили Абдаху этого, он все же знал их замыслы.
Но не ругался и, как говорят, не выводил на чистую воду.
– Пусть попробуют и здесь свои силы, – думал эмир, – не век же им сидеть в одном месте и приторговывать, в большей степени, контрабандным товаром, коим считался тот же табак, мак, свекла и картофель, невесть откуда появившийся у них на берегу.
Хотя, если честно, эмиру самому нравилось все это, разве что окромя курения и сделанного из мака опиума.
Этого он не понимал, так как считал и знал, что наивысшая точка сферы его блаженства наступает только в трезвом состоянии головы, когда она кажется полностью открытой для окружающего.
В такие минуты наступала эйфория действительного счастья, от которого кружилась голова, и хотелось кричать от радости наслаждения.
Но, они бывали редко, ибо, в большей степени, приходилось думать о чем-то и ком-то, а не наслаждаться.
Человек воистину был бы счастлив, если бы рядом был счастлив ему подобный.
Только в общей эйфории и можно было найти именно то, что он, казалось, искал веками.
Конечно, эмир пробовал все это втайне ото всех, даже от Гуляб, от которой почти никогда не скрывал ничего.
Но, все же, ничто не заменило ему ту минуту торжества и упоения здравого смысла, которую он испытал однажды и больше не терял никогда.
Это было давным-давно, лет тринадцать тому назад. Он как раз возвращался из далекого похода.
На коротком привале ему вдруг захотелось пить. Но, он не стал делать этого, так как воды было совсем мало, а идти еще далеко.
К тому же, его лошади тоже надо было что-то пить, ибо она несла на себе его самого и нуждалась в этом вдвойне. Поэтому, эмир, опустившись с лошади, решил пройтись просто пешком и размять отекшие ноги.
Это он делал вообще-то довольно часто, так как та же лошадь сильно уставала при далеких переходах, но тогда ему показалось это вдвойне нужней.
И он, совсем недалеко отступая, пошел в сторону восходящего солнца. Шагах в пятнадцати от лошади он сел и посмотрел на восход.
Солнце только всходило, и картина напомнила ему минуту первой своей победы.
Он зачем-то закрыл глаза и представил себе то же солнце. И, к удивлению, обнаружил его даже так.
Сначала эмир просто испугался и подумал, что это галлюцинации без воды, но все же удержал себя на месте и наблюдал, что будет дальше.
Другого ничего не было, но его грудь наполнялась чем-то таким, от которого он думал, что сейчас взлетит в небеса.
Тело становилось все легче и легче, и вскоре, он вообще не ощущал себя самого.
Солнце вдруг сменилось другой картиной и перед взором стали огромные звезды, гораздо больше, чем те, которые он видел в трубу звездочета.
Затем, панорама менялась несколько раз. То восходила луна и заливала ярким светом его лицо, то снова восходило солнце, озаряя багрово-красной полосой, то снова воцарялись звезды в своей торжествующей холодной красоте.
И под конец, как занавес всему увиденному, он вдруг обнаружил свое лицо, как будто отражаемое в воде, но гораздо ближе и чище.
Эмир даже испугался на секунду, но застывшее почему-то тело не давало двинуться с места, и он, словно скованный невидимыми путами, сидел на песке и созерцал свое лицо. Потом, разом все исчезло, и эмир попытался вызвать его вновь, но усилия оказались тщетными.
Вскоре, он снова стал чувствовать руки и ноги, и даже немного пошевелился. Чувство полного высвобождения от всего скопившегося в нем за последние дни похода внезапно исчезли.
И эмир снова ощутил силу и даже какую-то излишнюю уверенность, от которой хотелось сейчас же сесть на коня и ехать дальше.
Так было в первый раз. Затем, картины перед его глазами часто менялись, и он иногда даже видел нечто такое, о котором вовсе не знал.
Абдах даже видел иногда себя в каком то другом облике, одежде и в непонятной ему повозке. Все это он старался запомнить, совсем не зная, зачем и почему.
Скорее всего, от того, что оно доставляло ему удовольствие или то верхнее блаженство, от которого не хотелось ни есть, ни пить, ни спать, ни думать о чем-то, ни разговаривать, а просто сидеть и молча созерцать за картинами.
Но, к сожалению, это с годами сокращалось и уступало место другому. Внутреннее видение было вначале совершенно непонятным.
Сначала, что-то густое и темное, лишь с изредка белевшими прожилками, но со временем просмотра удваивалось, утраивалось и так далее.
В конце концов, оно преобразовалось сразу же в одну какую-то точку с мгновенным развертыванием во что-то большее перед глазами.
И тогда, голова его вдруг между бровей начинала болеть, и какая-то точка начинала сверлить у него в этом месте дыру.
Боль сначала была ужасной, и казалось, голова треснет и не выдержит, но постепенно она сокращалась и вскоре перестала болеть вовсе.
Теперь, эмир мог смотреть, когда угодно и как угодно. Стоило ему лишь закрыть глаза, как перед ним неизменно появлялась точка, расплывающаяся в разные стороны и немного напоминающая человеческую серую жидкость в разжиженном состоянии.
Все это не давало ему покоя, и он пытался хоть что-то узнать из книг, присылаемых отовсюду, но, увы, такого нигде не было.
Поэтому, эмир хранил все это в себе и не рассказывал никому, даже самым близким ему людям.
Постепенно это все прекратилось, и он уже не обращал внимания на подобное. Вместо него пришло другое: способность мыслить самостоятельно и не предаваться уму других.
Теперь он понимал многое, каким-то странным образом попадавшим ему в голову .
Все рождалось как бы не из чего. Была только мысль, но вскоре она обрастала другой, и это обретало уже вид какой-то проповеди или речи.
Допускались и ошибки, но чем дальше, тем их становилось меньше и меньше.
И вот, наконец, наступил такой день, когда он с полной уверенностью мог говорить что-то такое, которое удивляло других и порой даже его самого.
Эмир не знал, откуда все это берется, но все же надеялся, хоть когда-нибудь об этом узнать. Поэтому, старался верить сам себе в своих мыслях и подтверждать их делами.
Нельзя сказать, что это сразу у него получалось легко и просто, но проходили года, и он становился еще более верен себе и своему слову.
Эмир не касался других и не придавал значения их словам. Он лишь улавливал иногда их хорошую мысль и пытался сочленить со своей.
И вскоре, у него образовалась своя способность к другому восприятию окружающего. Он не смотрел на людей, как на врагов своему уму, а просто сожалел и в душе понимал, что им очень далеко до него самого.
И, быть может, пройдут сотни, а то и тысячи лет, пока все смогут так же, как он, видеть, думать и мечтать о каком-то далеком будущем и о более лучшей жизни для всех.
Абдах начинал понимать, почему нужна была вера человеку, и почему люди нуждались в подобном пока на земле.
Но, эта мысль пока оттеснялась как-то в сторону, забиваясь повседневной работой и заботой о том или другом, не давая ему сосредоточиться на одном.
Но все ж, он углядел небольшое свое же начало и изрек сам, того еще не понимая, что изрек правду.
"Вера – это не то, что мы думаем, – говорил он сам себе, – это то, о чем мы всегда мечтаем и по мере сил приближаем ближе. Она нужна нам для самоцели и стремления к лучшему. И она же нужна, как мера наказания за предательство самого себя самому себе же. И как бы глупо это сейчас не звучало, все это именно так и никак больше".
К такому выводу он пришел сам и уже спустя два дня добавил: "Вера – это еще и любовь".
Но, что он под этим подразумевал, оставалось пока загадкой и той небольшой тайной, до которой, как ему казалось, оставалось совсем немного.
Его мысли почему-то снова перекинулись на маленького султана, ибо таким он до сих пор оставался в его памяти, несмотря на юношеский возраст.
И он подумал:
"Вот, что я ему передам в свою последнюю минуту, и, наверное, об этом просил меня его же отец перед смертью, хотя я тогда и не совсем понимал это.
Знания, обретенные временем во времени – вот, что главное, которое остается после нас".
И эмиру как-то сразу стало легко и свободно на душе. Он понял, что открыл для себя тайну соприкосновения мертвого и живого, либо зарождающегося вновь.
И от этого ему хотелось кричать на всю ширь и гладь этого беспокойного Черного моря.
Но, он сдержал свой порыв и посмотрел вперед. Где-то там, на берегу уже ждали его старые друзья и, наверное, волновались за него, как и он за других.
Так и должно быть. Так и положено кем-то, может быть, чуточку выше нас.
И не это все равно главное. Главное то, что навсегда остается с нами, несмотря на все беды и невзгоды существования.
Это любовь и частичка того большого разума, которой наделен каждый и к которому он так хотел быть гораздо ближе.
Ветер усиливался, но до берега уже оставалось сравнительно немного. К тому же, эмир знал, что Мюр хорошо знает свое дело и выйдет из любого положения.
В этом он убедился давным-давно. И сейчас Абдах молча наблюдал зa его работой, стараясь понять, как лучше держать судно на ветру.
И это ему удавалось. Вскоре, полился дождь, и ему пришлось спрятаться под навесом, сооруженным здесь же на мостике. Это мешало ему смотреть на набегавшие волны и что-то определять.
Но, он уже понял и так, что к чему и не составляло труда самому проделать то же.
В этом и заключалась главная сила его превосходства и высшая степень к познанию.
Уметь распознать, уметь передать и вложить другому – и было той заветной судьбой, и целью его самого.
Вскоре, они причалили к берегу, который встречал их почему-то хмуро и так же дождливо.
"Что-то стряслось", – подумал эмир и тут же взглянул на небо.
Сквозь темные тучи он ясно увидел Юсуф-пашу, сидящего на коне в своем боевом наряде.
"Юсуф умер", – подумал он, и тут же ему донесли это с берега.
– Ну что же, придется улаживать все, как всегда, самому, – продолжил он, всматриваясь в береговую полосу и одновременно думая о чем-то своем...
Глава 16
В палатах стоял густой туман. Кто-то решил протопить печь на всякий случай, если царь скажет, что холодно.
Максюта, а теперь уже Малюта, как его прозвали подчиненные за особую любовь к художеству по голому человеческому телу своих подданных, сидел на высоком троне и кашлял, задыхаясь от вновь и вновь набегающего облака дыма, клубившегося, в основном, возле двери.
И когда кто-то заходил или выходил из палат, небольшое отделившееся от общей массы облако летело прямо ему в лицо.
Царь ворчал и сердился на всех и вся.
– Кто позволил затопить печь? – кричал он во всю, боясь своего высокого голоса.
В отличие от предыдущих царей, он не обладал громоизвержением, но зато превзошел всех прелюбодеянием здесь же в царских хоромах и потреблением хмельной воды.
– И откройте эту чертову дверь, – снова закричал он, хватаясь, как и прежний государь, за свое сердце.
С вечера они с придворным батюшкой хорошо набрались и повеселились с какими-то дивными девами, привезенными аж из Челноков князем Радомским специально для царя.
С утра ему было тошно и дурно. Во рту чувствовался привкус вчерашнего потребляемого зелья, а в носу запах чихарды.
– Принесите мне выпить и поскорей, – закричал царь, снова схватившись за больное место на груди.
Слуги бросились в рассыпную, зная, что во дворце зелья нет. Бояре прятали его от царя, боясь снова лишиться государя.
К тому же, он был не так уж и плох в сравнении с предыдущими двумя. Бывали и у него лютые дни, от чего и прозвали его так, хотя в самом деле звался он по-другому.
Но, таких было немного, и все ж он меньше губил людей, нежели прежний. Говаривали, что от его руки погиб митрополит, но это только слухи по Москве-граде катились. Сам Малюта этого не признавал и всегда разъярялся, когда ему доносили о ходивших слухах.
И всегда говорил:
– Я не клал руки на его душу, а если бы и положил, то сказал бы за что. И нечего мне приписывать то, чего не делано государем. А тех, кто слух такой пускает, казню незамедлительно. Пущай знают, кто царь, а кто болтун. Ко всему, я не просто царь, а помазанник божий, так как могу рисовать химеры и прочую хворотбу.
Это было действительно правдой. В самом деле, царь умел рисовать больных какой-то гадкой болезнью или прочих смертных, отягченных чем-то.
Рисунки он клал себе в ларец и всегда приговаривал при этом, что не царское дело этим заниматься, но коли больше некому, то сойдет и он.
Вот таким был царь Малюта спустя семнадцать лет со дня прихода его на трон.
Много воды утекло с тех пор, как царь Иван умер. Много людей померло от голоду и холоду.
А еще больше покрыл мор, бродивший по Москве и пригороду целую зиму и весну.
Никто не знал, что это за болезнь такая, и люди умирали, как мухи.
В Москву-то и не ездили никто тогда, боялись заразы, а сам царь скрывался в подмосковной усадьбе, построенной специально в скором порядке, никого к себе не допуская, и даже не издавая указов.
В общем, жили, кто, как мог. Кто умирал с голоду и холоду, от мора и прочих болезней, а кто жировал в царском заселье, несмотря ни на что.
"Что поделать, коли у нас царь такой, – говаривали простые люди и смерды. – Бог спасет, коли увидит сверху".
Вот так, в надежде на силу всевышнего и шли года. Нельзя сказать, что для России они были спокойными и особенно в зиму. Лютовали сильные морозы, а летом стояла жара, и кусали адские комары, величиной с ноготь, от чего люди снова болели, а некоторые даже умирали.
Шла война за восточные, северные и западные земли. Никак не удавалось отбросить врага подальше, и все виной все то же.
Никудышная упряжь для лошадей от того, что все гнило заживо, плохая обувь для солдат, мало ружей, а одними саблями, да копьями много не навоюешь.
Вот и ходили стражники с какими-то длинными ружьями вместо того, чтобы ходить уже давно с короткими, как у других.
Так мыслил простой народ.
А царь в это время говаривал:
– Ничего, подождем немного. Они у нас долго не задержатся. Холодно больно тут. Не привыкшие они воевать-то в нашем краю.
– Так-то оно так, батюшка, – соглашались дворяне, – но, где это видано, чтобы мы спину подставляли в битвах и баталиях. Повек такого не помним.
Царь гневался и кричал визгливо:
– За то я помню, сам был там и воевал тоже, пока сюда вот попал, – и он показывал на трон, стуча по нему кулаком.
Дворяне притихали и исподлобья смотрели на него.
Что они могли еще сказать?
Затем царь снова утихал и уже более спокойно добавлял:
– Сам знаю, что плохо воюем, но хоть так. А коли и этого не будет, то кто ж нам денег давать будет. А? Что люд простой скажет? Что закабанели или обленились вовсе. Нет. Так нельзя. Пускай воюют себе там служивые. Им к этому делу не привыкать. Сам знаю, воевал ведь. Пусть, покормят вшей в окопанях. Может, дурь какую выбьет. А то прослышал я, что недовольства много среди войска прочего. Нельзя дать им взбунтоваться, а то и вовсе на погибель сойдем. Кто ж кормить нас будет?
Вот так, совсем не мудрено и отвечал царь своим подчиненным. Довольно просто и безо всякого хвастовства, если не считать, что сам якобы воевал.
Так и шли из года в год слухи о каком-то царе-олухе, не знающем, чего он хочет и вообще царь ли он.
За них били, казнили, выдирали языки, но все ж истребить не могли. И, наверное, не только потому, что таких было достаточно много, а еще и потому, что скорее и вернее – это была святая правда. А правду, как известно, выбить из головы очень тяжело, так как она глубоко сидит внутри.
Царь нервничал и кричал вновь:
– Так несите же выпить поскорее. Эй, где вы там все, олухи? А то помру ведь, будете хоронить, а где денег брать, казна то исхудала и почти пуста...
– И вправду, – тихо шептались рядом стоящие дворовые люди, – и хоронить то не за что. Надо бы дать ему выпить, а то, не дай бог, помрет, яко прежний государь от падучей".
Кто-то отошел в сторону, а затем вернулся и поднес царю стакан с хмелем.
– Что даешь, сучье отродье, – вскричал царь, – водку неси и скорее. Не то, прикажу выпороть у всех на виду там, на площади.
– Где ж, батюшка, ее достать-то, – извинялся боярин, то и дело, отходя в сторону, – водку-то от немца берем, а он нынче дорого просит. Казна, сам знаешь, пустая.
– Гад, – закричал царь, – я вытрясу все ваши кошельки.
– На, вытряси, – промолвил один боярин и выступил наперед, – нету-ти там ничего. Ты все уж из нас вытряс.
От удивления у царя глаза полезли на лоб, округлились и расширились.
– А, ты кто такой? – вымолвил он с трудом, явно озадаченный такой смелостью.
– А я тот и есть, кто должен тебя унесть, – проговорил
тот скороговоркой и тут же с размаху бросил нож в Малюту.
Бояре ахнули и отшатнулись в стороны. Малюта успел уклониться, и нож угодил в левую часть спинки трона.