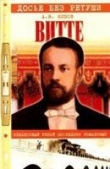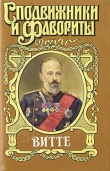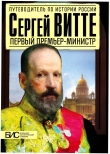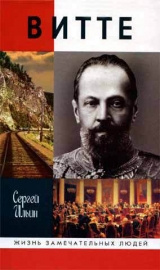
Текст книги "Витте"
Автор книги: Сергей Ильин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 40 страниц)
И курьезы можно было найти в тарифных справочниках. Курско-Харьково-Азовской дорогой навоз перевозился по более высокому тарифу, нежели кизяк, хотя должно было быть как раз наоборот, поскольку кизяк – изделие из навоза 93. Тарифный сборник Харьково-Николаевской железной дороги для перевозки драгоценных камней (самоцветов, жемчуга, бриллиантов и т. п.) установил два тарифа – один попудный (с пуда груза и версты расстояния), а другой по-вагонный, для отправок весом не менее 610 пудов (! – С. И.). Должностные лица, ответственные за организацию перевозок, в тарифные сборники и не заглядывали, как будто те составлялись лишь для проформы. Отчасти так оно и было – назначение тарифов походило на дружескую сделку: «Дай мне на этот груз одну восемнадцатую, а я тебе сегодня такой обед закачу в Эрмитаже, что все пальчики оближешь».
Это были подлинные несуразицы. Но были несуразицы и мнимые. В среде русских железнодорожных деятелей считалось за непреложную истину, что дороги непременно должны сокращать расстояния. Следовательно, грузы надо обязательно перевозить по кратчайшему пути. Так думал, в частности, Александр Иванович Чупров – выдающийся российский экономист, автор капитального труда по экономике железнодорожного транспорта.
Когда Общество Юго-Западных железных дорог еще только затевалось, он выражал опасение, что, пользуясь своей монополией, оно начнет отбивать грузы у других дорог и, чтобы заработать на провозе, направит их по более длинному маршруту или вообще туда, куда не следовало бы их доставлять. Например, вместо Одессы в Кенигсберг – торговый порт соперничающей державы: «Во всяком случае, предполагаемое слияние обещает Юго-Западному краю никак не пользу, а один ущерб» 94.
Общее возмущение вызывали, например, факты, когда хлебные грузы, предназначенные для Прибалтийских губерний, со станции Ровно Юго-Западной железной дороги направлялись сначала на запад, до Бреста, а затем – на север, уже на Барановичи и Вильно, хотя имелось и простое решение: передать их на Полесские казенные железные дороги и направить по кратчайшему расстоянию 95. Но не всем было ведомо, что тарифы за перевозки по краткому расстоянию назначались более высокие, поскольку Полесская железная дорога была новая и на грузы, по ней перевозимые, раскладывался процент на немалый строительный капитал.
Юго-Западное общество придерживалось полностью самостоятельной и совершенно независимой тарифной политики. На региональных железнодорожных съездах, где путем соглашения устанавливались «нормальные» тарифы, его представитель заявлял, что он уполномочен участвовать в разработке нормальных тарифов лишь в том случае, если эти тарифы будут впоследствии представлены на утверждение правления дороги.
Тарифный разнобой и беспредел, обогащая одних, ударял по другим и в конечном счете – по государственному карману. Дело в том, что русские железные дороги, действовавшие в юридической форме акционерных обществ, были частными только с виду. Фактически же они поддерживались из государственного кошелька, поскольку их облигационные займы и даже акционерные капиталы имели от правительства гарантию 5 %-ной доходности. Долги железных дорог казне вызывали большое напряжение в государственных финансах. Министр финансов Н. X. Бунге как-то сказал, что, если бы железнодорожные общества погасили свои долги казначейству, дефицит русского государственного бюджета был бы с лихвой покрыт.
Острая полемика по тарифным вопросам выплеснулась на страницы печати. В полемике участвовал и С. Ю. Витте. Управляющий Полесскими дорогами инженер путей сообщения H. H. Изнар опубликовал статью, где указывал на противоречие между требованиями тарифного единообразия, которые отстаивал С. Ю. Витте в прессе, и его повседневной деятельностью, которая якобы находилась с этими взглядами в полном противоречии. После этой статьи, вспоминал много лет спустя H. H. Изнар, «…я удостоился возражения, подписанного самим Витте, смысл которого был следующий: С. Ю. Витте – как экономист, знаток тарифного дела – мог проповедовать какие угодно воззрения на тарифы, как управляющий Юго-Западных дорог – он мог и обязан был отступаться от своих воззрений, если они в чем-либо не соответствовали интересам вверенной ему дороги» 96.
Один из коренных принципов своей тарифной политики, гласивший, что понижение тарифа на дальние перевозки может обернуться не потерями, а чистой прибылью, С. Ю. Витте, возможно, почерпнул из своего опыта службы на Одесской дороге. Все время она эксплуатировалась настолько плохо, что выручки не хватало для выплат доходов акционерам и держателям облигаций. Исключение составили только годы Русско-турецкой войны, когда выручка по пассажирскому движению увеличилась примерно в два раза. Чистый доход дороги возрос только за один год на полтора с лишним млн руб. (в 1876 году – 3 млн 106 тыс. руб., в 1877-м – 4 млн 670 тыс. руб.) преимущественно за счет пассажирских воинских перевозок 97. И это несмотря на то, что военнослужащим – пассажирам вагонов 1-го и 3-го классов предоставлялась скидка с тарифа в размере от 35 до 70 %!
До объединения Киево-Брестская дорога жестко конкурировала с Одесской и даже успела отбить у нее часть грузов. Из 43 млн пудов хлебных грузов, перевезенных Одесской дорогой в 1873 году, в 1875-м у нее осталось всего 19 млн пудов. Орудием в конкурентной борьбе явилось большое понижение тарифов, произведенное Киево-Брестской дорогой. В 1886 году конкурентная борьба за хлебные грузы путем понижения тарифов обострилась до крайней степени. В том же году С. Ю. Витте был повышен в должности – он получил желанный пост управляющего всеми дорогами Юго-Западного общества.
Обстоятельства получения этой должности в его воспоминаниях получили несколько одностороннее и потому не совсем правильное освещение. Та часть мемуаров, которая касается обстоятельств перехода на пост управляющего дорогами, создавалась, скорее всего, по памяти. С. Ю. Витте был назначен управляющим вскоре после того, как И. А. Вышнеградский в 1886 году сложил с себя полномочия председателя правления Общества Юго-Западных железных дорог ввиду назначения в Государственный совет, а через год и на должность министра финансов. Поскольку Д. А. Андриевский занял освободившееся место в правлении дорог, то встал вопрос о кандидатуре управляющего. «Так как им (Андриевским. – С. И.) были не вполне довольны, потому что Юго-Западные дороги все время приносили или дефицит, или давали очень мало дохода, то обратились вторично в Министерство путей сообщения с просьбой утвердить меня управляющим Юго-Западными железными дорогами» 98. Доля правды в том, что пишет С. Ю. Витте, безусловно есть. Состоит она в том, что валовая доходность дорог при управлении ими Д. А. Андриевским была невелика. Но она и не могла быть значительной, поскольку все три магистрали к моменту их объединения находились в тяжелейшем кризисе. К 1885 году он был в основном преодолен, и на передний план выдвинулись задачи эффективной эксплуатации обновленного дорожного хозяйства. Свою готовность справиться с ними С. Ю. Витте вполне доказал. Он успел зарекомендовать себя не только в качестве превосходного администратора службы движения громадной рельсовой магистрали, но еще и в качестве теоретика тарифного дела. Его имя приобрело широкую известность в России, чему способствовал еще и выход в свет его первой крупной печатной работы.
***
Свою книгу о тарифах С. Ю. Витте создавал за границей, в Мариенбаде. Там он проходил курс лечения. Первоначально книга печаталась частями в журнале «Инженер». Летом 1883 года автор подготовил ее к публикации целиком и издал под названием «Принципы железнодорожных тарифов» (авторское предисловие к первому изданию датировано сентябрем 1883 года). Работа эта – лучшее из всего, написанного С. Ю. Витте, если не считать «Воспоминаний».
Книга вызвала очень большой интерес и многочисленные отклики, в том числе и полемические. Писал С. Ю. Витте, несмотря на свою колоссальную служебную занятость, очень быстро – уже в 1884 году появилось второе дополненное издание.
Почти во всех критических отзывах указывалось на противоречивость общей экономической концепции автора. Одни критики причисляли С. Ю. Витте к «манчестерцам», другие – к «государственным социалистам». Третьи считали его «непоследовательным оппортунистом», так как находили, что фундамент своей тарифной теории автор возводит на принципах классической политической экономии, а затем из этого фундамента начинает вынимать камни. Поэтому второе издание книги было дополнено двумя параграфами – в одном (девятом по счету) автор определил свое отношение к государственному вмешательству в экономические процессы, а в другом (пятом) впервые изложил свои взгляды на теоретические вопросы экономики.
Заниматься экономическими и финансовыми науками С. Ю. Витте начал в бытность свою начальником службы движения Одесской железной дороги, когда ему непосредственно пришлось овладевать непростой тарифной проблематикой. Запутавшись в дебрях понятий «цена» и «ценность», он обратился за консультацией к А. С. Посникову, занявшему в 1870-е годы профессорскую должность в Новороссийском университете. Тот посоветовал молодому человеку не забивать себе голову профессорской ученостью: «Вся теория спроса и предложения, нормирующая стоимость предметов и услуг, есть выдумка людская. Это все сочинили те люди, которым сочинение это выгодно для эксплуатации труда. Один только труд дает цену; всякая цена будет лишь тогда справедлива, если она будет справедливо выражать затраченный труд» 100. А. С. Посников, по-видимому, многим дал этот совет, но далеко не всем, в отличие от С. Ю. Витте, он пошел впрок.
В теории С. Ю. Витте оказался близок московской школе экономистов, прославленной именем А. И. Чупрова, а также А. С. Посникова и академика И. И. Янжула. Александр Иванович Чупров удостоил книгу С. Ю. Витте хвалебным отзывом.
В построении своих тарифных принципов С. Ю. Витте в общем исходил из положений трудовой теории стоимости. Он указывал: перевозка товаров из одного места в другое не создает новой стоимости. Следовательно, товар должен платить за перевозку столько, сколько он сможет заплатить. «Что именно вызывает необходимость в передвижении товаров из одного места в другое?» – задает вопрос автор и отвечает на него так: «Разность между ценами, существующими на эти товары в местах, откуда товары направляются, к существующим или возможным в тех местах, куда товары эти следуют. Если б не существовало этих разностей, то не вызывалась бы и потребность в передвижении. Следовательно, провозные цены должны соответствовать исключительно этим разностям» 101.
При определении размеров провозной платы по железной дороге следует отталкиваться не от накладных расходов транспортных предприятий, а от условий образования цен на товары в пунктах отправления и назначения, условий производства и потребления этих товаров. Сумма капитала, затраченного на сооружение дороги, вообще не должна сильно влиять на размер тарифа.
Автор тарифных принципов предлагал учитывать закон спроса и предложения, который он считал столь же древним, сколь древен сам человек 102. При практическом применении его С. Ю. Витте советовал руководствоваться экспериментальным методом: исследовать, насколько это возможно, все условия, которые определяют спрос на тот или иной товар и на предложение его. Главным ориентиром выступал баланс интересов производителей грузов, их потребителей и железнодорожных предприятий. Они как-никак должны возместить себе расходы по перевозке 103.
Автор «Принципов» рассуждал как государственный деятель. Первостепенная задача текущего момента ему виделась в том, чтобы уменьшить, а по возможности и вовсе устранить общий дефицит русской железнодорожной сети. Поэтому те дороги, которые дают наибольшие доходы, должны получить законные преимущества в борьбе за грузы. И не следует увлекаться покровительством промышленности посредством тарифов – есть более важные задачи. «Когда железные дороги будут жить на свой счет, а не питаться податями, собираемыми преимущественно с относительно неимущей массы народа, тогда может выступить на очередь во всем своем объеме не только вопрос о покровительстве железнодорожными тарифами отечественному производству, но еще гораздо более важный и, можно думать, более неотложный вопрос – о покровительстве железнодорожными тарифами неимущим классам, т. е. с понижением тарифов для передвижений беднейших, а также о понижении тарифов на все продукты, составляющие предмет первой необходимости для массы населения» 104.
С. Ю. Витте наверняка знал, что кардинальное обновление всего путевого хозяйства Юго-Западного общества было произведено главным образом на казенные деньги. Из 153 млн руб. облигаций, выпущенных к 1 января 1886 года Обществом на эти цели, Государственный банк за счет казначейских средств приобрел 111 млн 650 тыс. руб., или почти 73 % 105.
С. Ю. Витте мыслил широко и оригинально: «Для придания нашему Отечеству надлежащего экономического роста необходимо достичь возможности наиболее легкого распространения естественных богатств по всему обширному протяжению империи. Недостаточно, чтобы производства однородных произведений распространялись порайонно, в ближайших местностях от пунктов производства, но необходимо стремиться, чтобы каждый производитель имел как можно более обширный район распространения своих продуктов, ибо через такое распространение предложения будут значительно выигрывать интересы потребителей. Повсеместное распространение внутренних производств необходимо в особенности в стране, держашей протекционные таможенные тарифы, вся тяжесть которых ложится исключительно на потребителей. Если действительно таковы должны быть стремления, то как достигнуть их на пространстве более 5 млн квадратных верст, представляющем Европейскую Россию, и как в будущем достигнуть того же самого на пространстве более 18 млн квадратных верст, представляющем Европейскую Россию с Сибирью и среднеазиатскими владениями? Очевидно – только посредством крайне низких тарифов на дальние расстояния. Русские тарифы на дальние расстояния непременно должны выйти из установившихся европейских норм» 106.
Но как этого достичь? Прежде всего не ограничивать железнодорожные общества в назначении провозной платы на близкие расстояния. Опыт эксплуатации Одесской дороги показал, что на малоценные грузы, не выдерживающие дорогих фрахтов, дороги должны держать низкие тарифы. При этом С. Ю. Витте делает важную оговорку – только не за счет Государственного казначейства 107.
Пример, когда пониженный тариф на близкое расстояние оборачивается чистым доходом, – это перевозка свекловицы. «Дорога может согласиться на перевозку свеклы до какого-либо сахарного завода по тарифу ниже эксплуатационных расходов, зная, что перевезенная свекла даст дороге новый груз – сахар, который имеет такую ценность, что, вообще говоря, выдерживает высокий тариф, если при этом коммерческий расчет убеждает, что убыток от перевозки свеклы покроется перевозкой сахара» 108.
В наши дни подобные рассуждения могут показаться вполне тривиальными, но тогда они были в новинку. Ушло то время, когда транспортные, торговые и кредитные предприятия паразитировали на производителе, теперь им надлежало поддерживать, стимулировать и направлять производство товаров. В этом заключался главный интерес железнодорожных предприятий, еще не вполне ими осознанный.
Из сказанного вовсе не следует, что С. Ю. Витте считал допустимым и оправданным забыть о посредниках между производителями и потребителями продукции: «Тем не менее, вообще говоря, провозные цены не должны быть ниже стоимости производства, т. е. расходов эксплуатации» 109. Но это вообще, а при решении практических задач общими принципами руководствоваться крайне опасно – нужно установить, как они преломились в действительности.
С. Ю. Витте – противник простых и шаблонных решений сложных проблем. Тотальная унификация тарифного дела ему казалась нежелательной – железные дороги есть принципиально новое экономическое явление. «…Избегнуть разнообразия железнодорожных тарифов, насколько оно зависит от самого существа дела, невозможно» 110. Путь применения абстрактных формул ему представляется легким и, в сущности, неправильным. Следовало двигаться опытным путем – изучать практику и обобщать ее результаты.
Желаемый принцип государственной политики в тарифном вопросе автор формулирует так: каждый товар должен платить за свою перевозку такой сбор, какой он в состоянии заплатить на основании «совокупности условий спроса и предложения» 111.
«Мы идем далее и скажем, что, по нашему убеждению, на обязанности железных дорог лежит, не ожидая посторонних заявлений, будить спящие силы, толкать вперед предприимчивость и вызывать к жизни те богатства страны, которые до настоящего времени находятся в полумертвом состоянии» 112.
Не бояться понижений тарифов рекомендует С. Ю. Витте, а следить с цифрами в руках за тем, как эти понижения влияют на чистую доходность дорог. Ведь понижения тарифов могут доходность уменьшать, а могут и, наоборот, увеличивать. Если чистая доходность растет, то тарифная политика железной дороги верная.
Хотя его попытка устроить некоторое подобие общественного контроля за железными дорогами не удалась, С. Ю. Витте от нее не отступился. Широкую и свободную критику положения в железнодорожном хозяйстве он считал крайне необходимой. Даже пристрастная, тенденциозная и некомпетентная критика гораздо лучше полного отсутствия таковой.
Классическая английская политэкономия имеет громадные заслуги перед человечеством. Но ее законы были сформулированы в эпоху расцвета капитализма, когда принципы свободной конкуренции казались незыблемыми. Затем наступили иные времена. Промышленные предприятия разрослись до таких огромных размеров, что развиваться исключительно за счет собственной прибыли они уже не могли. Появление промышленных монополий уже в 1880-е годы стало фактом. Акционерная форма предпринимательства начала преобладать в промышленности, а на железнодорожном транспорте с его громадными капиталами она вообще сделалась единственной.
С другой стороны, усилилась неравномерность в экономическом и политическом развитии европейских государств, чего не наблюдалось так явно в эпоху Просвещения. Хотя многие современные политологи, похоже, считают закон неравномерности вечным, а Россию изначально отсталым государством, у историков иной взгляд: один из корифеев российской и советской историографии, академик Евгений Викторович Тарле написал и опубликовал работу под характерным названием «Была ли екатерининская Россия экономически отсталою страною?» 113.
Постулаты классической политэкономии с ее идеями свободного рынка, государственного невмешательства в экономические процессы во второй половине XIX века зашатались. Появились иные направления и школы, которые С. Ю. Витте в своем труде именует «социалистической» и «реалистической». Его симпатии однозначно на стороне второй, поскольку ее концепции доказали на практике свою эффективность. Да и сами они возникли не из чистого разума, а явились во многом обобщением жизненного опыта.
С. Ю. Витте приводит в пример Германию и блестящую деятельность князя О. Бисмарка по разумному упорядочению экономических и социальных отношений без коренной ломки существующего политического устройства. Князь Отто Бисмарк был одним из тех немногих государственных деятелей, перед которыми С. Ю. Витте преклонялся. С гордостью он вспоминал на склоне лет, как отставной канцлер проявил интерес к его персоне. Бисмарк, писал он, стоит «вне критики настоящего поколения». Ошибался он в экономических вопросах или нет, покажет история» 114. Рост национального богатства Германской империи в последней четверти XIX – начале XX века экономисты считали беспримерным явлением во всемирной истории 115.
***
В жизни С. Ю. Витте был период, когда его увлекли некоторые популярные идеи переустройства общественной жизни по абстрактным законам науки. Вообще он был человеком увлекающимся, но только из тех, которые, имея холодную голову, не дают своим увлечениям зайти слишком далеко. Каким-то образом он познакомился с первым томом труда Огюста Конта «Курс положительной философии». Том имел подзаголовок «Философия математики». Полный перевод этой книги был сделан на русский язык в 90-е годы, так что С. Ю. Витте либо читал книгу по-французски, либо пользовался каким-то изложением содержащихся в ней идей.
Строго говоря, это были идеи не Конта, а его великого учителя А. де Сен-Симона, которые Конт лишь подобрал и талантливо систематизировал в некую концепцию. Одна из этих идей состояла в том, что всю работу по рациональному преобразованию социальной действительности должны возглавить именно математики, как представители самой абстрактной и наиболее точной из наук. «Математики! Ведь вы находитесь во главе, начинайте!» – призывал А. де Сен-Симон 116.
С. Ю. Витте математические идеи О. Конта очень приглянулись. Когда он рассказал об этом И. А. Вышнеградскому, тот вылил на него ушат холодной воды, заявив, «…что Огюст Конт – не что иное, как осел, и что он никакого понятия о математике не имел, а всякий человек, не знающий математики, не может быть хорошим философом» 117.
В «Принципах железнодорожных тарифов» С. Ю. Витте продемонстрировал важное достоинство своего выдающегося ума; достоинство, которое затмевает многие его недостатки. Оно заключается в склонности к конкретному мышлению. Для правильных суждений о сущем требуется прежде всего поставить его в пространственно-временные рамки. В частности, к идее огосударствления железнодорожного хозяйства нельзя относиться ни положительно, ни отрицательно вне этих рамок. В одних странах железные дороги находятся в частном владении многих лиц (Соединенные Штаты Северной Америки), в других они объединены в крупные структуры и находятся под совместным контролем общества и государства (большинство европейских держав), третьи (Германия) переходят к казенному управлению рельсовыми магистралями.
Выбор оптимальных путей требует обязательного учета обстоятельств исторического развития данной страны. Что для одной стороны хорошо, для другой может быть плохо. Если в Пруссии казенное железнодорожное хозяйство имеет перспективы, в России оно может их и не иметь, потому что у нас нет такого аккуратного, дисциплинированного и честного в своей массе чиновничества, какое историей было создано в германских государствах.
«Мы привыкли не воспроизводить жизнь, изучая и принимая во внимание течения западной жизни, а строить ее, копируя самые факты из жизни то одного, то другого западного государства, часто даже без изучения ее течения. От этого происходит наше умственное и житейское шатание между различными теориями, между противоположными течениями, действиями и мероприятиями. Это шатание выражается не только в сфере умственной и нравственной жизни, но также и в материальной. Ради одних западных учений мы становимся на путь свободного обмена, убивая некоторые отрасли промышленности; затем ради других учений мы силимся возродить эти промышленности путем усиленного покровительства» 118. Против этих рассуждений автора «Принципов железнодорожных тарифов» трудно возражать.
В практической работе разумный оппортунизм приносит неизмеримо больше пользы, чем слепое следование неким, пусть даже и очень умным, теоретическим построениям. Ничто не принесло столько вреда нашей стране, как тупое доктринерство. Правда, замечает С. Ю. Витте, оппортунизм тоже бывает разный. Глупый оппортунизм вырождается в беспринципность, разумный же совсем не исключает научные принципы, а лишь приспосабливает их к потребностям жизни.
Самая опасная сторона доктринерства – экспериментирование над живой жизнью, стремление перекроить ее по меркам чужого опыта или по абстрактным законам разума. «Всякий, кто когда-либо управлял большим частным хозяйством: имением, заводом и проч., знает, что ничто не может так подорвать благосостояние его, как постоянные крупные эксперименты, с ним производимые, нарушающие равновесие в его отправлениях. Он знает также, что если раз решился сделать эксперимент, то прежде всего нужно выждать результатов, и если эти результаты окажутся сравнительно не особенно благоприятными, то большей частью лучше исправлять и улучшать дело постепенно, нежели производить постоянные ломки» 119.
Если постоянно лихорадить хозяйство экспериментами, то результат будет один – полное банкротство. «Никакие мероприятия в области русского народного хозяйства, будут ли они делаться на основании экономических трактатов светил западной науки или служить копиями мер, давших благотворные результаты в одном или нескольких западных государствах, или, наконец, внушены словами какого-либо заграничного признанного гения, сказанными им для своей страны, – если не будут созданы наличные условия русской жизни и сказанные мероприятия не будут к ним систематически и последовательно приспособляться, – не выведут наше народное хозяйство на путь независимого процветания, на путь естественного роста» 120.
Никакой финансовый гений не способен создать устойчивой финансовой системы без наличия соответствующих предпосылок в виде материальных ценностей, «правильно производимых, распределяемых и потребляемых» 121.
С. Ю. Витте совершенно правильно указывает, что наиболее заметные экономические мероприятия Бисмарка – выкуп казной железных дорог и государственное страхование рабочих – к научному социализму не имеют ровным счетом никакого отношения. Государственное предпринимательство как одна из форм общественного хозяйства всегда было, есть и будет, социализм тут совершенно ни при чем. «Государство обязано делать то, что более полезно для общего блага. Если казенная эксплуатация может быть более полезною, то государство само должно эксплуатировать железные дороги… Одно государство не может справиться, а другое может. При существующей организации государственного управления правительство одной и той же страны не справится с эксплуатацией железных дорог, а когда историческое ее развитие водворит в ней другую организацию, то правительство, пожалуй, справится» 122.
К либеральным ламентациям вроде той, что «бюрократия представляет собою государство в государстве» или «каждое министерство представляет государство в государстве», автор «Принципов железнодорожных тарифов» относится с плохо скрываемым презрением: «Одна применимость этой фразы к самым разнообразным явлениям жизни указывает на ничтожность ее практического смысла» 123.
Классическая политическая экономия требовала полной автономии для деятельности хозяйствующих субъектов. «Если бы великие основатели классической политической экономии жили в настоящее время борьбы против привилегий капиталов, свободы спекуляций, необеспеченности труда и паразитической жизни одних государств за счет производительных сил других, то, несомненно, в их произведениях по вопросу о сфере государственной деятельности были бы высказаны несколько иные соображения» 124.
Переход железных дорог в руки казны, полагал С. Ю. Витте, есть шаг вовсе не к социализму, а к большему благосостоянию либо к вящему разорению. Казенная эксплуатация железных дорог в принципе весьма желательна, поскольку русская государственная власть во главе с самодержавным бессословным царем не преследует никаких иных целей помимо общего блага. Но это только в принципе. В действительной жизни все обстоит существенно иначе, а именно: за редкими исключениями со времен Петра Великого казенное хозяйство показывало самые плачевные результаты. При этих условиях железные дороги, оставаясь достоянием государства, были отданы во временную эксплуатацию частным обществам с оставлением за государственной властью права самого широкого контроля и вмешательства 125.
Недостатки и злоупотребления на железных дорогах во многом объясняются не чем иным, как неудовлетворительным состоянием этого контроля, а совсем не тем, что частными обществами дороги управляются плохо. На собственном опыте автор постиг справедливость той истины, что «…управлять значительно труднее и сложнее, нежели контролировать и направлять» 126. Собственно говоря, эксплуатация железных дорог частными обществами дает только первые результаты, а они вовсе не плохие, будучи взяты в совокупности. Главное – езда по железным дорогам стала и безопаснее, и комфортабельнее. «Нужно было учиться железнодорожному делу, начиная с азов, создавать железнодорожный персонал, вырабатывать известные административные, хозяйственные и технические приемы и нормы. Как это все нужно делать – легко пишется при знакомстве с верхами заграничных брошюр; но далеко все не так легко делается на практике» 127.
Эксплуатация такого сложного общественного хозяйства, как железнодорожное, оказалось делом большой трудности еще и потому, что для этого требуются свойства, почти не присущие массе русского народа, а именно: пунктуальность и аккуратность. «У нас народ чрезвычайно сметливый, быстро понимает дело, весьма выносливый; если затронуть некоторые струны его души, как это было во время усиленной перевозки войск в последнюю войну, то он будет работать как вол, не раздеваясь и почти не отдыхая десятки дней, но пунктуальность и аккуратность – столь необходимые для железнодорожной эксплуатации – не в его характере, а потому у нас все железнодорожные неисправности преимущественно основываются на этой черте характера народа» 128.