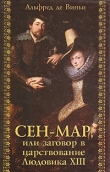Текст книги "Внук Бояна"
Автор книги: Сергей Розанов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц)
Сергей Розанов
Внук Бояна
Повесть
Приволжское книжное издательство
Саратов
1976
Юность витязя
Из рода Бояновых
Над степью звенит и звенит жавороночья песня. Небо в весенней голубизне, не видно ни одного облачка. Ковыльная равнина блестит на ветру сизоватыми переливами. Из долин льется пряный запах медоносных трав, смешанный с дыханием полынь-травы.
Голубые дали колышутся и плывут в блестящих волнах теплого, влажного воздуха. Иногда над ними вынырнут сказочные видения – многоярусные терема и сады, словно сотканные из цветного дыма. Покачаются заманчиво, и блестящие волны снова захлестнут их... Будто ничего и не было.
Степным наезженным шляхом идут гусляры. Тонут босые ноги в горячей пыли. Иногда звякнут струны гуслей за спиной деда Ромаша, когда он сослепу оступится в ямку. Тогда он протягивает руку вперед и нащупывает мешочек и спину мальчика-поводыря в жесткой холщовой рубахе.
– Внемли небу, внучек, высоким голосом подсказывает он, останавливаясь, слушая тишину и звучные жавороночьи трели. – Сколь дивные радости дарит маленькая пташка земле.– Голос твой так же нежен, чист и звонок. Будь подобен ей зовущей усладостью. Когда поешь, помни: человеку нужна утеха так же, как хлеб, как вода.
– Я всегда буду помогать людям жить в радости, – взволнованно отзывается мальчик. – Всегда буду петь про бои с половцами.
– Верю, внучек, круглым сиротой они тебя оставили. Вместе будем эти песни складывать. Тебя бог послал на счастье мне...
«Бог послал!...» Жил Юрко в вотчине отца – тысяцкого Боянова, что раскинулась вдоль речки Трубеж. Терем стоял высоко над рекой. Старая мамка души не чаяла в мальце. Дядька учил его с трех лет на коне скакать. Учил стрелять из лука, плавать, следы звериные познавать...
Однажды Юрко проснулся от страшных криков.
– Половцы!.. Поганые напали!
Зловещий багровый свет бился в раскрытых слюдяных окнах.
Мамка наскоро одела его, и они выбежали из сеней. Надворные постройки уже горели, вода в Трубеже отливала огненным блеском. А у ворот острожка звенели удары булата.
Мамка с мальчиком побежали к саду, что чернел под горой у самого берега. Там можно спастись на рыбачьих лодках. Из тьмы вынырнул половецкий батур, метнул стрелу в мамку.
– Беги к рыбакам... спасайся!– донесся ее стонущий хриплый шепот. И он кинулся под кручу в кусты терновника. Ободрал лицо, забиваясь все глубже, за вишенник, за яблони. Где-то здесь рыбацкие землянки, не сразу во тьме найдешь.
– Кто это? Мальчик? Юрко?!. Скажи, что на горе деется? Все туда ушли? Там булат звенит?..
Юрко увидел освещенного багровым небом седого старца. Глазницы его чернели пустотой. Мальчик узнал гусляра: он не раз певал в боярских хоромах. Испуганный, припал к его груди и зарыдал. Потом забылся на руках у старика. Так и просидели они до зари. А утром смотрят: над рекой только дымы струятся, и никого живых нет...
В полдень тихо в степи, лишь свистят суслики да байбаки. Путь гусляров лежит в Киев – стольный град. Все тело ноет от усталости. Оно привыкло к мягкой одежде, а тут жесткая рубаха и порты царапают спину и коленки, их будто жжет огнем. Упасть бы в траву и лежать до тех пор, пока отдохнут изломанные долгой ходьбой косточки.
Солнце калит, словно все небо в белом пожаре. Не хочется ни говорить, ни думать, губы запеклись, потрескались. Но старый Ромаш не любит молчать, если не говорит, то поет – так легче идти,– поет воскресные стихиры или богатырские песни калик перехожих. И Юрко тихо подпевает, дивясь словам. Сколько же знает старик – песням нет конца, и то грустные они, то с забавным напевом. Передохнет и скажет:
– Юрко, затверди словеса. И наперед помни: за ученого сто неучей дают, да и то не берут. Умного трудней найти, чем храброго.
– А я не все твои слова понимаю, – признался Юрко.
– Подрастешь – насбираешь мудрые слова в народе,– ответил дед Ромаш. – Наше время грозное, больших забот требует, великой мысли ищет... Простыми словами не скажешь... Все великое жаждет умного, яркого, звонкого слова. Твой дед Боян удивительно песни складывал – всех поражал песенным словом! Слова его были в блеске и душевности... Христиан он называл В новые люди. Слово «новые» – великое слово!
К вечеру гусляры располагались где-нибудь в стороне от путей – в балочке, у родника, смывали с обветренных лиц пот и пыль. Юрко с изумлением оглядывался; вчера ночевали в лесу, а ныне кругом ни деревца... Почему так? В лесу птицы пели – каждая на свой лад. А тут родничок журчит. Как шепчет... О чем? И откуда все это? Слушаешь, и самому петь хочется... Он подкладывал в голова армячок, ложился и напевал услышанное днем. Старый Ромаш с блаженной улыбкой приговаривал:
– Звонок твой голосок, звонче княжеского кубка. И памятная песнь: моя и уже не моя, напев добротнее и приятней. Твоя искусность украшать песню послана на радость людям Перуном или княжеским богом Иисусом. Кто их разберет – какой лучше! За тебя я готов верить в них обоих. Но душа тянется к Иисусу: он идет против зла, и у него много хороших слов, а слово – великий божий дар человеку. В слове – жизнь. На нем же и весь мир держится.
В памяти мальчика слова укладывались, как блестящая цепы потяни за одно слово – и зазвенит песня...
– Хорони слышанное в себе. В слове – красота человека. Все знания складываются из слов. А каждое слово – на свой цвет, по-своему звенит – радует, печалит или наводит глубокие думы. Слово возводит князей, оно разит и шеломит врага. За такое слово не жаль умереть. И я за смелое слово очи потерял...
Рассказывал дед Ромаш, как попал в плен к половцам, как мучили его... И остались на теле белые рубцы от ран, пустые впадины глаз да сердце, накаленное ненавистью к жестокому врагу. Вспоминал, как потом приютили его рыбаки в вотчине Бояновых. У Юрко вставали в памяти вечера на берегу Трубежа. Горит костер. Люди вокруг. У огня сидит дед Ромаш и поёт. То о реках медвяных, то о садах с виноградами. Но особенно по нраву мальчонке пришлись песни, зовущие в бой со степными разбойниками-половцами.
И теперь вот шли вместе старый да малый. Дорогой кафтанишко Юрко потрепался, заменили его холщовые жалкие рубища. Скинул он и остатки сапожков расшитых, босиком пошел. С каждым днем прошлое забывалось... Кругом все – неведомое. Рано утром – небо в красном огне, будто земля горит... Ночами – луна то пропадет, то проглянет светлой ниточкой. А потом раздуется, сияет, как раскаленная... И обо всем этом петь мальчику хочется!
Много-много повидал Юрко на Руси. Не обходили они ни одну деревушку, даже самую глухую, что таится вдали от дорог. Подойдут – крест стоит у околицы, берестяной короб у креста. Вставали на колени, отдавали земной поклон. Дед Ромаш доставал из сумы сухарей и клал в короб – божья дань!..
Как и шли путем-дорогой старокиевской,
Ко святым местам, ко святым крестам златоверхим,
Шли босые калики перехожие,
Божью городу поклонитися...
Юрко подхватывал песнь, а сам все кругом оглядывал да примечал. Помнилась сладкая жизнь в отеческом дому, потому теперь и лезло в глаза: как бедно народ живет! Коровенки бродят маленькие, тощие. На тыну порты рваные сушатся, все залатанные. Ребятишки бегают голые, неумытые, грызут сухари замусоленные да сухой творог или рыбу вяленую обсасывают. Все половцы сожгли!
Но душа у людей добрая. Кто подойдет к гуслярам – горбуху хлебушка подаст, низко поклонится. Из землянки выйдет стар-человек, вымолвит:
– Зайдите, страннички божьи, не побрезгуйте, отведайте, что бог послал.
Спускались по ступенькам в землянку, в нос шибал кислый, дымный дух. В ямине мрачно, стены черные, закопчённые, в крыше открыт дымный ход, и в нем далеко-далеко, как в колодце, голубое небо зрачком светит. Пусто в ямине, только на полу, на лубковой плетенке, в деревянном блюде квасок с накрошенной редькой и луком. Ложки самодельные разложены, куски хлеба наломаны, в горшке глиняном вареная пшеница, политая конопляным маслом.
Полюбил Юрко такую еду. Гости жуют не спеша, насыщаются. А хозяин, седой, волосатый, уже слово выведывает: все им ново, ничего-то они тут в глуши не слыхивали!
– Скажите, страннички, где вами хожено, что видано, что на земле русской деется?
Дед Ромаш любил рассказывать изумительное: про страны солнечные, где реки текут молочные, меж берегами кисельными, где люди полдня спят, полдня отдыхают. А заканчивал речь старый гусляр всегда бывальщиной.
На прощание старый Ромаш просил Юрко спеть людям свои песни новые, и Юрко не упрямился, охотно пел чистым, звонким голосом. Дед Ромаш начинал запевку и вдруг говорил:
– Складывай сам дальше, внучек, по своему разумению, складывай, что было и что было бы...
Юрко подхватывал песню, вкладывал свои слова, у старого гусляра текли слезы радости из пустых глазниц.
– Ты поешь лучше меня, – взволнованно шептал он юному поводырю.– Твоя песня услаждает и околдовывает. И я знаю теперь: да, ты – внук славного Бояна. Будто вижу и слышу его. Когда поешь ты, глаза твои далеки от земного, в них высокое торжество песни, как бывало у самого Бояна. Это он мне говаривал не раз: пусть не будет у певца на сердце одно, а на устах другое! Пойте правду! Не жалейте для правды себя...
Гусляры подошли к стенам города Чернигова – на большой осенний торг. Они шли по рыбным рядам, по чесночным, соляным, меж рядами возов: зерно всякое, мед и. воск, шкурки черного бобра, выдры, оленьи меха... Купцы на лотках продавали сарацинское пшено* (*рис) и урюк, зазывали смотреть заморские ткани Чубатые половецкие князья, в цветных халатах, важно восседал на степных скакунах. Их люди пригоняли на торг гурты низкорослых шерстистых коров, отары овец и коз, везли во вьюках дорогие меха.
У палаток киевских кустарей артельных стояли толпы зевак, любовались узорными изделиями. А рядом люди слушали сказочные чтения с расписных листов – сказания о бытии и походах в незнаемые земли. Монахи сновали меж людей, навязчиво прода-' вали вязаные шапки и чулки своего рукоделия.
Дед Ромаш и Юрко тоже собирали толпу своими песнями.
Когда Юрко запевал, вокруг все стихало, люди поднимались на цыпочки посмотреть: кто это так дивно поёт? Молча вслушивались в его песню до последнего слова, до последнего звука.
В толпе остановились два старца в черных монашеских рясах, слушали пение отрока, поднимали головы, тихо перешептывались, закрывая умиленно глаза.
– Небесный глас дарован чаду,– шепнул один.
– Отменный! – поддержал другой.– Достоин епископского хора.
– Да будет так, отче. Великое благозвучие привнесет он в служение господу. Пусть свершится сие! – и перекрестился.
Старцы подошли к седому Ромашу.
– Какому богу веруешь?
Ромаш растерялся от неожиданности.
И когда гусляр совершил крестное знамение, старцы сказали громче:
– По святому делу божью... следуй за нами, с отроком.
Шли они по узеньким улочкам города. Полуземлянки, мазанки будто вросли в землю. И вдруг – на просторе хоромы стоят. Юрко дивился красоте боярских теремов, узорчато изукрашенных. Как из тумана, выплывали воспоминания: когда-то и он жил в таких светлых палатах. А теперь и землянки своей нет, и он идет в рваной холщовой рубахе, а рядом – монахи в нелатаных рясах. А дед Ромаш, такой гордый перед врагами – половцами, послушно ществует за этими старцами неведомо зачем.
Привели их к высоченной церкви и сдали регенту – монаху со строгим, седобородым лицом. Выслушал он пение отрока, и лицо его сразу стало добрым, будто родным. У старого Ромаша потекли слезы: жалко расставаться со своим любимым поводырем. Но регент так ласково заговорил с дедом, советовал послушаться, обещал не разлучать с внучком. Старый гусляр все ниже клонил голову и наконец махнул рукой:
– Как ни мила сердцу воля, а ради милого внучка и сердце скуешь.
Нарядили и старого и малого в груботканые черные полукафтанья, и пошла жизнь их на новый лад.
Соборный хор огромен, складно и напевно поют, со всех окраин съезжаются люди на епископское служение. В соборе полно люду – яблоку негде упасть. И как только затихал хор и одинокий голос Юрко врывался в торжественную тишину» звеня меж высокими стенами, поднимали люди Головы, взгляды всех устремлялись к правому клиросу, в глазах вспыхивала радость. Юрко не раз слышал позади себя восторженный шепот:
–Неслыханно дивный голос, ангельский... И впрямь – внук Бояна...
На первой же службе епископ Черниговский Порфирий удивился пению Юрко й пожелал взглянуть на голосистого отрока.
– Чей ты?– спросил тихо, а глаза черные, жгучие и такие страшные, что у паренька язык словно отнялся. Заробел перед пронизывающим суровым взглядом. Брови черные нависли лохмами, бородища длинная и широкая, а на голове целая копнз всклочена, ни дать ни взять – леший!
– Так чей же ты? Говори, не робей.
– Де-да Ромаша, – еле выговорил Юрко.
– Знаю того сладкогласого песнопевца. Гордость у него выше княжеской! А отец кто? – нахмурился епископ, еще страшнее стал.
– Ни-икто... Из вотчины Бояновых будто.
–Из Бояновых? Ну, да! – Епископ удивленно уставился прямо в глаза Юрко. – Да, да, ликом схож. Я и гляжу: знакомый лик, – Уже смягчая взгляд, епископ истово закрестился, широкий рукав груботканой рясы взмахнул, как черное крыло.– Царство Небесное всему роду Бояновых! – Погладив отрока по голове жесткой ладонью и, словно Обрадованно, проговорил:– Слава тебе, боже... Значит, не кончился великий род?!
Юрко показалось, что лицо епископа Порфирия просветлело, когда тот добавил:
– Так тому и быть: воздадим тебе по роду твоему. Скажу князю, и запишут тебя в черниговскую дружину. – Снова погладил мальчика по голове. – Учись разумней да напористей, послужи своему народу и господу. Да посмелей будь, сыну тысяцкого не пристало страшиться: не бойся смерти, бойся неправедной жизни...
В первую же поездку епископа в Киев чернецы захватили с собой и Юрко. Там он стал петь в хоре Десятинной церкви. Пел и не мог налюбоваться чудной росписью стен и шести высоких куполов. А вся посуда церковная светилась золотой и серебряной чеканкой. Царские врата – в золоте и самоцветах! Богатый храм! У него во владении целый городок Полонное. Церковь и назвали Десятинной, потому что в ее казну поступала десятая часть всех княжеских доходов.
Утром бежал в монастырскую школьную избу, охваченный радостным ожиданием нового. В руках – навощенная дощечка да острая палочка: пиши по воску, прочти и теплым пальцем вновь заглаживай. И было счастьем сидеть на скамье и выводить на этих липовых дощечках неслыханные слова, и делались они простыми и понятными.
Вскоре и дедко Ромаш перебрался в Киевскую лавру: певал на клиросе. Но недолго жил он: открылись старые раны. Собрался умирать старик и призвал Юрко.
– Ухожу я, внучек названый, – хрипло, еле слышно проговорил он, не вставая, желтым восковым лицом смотрел на своего верного помощника. – Мудро и славно сказал тебе епископ: служи народу... а про господа молчу, ибо сам не ведаю, Перун ли всеблагой или Христос сотворил зло—оставили сиротой горьким... как и землю нашу– она ждет порядка и лада, а у людей головы перемутились... Помни это, живи с народом, приукрашай жизнь... В мире жить – миру служить... Народ твой – твоя семья, твои родичи. Народу веруй... Ему и пой... Созывай всех в доброе собратство: все мы одного деда внуки... Все жаждем родного, ласкового слова...
И остались у мальчика в памяти последние слова его, будто освещенные навечно солнцем.
Юрко уже шел двенадцатый год. Стали учить его военной ловкости и знаниям: из лука стрелять, метать копье, мечом владеть. Каждый день после утренней молитвы конные скачки или ратные потешные дела: кто кого обгонит на бегу, или поборет, или вскинет камень тяжелей. Не было конца выдумкам у соперников. Сами плели арканы и учились ловить и объезживать диких коней, обучались охоте на птицу и зверя...
В летние воскресные дни наставники уводили юношей за городские стены, на Днепр – учили переплывать реку, прыгать в воду с обрыва, сидеть под водой с камышинкой во рту. Отроки сами строили лодки и сами водили их по реке. Чернецы зазывали юношей в лесные неведомые чащобы – выбирайся сам в означенное место! А вскоре началось учение и полководческому ратоборству.
Отроков стали отпускать за Днепр, где у Городца шел великий киевский торг: туда половецкие батуры пригоняли гурты скота.
И было весело и занимательно смелым юношам схватываться в состязаниях с половчатами. Юрко выходил на поединки с молодыми половцами на поясах, на кулаках. Бился крепко, и половчата боялись его. Но после победы над степняками спокойно вел с ними речь, расспрашивал о жизни, мешая русские слова с половецкими. А вскорости научился хорошо говорить по-кипчакски.
В песнях же с Юрко никто состязаться не брался, он пел та?, что степняки съезжались издалека послушать русского певуна. И тот, кто слышал его песни, увозил в далекие степи весть о дивном русиче, слушать которого можно не уставая все светлое время дня, а потом скакать восвояси и слушать степной ветер, вспоминая неслыханный таинственный голос певца, повторяя бьющие в сердце слова и нечаемой красоты напевность.
И для Юрко песнь – великое счастье. Где бы он ни был: шел ли по лесу или сидел над книгой – в голове звучали стройные голоса, песни неслыханные, а словно родные, так и переливались в думах...
...Киев – великий город! В нем более шестисот церквей, мног^ рынков и множество люду. Таких городов и в заморье нет... А уж живуч! Выгорит от нашествия вражеского или от своего пожара и снова быстро восстанет – жив и невредим, как птица Феникс из пепла...
В день Ивана Купалы стояла жара и духота. В старые годы на берегу Днепра было бы великое гульбище и купание. А ныне лишь кое-где, вдали от лишних глаз, молодцы жгли костры и прыгали через огонь. Митрополит Киевский объявил праздник языческим, верным христианам не подобало тешить беса на игрищах. Ночью на Лысой горе соберутся ведьмы, и горе тому, кто забудет христианское смирение и ринется в омут языческих плясок.
В тот день Киевский великий князь Рюрик Ростиславович с похмелья маялся головой. Падок он был до хмельного. А и соблазн, велик: в княжеских погребах чуть не сто корчаг вина стоят да полтысячи берковец меду... И ныне великий князь наслушался сладчайших былинников, распил с ними кувшин медовухи и повалился спать на медвежьи шкуры.
В полуденные часы все в хоромах предались послеобеденному отдыху. Всеслава пристала к матери-княгине: отпусти да отпусти ее с няньками и мамками за городские ворота – в княжеский сад. Пусть и стражи идут позади. Поворчала княгиня сквозь полусон и, махнув рукой, повалилась опять на постель. Родом-то она была половчанка – дочь хана Белука, однако давно забыла и речь и обычаи половецкие, пристрастилась ко всему русскому, но сохранила еще где-то в памяти девичью степную вольность и ни в чем дочери не перечила.
По городу шли чинно, сенные девушки опускали глаза перед старшими, а встретится добрый молодец – пойдут смешки, да хаханьки, да переглядывания. Мамки грозно шикали на них, обещали за косы оттаскать да пожаловаться княгине-матушке. Но никто не ааметил, как на девушек загляделся из-за угла отрок– школяр. Сияющий, он помчался в монастырь, по отроческим кельям.
– Братие! – кричал радостно в каждую дверь.—Они уже за воротами!
Все сразу смекнули, о ком речь. И Всеславу и ее девиц часто видели на соборных молениях и замечали, что все они изредка поглядывали в их сторону – на хор, где отроки пели. Старшие школяры любовались девушками, каждый мысленно выбирал свою ладу. А после богослужения еще долго думали и говорили о красных девицах. Бегали встречать их – хоть глазком взглянуть, когда они возвращались от Андреевского монастыря из школы младых девиц.
Сейчас и монахи после братчины– пира от мирян – все спали, спал и отец-настоятель. От богатырского храпа стонал весь монастырь. Отроки тихо выбрались за монастырскую стену...
Девичьи песни уже доносились из леса. За княжеским садом отроки свернули на тропинку, что вела к малиннику. Всем хотелось хоть издали полюбоваться на девушек. Стражи уже набросились на ягоду, совали полными горстями в рот.
И вдруг из лесной чащобы донеслись испуганные женские крик:
– Помогите! Спасите!.. Ратуйте, люди добрые!..
Юноши бросились в чащу. Впереди бежал Юрко, но его обогнал красивый румяный юноша – княжич Ярослав Глебович, длинноногий, словно созданный для верховой рати. Он никогда не расставался с княжеским коротким мечом. Почти вместе выскочи– I ли из густых зарослей на поляну, увидели, как мамки и няньки мечутся меж деревами: боятся подступить к девушке в дорогом кокошнике и только вскидывают руки и кричат испуганно. А к ней из леса идет на задних лапах, переваливаясь и рыча, матерый медведище. Девица отмахивается руками, пятится на поляну и, не отрывая глаз от зверя, повторяет тоненько:
– Чур меня! Чур!..
Княжич забежал вперед, к самым лапам медведя, взмахнул второпях мечом, да некстати хрупнул под ногой гнилой сучок, меч скользнул по кости. Хозяин трущобы взревел и рванулся к. Ярославу. А у того в ногах запутался сухой валежник, и княжич упал перед разъяренным зверем навзничь.
У Юрко не было ни меча, ни копья. Но он прошел в школе уроки находчивости. Кинулся к Ярославу и хотел оттащить княжича. Но в этот момент медведь навалился на юношей, рванул по плечу Юрко когтистой лапой – рубаха сразу окровенела: И все же Юрко успел выхватить у княжича меч и с размаху ударил под левую лапу медведя. Зверь захрапел, хлынула горячая кровь...
Подбежали друзья-школяры, стражи, выволокли их из-под тяжелой звериной туши и дивились: здоровенный зверина в княжьи сады пожаловал!
Княжич и Юрко стояли, облитые кровью, еще с дрожащими после смертельной схватки руками, и смотрели на Всеславу во. все глаза. Такой пригожей они ее еще не видели. А она, вся зардевшись, смотрела на румяное, с первым пушком ,на щеках, лицо Ярослава, давно тревожащее ее думы.
– Спасибо, княжич, – тихо сказала она, смущаясь. – Ты спас меня. Этого я не забуду.
– Не меня, а моего ровню благодари, – самоотверженно ответил Ярослав, указывая на Юрко.
– О, он храбр, как настоящий князь. Тоже Резанской земли?
– Нет, нет, княжна, я не княжеского рода, – поспешил отказаться Юрко.
– Кто же ты? – удивленно спросила Всеслава.– Княжий холоп?– Уголки ее рта презрительно опустились.
– Ратник Юрко из Черниговской дружины. А родом из Бояновых, бояр.
– A-а! Слышала про тебя. – Всеслава Опять улыбнулась ласково. – Твое песнопение в княжеском соборе доставляет высокую радость. Не зря тебя люди прозвали внуком Бояна.
– Ты даришь мне счастье добрыми словами. – Юрко оправился от смущения, отвесил глубокий поклон, приложив руку к груди.
– Вы оба счастливые, вы—воины! – воскликнула княжна. – Ведь нет у нас славнее человека, чем воин! Я хочу, чтобы вы стали как братья, родные! Вы спасли меня, вы омыты единой кровью – пусть это породнит вас...
– Мы рады этому! – живо отозвался Ярослав, и Юрко повторил его слова.
– Пусть так и станет. – Она увидела подбегавших нянек и заспешила: – Вы придете к нам в хоромы. Я так хочу. И расскажете многое...
Ярослав молча поклонился, а Юрко ответил:
– Того не пристало мне.
Но княжна топнула ногой, прикрикнув:
– Разве не слышал? Я так хочу! Или ты можешь не слушаться? – И она опять притопнула расшитым сапожком, но уже с улыбкой добавила: – Не перечь! Я – строгая!
– Но меня не допустят стражи.
– Скажи, что я приказала. Я поведаю об этом отцу. Все будет, как я хочу!.. И вы придете оба!
Женщины повели её и совестили за самовольство, за то, что девушкам, да еще княжнам, не пристало без материнского присмотра вести речи с юношами наедине.
И осталось в памяти Юрко розоватое от смущения юное лицо и голубые, как у самого князя Рюрика, глаза княжны, с чуть зеленоватым отливом. Много он думал о ней, не спал ночами, пока не пришла твердая мысль: соколу с лебедушкой никогда не дружить...
А с Ярославом у Юрко с этого дня завязалась настоящая братская дружба. Не расставались они ни в учении, ни в боевых походах на половцев.
Друзья бывали в хоромах князя Рюрика. В шахматы, резанные из слоновой кости, играли. Засиживались в старинной княжеской книжнице, где на полках было полно византийских, фряжских и славянских рукописей в кожаных переплетах. И какую книгу ни начнут читать – залюбуются и словами и искусной красочной рисунчатостью. Все это принесла новая вера: как крестились киевляне при Владимире – Красное Солнышко, так и пошла расти в народе грамота. А Ярослав Мудрый первым собрал ревностно множество заморских книг, монахи переводили их на славянский язык и хранили в книжнице Софийского собора – приходи и читай!
Изредка друзья встречались в хоромах с Всеславой. Юрко пел под гусли и дивился: ее разным прихотям никто не перечил, сам князь нежил, исполнял все ее желания. Прочили ее в заморские царевны, где она будет жить в окружении изысканных рыцарей. Гадалки уже предрекли: «Быть ей повелительницей басурманов!»
Но Ярослав сказал другу:
– Никому ее не отдам. Она – моя лада! Она будет моим счастьем...
И Юрко ободрил его:
– Будет так. В песнях для нее я пронесу твою любовь. И погуляю на твоей свадьбе! Возьмешь в дружки?
– В браты возьму названые. Так нам велела моя лада. Будем мы побратимы... хотя ты и не княжеского рода.
Ярослав проговорил это с улыбкой, будто шутил, но тут же горячо, с досадой на свою участь, стал вспоминать:
– А я – княжич, но с первых лет жизни дружил с вотчинными ребятишками... В семье я был меньшой да хворый. Вот и отправили в вотчинное сельцо: выживет так выживет!.. А я радовался: нянька за мной, а я с дружками – в лес, в луга, на речку... Старший брат Роман редко наезжал в вотчину. Он уже Резанским князем стал. Приехал как-то по осени, оглядел меня... А я как раз гуся стрелой сшиб... Стою загорелый, окрепший... Он и говорит: «А Ярослав выправляется. Жаль, нет ему княжества... Пошлем его в Киев, на большое учение. Пусть он будет горазд в грамоте г-дивным помощником станет братьям князьям Глебовичам...» Так я и оказался в Киеве... Ни князь, ни боярин, как сокол на крутояре...
– Не горюй, – сказал Юрко, – придет пора, взлетишь... Братья тебе позавидуют!..
Слух о храбрости Юрко дошел до епископа Порфирия, и он, собираясь в поездку по монастырям, взял юношу в свою путевую .охрану. Теперь у епископа крепкая защита: Юрко ездил с десятком самых сильных витязей. А и сам – богатырь! И была в этих поездках большая радость: епископ становился ему как отец.
Раз ехали они верхом в Чернигов. Юрко – в кольчужке. Щит у него красный, с Киевским гербом: стоит крылатый архангел, обнажив меч. Татебный люд хоть и выскакивал из чащобы на дорогу, но, завидев блестящих витязей, в испуге нырял в заросли.
Епископ не оглядывался, молча задумчиво ехал вперед. Миновали деревушку, на окраине – постоялый двор у реки: над тесовыми воротами конский череп висит, и на шесте болтается по ветру пучок сена. Подъехали к забору. Разрумянившаяся красавица подала проезжим деревянный ковш с холодным пенистым квасом. Епископ выпил квас, вытер пену с усов, провел рукой по бороде, отряхивая брызги, не спуская с девицы глаз.
– Зело похожа обличием на княжну Всеславу,– и, лукаво глянув на юношу, заметив его порозовевшие вдруг щеки, пошутил: – Много добрых молодцев сохнет по княжне, по ее красоте писаной... А ну, кайся, отроче! Молчишь? Или скажешь, что не стерег никогда ее выход на церковной паперти? Или не встречал ее у расписных княжеских хором? Кайся, кайся, великий грешник!
– Встречал, – тихо ответил Юрко и подумал, не находя ответа: «Откуда он знает все, будто читает по глазам затаенное?»
– Диво дивное сотворил господь на Русской земле, чудом сохранил от пасти зверя.– Епископ перекрестился и продолжал: – И бог не допустит, чтобы этот совершенный цветок жизни достался басурманам, заморским королевичам. Нет! Она достойна быть почитаемой всей землей Русской. Быть ей за повелителем всея Руси Великой!
– Кто станет таким счастливцем? – Юрко было повернулся к епископу, но лицо старца опять было строго и сосредоточенно, смоляные глаза сурово смотрели вперед.
– То пока тайна, коей и я не ведаю. А если и мыслю о ком, не открою, пока не благословит на это господь бог. – Порфирий свел лохматые нависшие брови. – Не легко найти такого князя, чтобы поднялся над всеми князьями, над всем народом русским, буйным и вольным. Только величайшего вождя, лишь богу покорного, сподобит на это.
– Какой же сильный князь-мудрец может стать властелином Руси? – спросил Юрко. Он не знал такого среди всех известных ему князей.
– С чистой душой! – вдохновенно воскликнул епископ, будто только и ждал этого вопроса. – У народа русского сердце изболелось от княжеских распрей и разбоя, от княжеской жадности и своеволия. Народ русский хочет видеть во главе князя с чистым сердцем.
– А если таких нет? – Юрко усмехнулся: нет таких! Каждый князь только себе тянет, у всех глаза завидущие, руки загребущие.
– Господь сказал: «Ищите и обрящете!..» Был бы добер душой да послушен, а что делать – святая церковь подскажет.
«Добрый князь!» – Юрко даже улыбнулся: где такого выищешь? Да, был когда-то Ярослав Мудрый! Теперь таких и в помине нет!
И вдруг его пронзила неожиданная мысль:
«Ярослав?.. А Ярослав Глебович! Он же как добрый ребенок? У него нет княжества, но зато он ученее своих братьев-князей. В школе ему привили и послушание и стремление к христианской доброте. Такому придет и княжение!.. И если улучшать его думы, наставлять на светлое, он окажет себя старателем народа! Слава о народном защитнике полетит по Руси быстрее ветра! Люди потянутся к нему. Великое будет начало...»
На троицын день в лавру приехал епископ Порфирий. Он совершил богослужение и начал проповедь. Ох как завлекательно говорил он – заслушаешься! Юрко стоял в соборе рядом с княжичем Ярославом и старался запомнить каждое слово. Могучий голос епископа гудел в высоченном храме, как набат, волновал кровь, звал к подвигу.
– Исстари народ знает: в одиночку не побьешь врага!.. Люди молятся о содружестве русичей!
Вскидывая величественно и грозно руку с блестящим крестом, епископ возглашал:
– О, свете-светлая, дивно украшенная, любимая богом земля Русская! Доколе тебе страдалицей быть? Князья преступают божьи и человеческие законы. Иссякла дума о собратстве, каждому до себя. Горе им, нечестивым, забывающим великое ради малого! Они враждуют из-за клочка земли, покоряют своих братьев, родных обманом, ради жадобы сатанинской, а поганые вороги идут по их следу и грабят простой народ, убивают, в полон уводят. Губят князья Резанские землю Русскую, отдают народ свой на позорище!– И стукнул об пол своим посохом так, что загудело в высоком соборе.