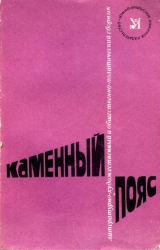
Текст книги "Каменный Пояс, 1982"
Автор книги: Сергей Баруздин
Соавторы: Лидия Преображенская,Мустай Карим,Владимир Курбатов,Николай Верзаков,Людмила Татьяничева,Сергей Поляков,Нина Кондратковская,Петр Краснов,Иван Малов,Геннадий Суздалев
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
На наших вклейках
ФОТОХУДОЖНИК СЕРГЕЙ НОВИКОВ
Новиков Сергей Григорьевич родился в 1954 году. До поступления в Челябинский педагогический институт (на физический факультет) жил в городе Ишимбае Башкирской АССР. Серьезное увлечение фотографией появилось во время занятий на отделении фотодела факультета общественных профессий. Конфликт между физикой и фотографией разрешился сознательным выбором в пользу последней. Надо отметить, что учился Сергей Григорьевич всегда хорошо. В школе – золотая медаль, в институте – отличные оценки почти по всем предметам.
После окончания института он руководит фотостудией Дворца детского творчества в Уфе. С 1980 года работает преподавателем фотографии на отделении фотодела факультета общественных профессий Челябинского педагогического института.
В феврале 1982 года в Центральном выставочном зале Союза художников в Челябинске состоялась выставка его фотографий. Некоторые из них вы видите на наших вклейках. Что же заставило этого молодого человека сделать выбор в пользу художественной фотографии?
Отказаться от преподавательской и научной деятельности в области физики и уйти в столь неопределенную, часто не устроенную в житейском плане «карьеру» фотографа, делающего снимки просто потому, что они красивы, волнующи, трогательны…
Десять лет жизни с фотоаппаратом. Десять лет поиска своего взгляда на возможности фотографии как изобразительного средства. Что дает ему это занятие? Некоторые люди считают, что фотография – прибыльное дело. И они не ошибаются – фотография определенного рода, коммерческая, может принести достаток… Но только не фотография художественная. Этот вид занятий совершенно нерентабелен с экономической стороны. Тогда, может быть, человека греет слава фотохудожника? Награды больших выставок и салонов? Но награды (а Сергей Григорьевич участник и международных, и всесоюзных выставок) бывают не часто. Да и не скажешь, что солнце известности ежеминутно освещает его творческий путь. Гораздо ощутимее другое – неприятие дорогих сердцу автора фотографий. Причем порой неприятие со стороны тех, чей фотографический опыт, вкус когда-то были твоим эталоном. Вот такая мучительная «награда» приходит гораздо чаще, чем успех и признание. И как ни странно, именно в этот момент и рождается творческое своеобразие автора. Его лучшие, на мой взгляд, фотографии «Счастливое детство» и «Нестареющие сердца», сделанные с промежутком в 5–6 лет, отражают процесс его творческого становления. Первый снимок – лицо жизнерадостной девочки, беззаботной и счастливой, – нравится всем заразительной искренностью. Снимок стал основой известного плаката.
Общеизвестна сильная сторона фотографии – ее документальная основа. В упрощенном виде ее можно проиллюстрировать так: что видим на фотоснимке – то было в жизни! И это часто соответствует истине. Но не всегда. Многое зависит от того, с какого рода фотографией мы имеем дело. Если речь идет о газетном репортаже, скажем, об открытии нового цеха завода или о спортивном соревновании, то сомнений быть не может: на снимке должен быть только конкретный цех или вполне определенный спортсмен. Фотография такого рода ценна документальным отражением всех деталей события. Ну, а если на снимке волшебная красота заснеженного леса? Имеет ли здесь значение, все ли деревья видны и так ли наклонена ветка, как это было там, в настоящем лесу? Нет, конечно, выступая в роли объекта художественного творчества, фотография уже не привязана к своей документальной основе. И уже не важно, как и где делался снимок – просто ли нажата кнопка затвора аппарата в прелестном уголке уральской тайги или это результат комбинирования десяти негативов, снятых в разных концах нашей страны. Здесь выступают в главной роли не природа и ее красота, а своеобразие и красота видения их автором. Сергей Новиков последние годы упорно работает именно в сфере художественной фотографии.
В. ШВЕММЕР,
преподаватель кафедры педагогики
Челябинского педагогического института,
кандидат педагогических наук

Полет

Учитель

Счастливое детство

Не как все

Театр пантомимы

Фронтовая привычка

«Морж»

Туман
СТИХИ И ПРОЗА
КИМ МАКАРОВ
Журавлиный праздник
Рассказ
Повсюду сошли снега. Появились подснежники: вначале желтые, потом голубые. Молодой тал порозовел, позеленел. Еще день, другой – и вылупятся на свет вербные цыплята. А там, глядишь, проснется береза, вденет сережки, крутым белым плечом поведет, прихорашиваясь.
А в небе свои затеи: облака вольно гуляют, белые, чистые; туча краем неба проползет; гром первый издали рыкнет – так, для баловства и острастки, мол, жив еще – ждите, вот наберусь жирка заревого, прикачу на ломовых…
Каждый день – праздник, откровение природы.
Старая сухожильная ива у реки вздрагивает от напряжения. Приложи ухо: услышишь внутри ее гул – трудно, медленно пробивается сок к ее ветвям.
Старые люди прозвали ее Журавушкой. Но в обиходе нашем чаще – Журавлиха. Вообще-то у нас полсела Журавлевых, и деревня наша – Журавлевка.
А с этой ивой связана легенда… Когда-то, давным-давно, один из деревенских охотников в спасов день выбил на перелете из стаи журавля. Стая покружилась-покружилась, покликала своего товарища и улетела. Осталась одна птица. Летает день, ночь летает… плачет, стоном стонет, криком убивается. Пытался было подстрелить ее охотник, но каждый раз осечка выходила. Потом рассказывали знающие люди, что, дескать, дома-то разобрал охотник заряд, а порох уже и не порох – махра одна: бери да крути себе цигарку.
На третий день птица эта поднялась в небо, высоко-высоко, сложила крылья и – камнем вниз.
С тех пор не стало удачи охотнику, жизнь его колесом пошла, а сам он зачернел лицом, чиряками зачервивился. Вскоре, однако, убрался он из нашего села на другое место жить.
А через год на том месте, где птица убилась, выросла вербочка, прутик голубенький. Кто говорит – сам по себе, другие – охотник перед отъездом посадил.
Все это я припоминаю перед сном. За ночь так убегаешься, такого дива надивишься – все мало. Летом хорошо! Можно попроситься в ночное коней пасти или двинуть с ребятами на рыбалку. Да мало ли что! Спать летом некогда. Весной день тоже длинный. Длиннее комариного носика и короче косы девичьей – так говорит мама.
Завтра мне надо пораньше встать – есть у меня одна заветная думка…
Но утром, ни свет ни заря, кто-то громко стучит в наши ворота.
– Эй! Засони, вставайте!
Мама выскакивает из коровника во двор в калошах, в телогрейке.
– Кто там? Что случилось?
– Ха! Случилось… Журавли летят.
– Ну-у!
Тут же распахивается дверь настежь, и я слышу ее голос:
– Ребятки, вставайте скореича. Журавли летят!
Нас ветром сдувает с постели. Ведь ждал, мечтал первым встретить! Ан, опять счастливым весь год быть деду Егору.
Мы бежим к реке, а дед Егор спешит дальше, стучит кленовым своим посошком в другие ворота.
Вот и река! Над ее утренним светом, негой ее… летят журавли.
– Курлы, курлы… – доносится сверху.
– Куды, куды? – спрашивает другой клин, поворачивая от реки в сторону тайги.
– Это не наши, – говорит кто-то из взрослых.
Народу уже на взгоре много. Бабы одним кружком: смеются чему-то, семечки лузгают; мужики тоже своим миром: дымят своими самокрутками, степенно переговариваются.
– Вона! Наши! Летят! – вырывается вдруг затаенное, радостное.
Из-за реки, заревой ее каемочкой, где она круто уходит в синь неба, появляется клин журавлей, словно вышитая крестиком строчка: черным – по синему.
– Они! – выдыхает с облегчением толпа.
Через минуту уже хорошо видать их. В строгом красивом строю много птиц. Летят они правым берегом, низко над водой. Летят тяжело – устали.
Я начинаю считать: один, два, три… Дед Егор (он уже здесь) цыкает на меня:
– Перестань! Арихметик какой! – Но тут же миролюбиво поясняет: – Птица, зверь завсегда сглазу человеческого боится. А ты считать! Репа, чой ли, тебе?
Хитрый! Сам, небось, считает. Вот один палец загнул – десять, значит, второй, третий… А я бы мигом, бегом сосчитал.
Улыбается дед Егор. Видно, все журавли до дому добрались. Это хорошо.
Солнце как раз из-за кремля тайги выкатилось, озолотило реку, и журавли в тонкой дымке тумана стали розовыми.
– Ангелы! – восхитился дед Егор.
Стая, казалось, пролетала мимо. Но вот вожак, большой, что лодка с веслами, находит известную ему одному знакомую воздушную тропинку и берет курс на деревню.
Все примолкли, затаили дыхание. И журавли, увидев нас, узнали, наверное. Закричали разом, сбили строй.
– Ура! – полетели шапки, кепки в небо.
– Ура! Ура!
– Милые, – не то засмеялся, не то всхлипнул дед Егор.
Дядя Афоня в неизменной своей военной гимнастерке поднял на руки лопоухого сынишку:
– Вишь, Димка, журавли. Вишь, нет?
Димка крутит одуванчиковой головой, лепечет:
– Зулавли, зулавки.
Стая выравняла строй, подравнялась будто.
Дядя Афоня шутит:
– Оркестра, жалко, нет, а то бы…
– А ты бы гармонию прихватил, – откликается моя мама.
– Не догадался! – наивно басит он в ответ.
– Настюха? – дед Егор бочком подвигается к нам. – А с тебя, ясноглазая, маненько причитается.
– Об чем разговор! – смеется мама. – Приходите ужо с Афанасием, угощу: вчерась бычка печного подоила.
Небо безоблачное, высокое полнится до краев журавлиным звоном. Клин за клином створом реки на север летят журавли. А наши, наверное, уже на своих родных местах, на журавиннике, болотистой клюквенной мари.
– Теперь недолго осталось ждать, – тихо роняет кто-то из женщин.
– Да-а, – подхватывает на лету желанную эту искорку Груша Воронина, высокая, статная молодуха. – Мой Захар уже отписал, – она прижимает руки к груди, точно письмо это при ней, – Берлин, мол, возьмем и зараз на крыльях прилечу. – Груша смеется, голос ее звонок, счастлив.
– Васька́ мово тут нет? – Сгорбленная до земли бабка Марея, маленькая, сухонькая, с клюкой в руке, в черном плюшевом жакете, простоволосая, останавливается на полпути к нам. Глаза у нее удивительно чистые, васильки небесные, но… Нас словно сиверком прихватило. Однако, и вправду, с реки захолодало. Народ начинает потихоньку расходиться.
А бабка Марея уже где-то за зимним взвозом зовет громко:
– Ленька, Сенька, найду – худо будет!
…Шесть сыновей было у бабки Мареи. Шесть парней на деревне. Выйдут гуртом на работу ли, на танцульки… любо глянуть: один к одному! Как горошины в стручке. Крепки, светловолосы, улыбчивы…
В общем-то, война по каждой семье гребешком прошла… но вот так, сразу чтоб начисто, в один год – шестерых и отца… Такое горе – яму не придумаешь.
Понятно: с этого и лишилась бабка Марея ума – ходит теперь по деревне, ищет своих…
…Мы, пацанва, еще долго стоим, слушаем небо, следим за лётом. Наше молчание, думы наши внезапно прерывает голос Светки Терехиной:
– А я летчиком буду.
– Ты-ы?! – наш коновод Гришка Верзилин аж подпрыгнул.
– А что я, лысая?
Глаза у Светки зеленые, чуть с косиночкой, кошачьи. Вытянулась вся, кулачки сжала. Быть драчке! Но с ней лучше не связываться: она такая – вся в мать. Та любому мужику укорот даст.
– Ладно, – остывает вмиг Гришка. – Небо большое, всем места хватит.
…А в деревне уже закурились бани; на солнце и ветер выносятся тулупы, шубейки, медвежьи полога; на тележках под веселый гик ребятишек вывозится в овраг старье, барахло разное… Воздух пахнет сухим осиновым дымком, жареными семечками.
День молод, высок, чист, со взором летним, с ясным солнышком на груди.
А в полдень, когда притихнет людская суета, когда будут сделаны все дела и настанет время садиться к сладкому праздничному кушанию и вареву, где-то с краю деревни заворожится тальяна, вызолотится чистым голосом частушка:
Эх, теща моя,
Теща вежливая!
По реке на петухе
Теща езживала…
И пойдет теперь от дома к дому праздник.
Вон! На высокое узорчатое крылечко выпорхнула Любка Журавлева, доярка. Выпорхнула и пошла частить модными сапожками: на каждой ступенечке свой выпляс, свой каламбур.
Крыльцо у них не простое, с секретом, одно слово – музыкальный инструмент. Семь ступенек… и у каждой свой стукаток-говорок. Столешница вытесана из единой цельной лиственницы, а ступеньки из разного дерева.
Это князево крыльцо срубил и изукрасил сам Прохор Иванович, отец Любки. Тоже целая история.
Как пришел он с войны утром ранним, не входя в избу, решил волнение свое на крыльце перекурить. Как же – целых три года дома не был!
Сидит, дым в небо пускает, в окна посматривает. А крыльцо под ним ходуном ходит, скрипит. Сидел, сидел он, потом встал и тут же с ходу раскатал крыльцо.
Жена-то услышала безобразие во дворе, глянула в окно. Ба! Мужик ейный колуном работает. Живой! Как есть с руками и с ногами… Ну, в чем была выскочила к нему…
Так целый месяц и жили без крыльца – все Прохор Иванович искал подходящего материала. Искал по разным местам и далям. Глядишь, и привезет какую доску ли, дерево… Выстружит, высушит, выстучит – слушает так ли оно, дерево, поет.
Когда, наконец, сладил крыльцо – позвал гостей. По русскому обычаю, конечно, обмыли новину, а потом хозяин вышел на крыльцо, велел дяде Афоне плясовую играть.
Вначале все пристукивал каблуком на месте: то ли стеснялся, то ли форс показывал – внимания к своей персоне просил, то ли еще что… Да вдруг-не вдруг такое пошел выхлестывать, такие кренделя выкамаривать… что даже дед Егор, в молодости тоже способный на ноги, прошедший в германскую войну и Хорватию, и Венгрию, научившийся там разным заморским выкрутасам, и тот удивился.
Полчаса без передыха пластался в пляске Прохор Иванович. Словно не о двух – о четырех ногах был. Когда же выдохся весь – упал на крыльцо, признался:
– Всю войну снилось вот так сплясать, перед женой, детьми, миром деревенским.
Говорить Прохор Иванович тоже умеет – и золотых зубов ему не надо.
– Все хорошо, – говорит, – а сапоги придется демобилизовать. Пол-Европы отшлепали – хоть бы где скрипнули, а тут разъехались, что масло по сковороде. Хотя, – улыбнулся хитро, – у цыгана и дохлая лошадь весело смотрит. Стачаю-ка из них Любке венгерки: как-никак голенища чистого хрома.
…Любка в отца. Эк, птицей летает! Каблучками что-то выговаривает да выговаривает.
Но нет! Не бывать тому, чтобы Степанида Терехина, ее соседка, мать Светки, только улыбкой утерлась. Не утерпела – вышла супротив из своего терема, уперла руки в тяжелые бока, стоит – смотрит: примеривается ли, приценивается ли… Почем фунт лиха?
А Любка хороша! Ничего не скажешь.
Качнула Степанида бедрами, вздрогнула грудью и пошла встречь Любке поперек улицы. Ветер в юбке! Вот уж сойдутся на крыльце! Но… это только присказка – сказка впереди.
– Ладно, – решаю я, – успею еще насмотреться на солнечную круговерть праздника. А сейчас слетать, что ли, с ребятами к Журавлихе, старой иве. Обрядим ее ленточками, игрушками новогодними, позвонец-колокольчик повесим. У нее, может, тоже нынче праздник? Кто знает…
ВАСИЛИИ ЕЛОВСКИX
Солнечные блики
Рассказ
1
Пароход причаливал к неуютно темному берегу Тобола, все разворачиваясь, приноравливаясь, и я не без грусти разглядывал старинное сибирское село Ушаково, в котором мне предстояло жить и работать. Мрачноватые бревенчатые домишки, кажется, совсем почерневшие от влаги, кривые улочки, две или три жалких повозки на берегу и грязища, непролазная грязища кругом. Точнее, не кругом, а только у берега и у ближних домов, а дальше – страх глядеть! – вода, вода, вода, доходившая почти до окошек и поднявшая с земли навоз, солому, доски, палки и щепки. Дома как бы плавают в воде. Пассажиры на пароходе сказали мне, что зима была необычно снежной, весна поздней и Тобол выкатился из берегов, залив луга, озера, болота и леса по ту и другую сторону на многие километры.
Дул промозглый ветер, и тяжелыми полосами обрушивался на землю крупный дождь. На всем лежал налет серости, унылости.
На берегу я пожалел, что на мне ладно подогнанные хромовые офицерские сапожки (я раздобыл их перед демобилизацией, чтобы шикануть на гражданке), а не грубые кирзачи. Имущество у меня не велико – старенькая шинелишка и полупустой чемодан. Но это был всем чемоданам чемодан, какое-то чудо, не чемодан, на удивление ноский, с железными пластинками по углам – и в сырости месяцами валялся, и на морозе, бился в грязных кузовах грузовиков, ездил в теплушках, служил мне вместо табуретки, а порою и вместо стола, в общем, чемодан с обычной солдатской судьбой, а все еще цел, крепок, ладен, хотя и пообтерт до крайней крайности.
Оказалось, Ушаково не все было залито наводнением, а примерно на треть, дома, какие получше – несколько двухэтажных, бывших кулацких, средняя школа, всякие районные организации и кирпичная церковь, как водится, без крестов и колокольни, обшарпанная и облезлая еще хуже, чем мой чемодан, – мостились на взгорье, куда Тобол никогда не докатывался. От причала отошли – нет, не по Тоболу – по водяной улице – две кособоких лодчонки, заполненные людьми. И больше лодок вблизи не виделось, только возле дальних домов. Десятка полтора мужиков и баб, построившись гуськом, неторопливо пошлепали возле берега, по грязи и по доскам, жердочкам, кирпичам, кем-то в самых опасных местах набросанным, по заулку, прижимаясь к пряслам и держась за них, – заулок не весь был залит водой; перелезли через какую-то жердяную изгородь, чтобы сократить утомительный путь, прошагали по чьему-то бесконечному огороду и, наконец, все же уткнулись в разлив. Опять вода. Тут, оказывается, был овражек, довольно-таки глубокий, как я потом узнал, затапливаемый даже в слабое половодье.
Я ждал, что мои спутники будут почем зря ругать районное начальство – ну что за дорога, но нет, видно, война и здесь приучила людей к великому терпению: ни вздохов, ни охов, ни жалоб, будто так и надо.
Через овражек нас перевезли на лодке мальчишки.
Редакционный дом стоял у взгорья, как бы влезал на него, но вода была и тут, где сантиметров на десять, где на двадцать, но все же! А у задов и совсем глубоко. Я прошел к калитке по мосткам из досок, чуть-чуть сгибающихся под моей тяжестью, радуясь, что газетчики тоже вышли из положения – вон какие славные мостки построили.
Вернее было бы сказать, не газетчики, а газетчик, – пожилой и, видать, не в меру флегматичный секретарь редакции Ветлугин. Тогда в районных газетах работали по двое. Редактор еще в прошлом месяце уволился и уехал в теплые края, вместо него послали меня.
Стараясь быть любезными, мы несколько настороженно приглядывались друг к другу: как-никак, а вместе придется работать.
Я похвалил мостки.
– Это Андреич помог нам, – неожиданно живо отозвался Ветлугин. – Есть такой мужик в райисполкоме. Николай Андреевич Иевлев.
Так я впервые услыхал об Андреиче.
– Лодку бы вот нам. Говорят, вода-то еще прибывать будет. Зальет все к чертовой матери. Поплывем. В общем, надо лодку. Сходите к Андреичу, попросите. Может, он что-то и сделает. Новому человеку легче просить.
Я с любопытством рассматривал кабинет редактора: ничего, прилично для деревни – потолок высокий, светло, чисто – чего же еще! В большое окошко видны Тобол, луга, почти целиком залитые водой, с десяток домов, огороды, изгороди, баньки, а совсем далеко, за рекой, лес – ровная темная стена. Это хорошо, что из кабинета так далеко видно: от большого-то простора и мысли рождаются светлые. На мгновение почувствовал легкую, почти юношескую радость: еще молод был.
Редакторское жилье, куда привел меня Ветлугин, представляло собою обычный деревенский дом в три оконца, по тамошним меркам неплохой. Стоял он на взгорье. Теперь-то я понимаю, домишко был так себе, с несуразно огромной печью; две дощатых перегородки без дверей, подкрашенные скучной темно-синей краской, разделяли дом на три части, – две комнатушки и кухоньку. В одной комнатушке стояла еще железная печка на четырех ножках, по местному – железянка.
В избе было голым-голо, только на кухне – скамеечка и столик грубой домашней работы. «Все-таки! – подумал я обрадованно. – Чемодану можно и отдохнуть».
– Вот так! – вздохнул Ветлугин, хмуро глядя на пол, где валялись скомканные бумажки, порванная брошюра, коробок спичек, поломанный гребень – грустные следы старых хозяев. – Дом куда с добром. Ну, помыть, конечно, надо. Тогда как раз подстыло, дорога была ничего и Орленко спешил уехать. – Ветлугин говорил о старом редакторе. – И все быстро распродавал. Тут его, конечно, понять надо. Чего бы он стал свою мебель оставлять за просто так. Хорошая квартирка. С мебелью у нас тут худо. Вот когда пойдете к Андреичу, то спросите и насчет нее. Да, кстати, и насчет дров. От Орленко осталось две охапки, не больше. С дровами, правда, проще.
Я спросил, каков он из себя, Андреич, что за человек.
Ветлугин усмехнулся:
– С некоторыми странностями мужичок, прямо скажем. Ээ… к примеру, может запросто пустить по матушке. Ну, вас-то этим, я думаю, не испугаешь. А в общем-то, хороший мужик.
«У тебя, видать, все хорошие и всё хорошее».
Что-то не спалось в этот вечер. Долго ходил по избе, дымя самосадом, слушал, как недовольно скрипят подо мной половицы, и поглядывал в черные окна.
На улице, далеко, кажется, у почты, тускло светились два окошка, а напротив – сплошь темные избы: рано ложится деревня и рано встает.
Лампочка в комнате светила вполнакала. Да какое впол, в четверть, лишь изредка, на мгновение, вспыхивала по-настоящему, и опять бог знает что – тускло, серо, стены, окна видишь, а уж писать, читать не вздумай. (Жители Ушаково в тот год не обходились без керосиновых ламп.)
В избе было холодно, наверное, так же, как на улице, и потому комнатки казались неуютными и вроде бы даже сырыми.
А железянка?.. Дурак, надо бы с самого начала!.. Сбегал за дровишками. И вот уже запотрескивало в железянке, труба железная завыла, запела приятную мне волчью песню, и стало так тепло, хоть догола раздевайся. И я сразу ослаб, ни рукой, ни ногой двинуть неохота, так бы сидел, сидел, опустив голову, покуривая и слушая, как надсажаются ветер с трубой…
Неделю назад я уволился из армии, где, говоря солдатским языком, «отбухал» больше восьми лет. И молодости как не бывало: пришел с залысинами и морщинками на лбу и под глазами, даже в зеркало глядеться страшно. Что говорить, жизнь в армии была не больно-то сладкая.
Но хоть и сурово там, но всегда ты одет, обут, накормлен. И сейчас у меня нарастало странное пугающее чувство, будто я забыт, покинут всеми, никому-то не нужен, этакий бродяжка бездомный. Подумал об этом и засмеялся. Завтра заявлюсь к Андреичу, пускай он будет для меня отцом-командиром.
Все-таки далековато забрался, май уж, а тут еще холодно и ночами подмораживает. Какая нечистая сила принесла меня сюда, по своей воле прибыл, без команды, без марш-броска. Мне почему-то всегда казалось, что самая интересная, самая-самая настоящая жизнь не в крупных городах и не в южных краях под яблоньками и вишенками, а где-то далеко-далеко на севере, в маленьких городках, поселках, деревнях или в сибирской тайге, где нет конца звериным тропам, где зимой коченеют руки даже в меховых рукавицах, а ноги даже в пимах, где живут сильные, выносливые люди. Это была моя давняя детская мечта. Ведь в каждом из нас, даже в стариках, живет что-то детское.
В полночь лампочка потухла. Ну и бог с ней! Расстелил газету возле железянки и улегся в шинелке. Ничего страшного. Сухо. Тепло. И тихо. Что еще надо солдату!
В моем сознании перемешались и чувство одиночества, и радость от сознания, что все же добрался наконец-то до места, как-никак устроился и больше никто не стреляет ни сзади, ни спереди, и я уснул.








