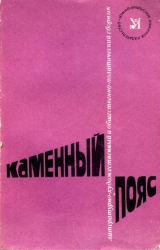
Текст книги "Каменный Пояс, 1982"
Автор книги: Сергей Баруздин
Соавторы: Лидия Преображенская,Мустай Карим,Владимир Курбатов,Николай Верзаков,Людмила Татьяничева,Сергей Поляков,Нина Кондратковская,Петр Краснов,Иван Малов,Геннадий Суздалев
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
ВЛАДИМИР ХАРЬКОВСКИЙ
Книга
Рассказ
Владимир Харьковский родился в 1947 году. Работает в еткульской газете «Искра» (Челябинская область). Учится заочно в Литературном институте имени А. М. Горького. Рассказы Харьковского печатались в областной газете.
Иван Максимов, разживинский мужик, пришел к своему тестю Кондрату Шишову отдавать долг – три рубля. Деньги он занял неделю назад – под аванс.
Иван – отходник. Осень и зиму кочегарит в казенной котельной, обеспечивает теплом колхозные ясли, контору и школу. Жизнь истопника известна: день да ночь – сутки прочь. Чтобы не так пресно жилось, изредка перехватывает Иван у знакомых на бутылку портвейна. Самый верный заимодавец – тесть.
В Разживино от мала до велика Кондрата зовут дед Шиш. Он здешний, коренной. Родился еще в прошлом веке. Прожил долго, много имел, да и потерял немало.
Кондрат – сын местного торговца. До семнадцатого года его родитель держал в руках окрестных мужиков, как хотел, так и вертел. Процветал торговый дом Шишовых и в гражданскую. Торговали с теми, кто платил. Белым Кондрат поставлял конину вместо говядины, красным – муку с древесной трухой. Своим торговал – русским, а русский желудок все смелет, так и рассуждал…
Жизнь чуть было самого Кондрата не смолола в древесную труху. За конину лихой казацкий подъесаул сулил вздернуть его на первой осине, потому что на такую гниду и пули жалко… От красных пришло предписание: за недоброкачественную муку торговца предать суду революционного трибунала…
Но в те годы жернова истории вращались слишком быстро, а при скорости, известно, не все попадет в размол. Когда торговые заслуги разживинского мужика отодвинулись на достаточный срок – жизнь смягчилась к нему.
Теперь все в прошлом… Белыми, оловянными глазами, в которых притаился напряженный интерес, – кто пришел к нему во двор и зачем, – уставился он на зятя.
На улице ясный, безветренный осенний день – голубой и прозрачный. В воздухе сытая, бодрящая свежесть. Издалека тянет сладковатым дымком от сгорающей картофельной ботвы. По просторному шишовскому двору, обнесенному плотным тесовым забором, волнами струится тепло.
Звякнув тяжелой кованой цепью, из будки высовывает морду огромный седой пес Полкан. Знакомый. Стучит хвостом по дощатой стенке конуры и, показав длинный розовый язык, убирается на место.
Кивнув на приветствие, дед Шиш молчит, ожидая надоедливых разговоров о здоровье, погоде и урожае. Все-то ему известно наперед. Так всегда было: прежде чем дело начать, нужно примериться.
Ивану приходит мысль о том, что раньше мужики, должно быть, Шишу в ноги падали, отцом-кормильцем величали, Христом-богом молили… Смешно ему об этом думать. В своей жизни он ни перед кем спины не гнул, всегда ходил прямо, а если и случалось занимать на портвейн, то не от нужды, а чтобы лишний раз не гневить бабу, которой не нравилось, что выпивает он в будни без веской на то причины.
– Ну, так что, дед? – говорит, наконец, Иван. – О чем тужишь? Гость пришел.
– Вижу, – раздумчиво отвечает тесть. – Чего ж не прийти? Сродственники… Проходи…
– Вот и пришел, – бурчит зять, вспомнив вдруг обиду, которую нес Шишу вместе с долгом.
Обида у Ивана родственная, но он пока притаил ее.
– Эге, дед! – В голове его неожиданно мелькает игривая мысль. – Да кто ж тебе двор мел? Батрака, что ли, нанял? Забылся? За это власть карает!
Медное лицо Шиша не выдает даже признака чувств, хотя Иван знает, что дед страсть как боится властей и всяких кар, исключая божью.
Когда, шутя, говорят Кондрату: «А что, дед, как там перед богом с грехами объявишься?» – то дед, в тон пересмешнику, отзывается: «Может, он не запомнил меня. Человеков-то много, неуж я самый зловредный?»
На подозрение зятя Шиш отвечает:
– Что ты, Иван? Какие теперь батраки? Народ совсем избаловался. На себя работать не хотит, не то что на чужих. Митька помогал Фролов…
Митька так же, как и Иван, отходник. На страду председатель призывает его на клуню – перелопачивать зерно и открывать борта у грузовиков. В зиму и летом его отпускают сторожить инвентарь районного семеноводческого хозяйства. Митька – мужик без специальности, пьющий, и оттого большого прибытка хозяйству от него нет. Он частый клиент у Шиша.
Однако дед, несмотря на свои годы, не промах: деньги на ветер не пускает. В долг дает тем, от кого видит прямую или косвенную пользу. Митька ему и двор метет, и картошку копает, да и мало ли что нужно в деревенском хозяйстве старику…
– С лихой собаки хоть шерсти клок, – рассудительно говорит Иван. – До второго пришествия будешь Митькины долги ждать. – Молчит, словно вникая в сложное положение тестя. – Ну, да хоть по хозяйству подсобит… пускай.
А хозяйство у деда обширное, крепкое еще, хотя живности, кроме кур да собаки, – никакой. На просторном дворе отдельно срублена времянка. Летом здесь готовят и стирают. Баня, амбар с тяжелым замком и длинной дверной накладкой. По двору ходят ленивые каплуны, суетится возле наседки поздний выводок цыплят. Поодаль поглядывает на гостя маленьким красным глазом огромный петух-плимутрок… Лет так двадцать назад держал Шиш корову с полуторником, баранов, подсвинков. Но теперь, видно, устал, а может, и в самом деле охотники на него работать перевелись. Ивановой теще – она третья жена у деда – восьмой десяток пошел, с нее помощник для хозяйства плохой.
– Ну, что ж? – говорит Иван Шишу, нареченному ему тестем еще лет пятнадцать назад. – Я, Кондрат, по делу.
На дубленом лице деда появляется ласковая до приторности улыбка. Он всегда рад поговорить о деле. Иван понимает, что тесть почувствовал свое превосходство и видит сейчас в нем не родственника, а простого просителя, и в его душе вновь отзывается недавняя обида, которую нанес дед, одолжив деньги.
– По делу, так по делу, – отвечает Шиш. – Заходи в избу… Сродственники об делах на дворе не говорят.
Серые валяные боты тестя, подшитые толстым черным войлоком, негромко шуршат по утрамбованному гаревому двору. Топают на крыльце.
Иван знает, что Шиш выразительно смотрит на его стоптанные кирзовые сапоги. Просители заходят в избу босыми. Но Иван сердит на деда, и он пришел отдавать, а не просить. К тому же на улице не грязь.
Шиш вздыхает и топает дальше – через высокие просторные сени. Под крышей в полутьме висят пучки лекарственных трав – зверобоя, пижмы, бессмертника, тысячелистника, чистотела. Теща рассказывала, что Шиш размалывает их, заваривает чай и пьет для поддержания своей угасающей жизни.
Изба тестя срублена по старинке – на две половины. В черной, очень просторной – беленная известью русская печь, горка с посудой, кухонный стол со шкафчиком. Вдоль стен, под окнами, – длинные лавки, наглухо приколоченные к полу. В углу, у окна, – прялка, а рядом, на подоконнике, – толстая амбарная книга с засаленными картонными корками, та самая…
Шиш стоит спиной к свету, сложив руки под круглым плотным животом, распирающим маленькую овчинную телогрейку, и молчит.
Иван в упор смотрит на тестя:
– Я, дед, должок принес!
Шиш никак не ожидает такого разговора с родственником. На его бледных, бескровных губах мелькает подобие улыбки. Опустив руки, он делает было шаг к окну, чтобы взять книгу, но останавливается и говорит сбивчиво:
– Что ты, Иван? Что ты?.. Свои же, сродственники… Куда торопиться? Я же помню долг – три рубля…
Но зеленая распрямленная бумажка уже положена на цветастую, в расписных красно-голубых узорах клеенку стола, и он со вздохом сметает ее рукой и тут же уносит в горницу, распахнув бесшумно двустворчатую коричневую дверь. Гремит какой-то жестяной коробочкой и громко, чтобы слышал зять, бормочет:
– Куда спешишь? Взял, так и отдавать сразу…
Иван насмешливо смотрит на книгу, потом переводит взгляд в угол. С божницы устало взирают на него суровые лики святых.
– Зачем, Кондрат, бога держишь? – строго спрашивает он в дверь. – Не веришь ведь.
– Для порядку, – отвечает дед, возвращаясь из горницы. – Веришь не веришь… – бормочет. – Положено так… Не мною заведено… – И более убедительно заканчивает мысль: – Из колхоза имени товарища Жданова бога выгнали… И что же?
– Что? – щурится зять.
– А то, что порядку нет! – раздражается Шиш. – Полтора миллиону казне должны. Пропили, прогусарили колхоз-то…
– Долг от засухи, – резонно возражает Иван. – От стихийного бедствия.
– А засуха от кого?
– От солнечной активности…
Вернув деньги, он спокойно и насмешливо смотрит на тестя, и Шиш, почувствовав в этом взгляде новое для себя дело, а может быть, и неожиданный интерес, снова складывает под выпирающим животом руки и мычит со значением:
– Н-да.
Иван переводит взгляд на книгу, делает вид, что намерен уйти, и поэтому говорит как бы на прощание:
– Ты, вот что, Кондрат… Не забудь меня из книги вычеркнуть, а то в должниках оставишь.
Шиш морщится и лукавит со сладкой улыбкой, в которой видится Ивану смущение.
– Я чужих записываю.
– Ты все-таки глянь! – настаивает Иван и делает вид, что хочет взять книгу.
Шиш опережает его, прикрыв широкой спиной окно:
– Посмотреть, разве что? Своих не записываю, говорю тебе.
В голосе его нет уверенности, потому что Иван в книге записан, и Шишу неудобно.
Желтые разлинованные страницы сплошь усеяны записями. Они шуршат под его толстыми негнущимися пальцами. Сотни фамилий в этой амбарной книге. Кто ж они, должники бывшие и настоящие? Одинокие и замужние бабы, которым не хватало денег до базарного дня, чтобы продержать семью. Мужики, всегда уверенные в том, что у Шиша можно перехватить на бутылку. Много он дать не может, да этим много и не нужно…
– Ты последнюю открой! – Не терпится Ивану. – Скорей найдешь.
– Говорю тебе – своих не пишу, – слабо сопротивляется Шиш, но все же раскрывает книгу на последней странице.
Истина установлена: «Максимов Ив. – 3 рубли».
– Вычеркивай! – торжествует зять. – Не то забудешь!
– Это я так – машинально, – снова лукавит дед.
– Машинально, машинально, – ворчит уже в дверях Иван. – Пишешь, пишешь. Процентов не берешь… Чего ради эта бодяга?
Но Шиша не трогает возмущение зятя. Он и сам, может быть, не знает, для чего пишет. Память у него сохранилась хорошая. Он может рассказать о каждом, кто приходил к нему, с каким лицом просил и скоро ли вернул долг.
Он снова листает свою долговую книгу. Пробегает глазами старые записи. В конце концов ему нет до того дела, что родственник недоволен. Шиш ведь может и не одалживать. Какие у него в этой новой жизни сбережения, если сравнить с теми, что были когда-то и разлетелись прахом?
Впрочем, нет. Он, должно быть, знает, для чего все это. Ясная старость осенена знаком мудрости. Эта книга – последнее напоминание о том, что было когда-то и никогда уже не вернется.
ЛЮДМИЛА ОВЧИННИКОВА
НА ЗАРЕ РОЖДАЮТСЯ СТИХИ
Несколько лет тому назад в журнале «Пионер», в детских коллективных сборниках «Золотинки» и «Алые поля» появились первые стихотворения Людмилы Овчинниковой. Затем ее стихи печатались в «Комсомольской правде», «Молодом учителе», в газетах Челябинска.
Это были стихи об осени в рябиновых бусах, о снегирях на снегу, о щедрости родной земли. И самое первое, детское, напечатанное в «Комсомольце» еще в 1965 году, дышало непосредственностью и светлой добротой.
Люда не могла постигать мир, как все дети. Писать обычным способом она тоже не могла. И училась, переходя из класса в класс, только дома, лишенная возможности даже перевернуть самостоятельно страницу книги. Ей помогали учителя, друзья и самый близкий друг – Мария Михайловна, мама. А писать она научилась, держа ручку зубами.
Годы не заглушили пробудившееся в детстве чувство прекрасного. Новым содержанием наполнились лирические монологи, потянуло к сказочным образам, к трудному жанру – стихам для детей.
Не будем загадывать, как разовьются в дальнейшем литературные склонности Людмилы Овчинниковой, но от души пожелаем ей упорных поисков и счастливых открытий в работе над поэтическим словом и той товарищеской поддержки, какую находила она в годы, детства и ранней юности, мужественно одолевая рубежи школьного образования.
♦♦♦
На заре рождаются стихи,
Собираясь в трепетные строчки.
Я хочу, чтоб были они точны
И, как птичьи перышки, легки.
Только вот уменье, сила та ль?
В вихре кружится листок осенний…
Погрусти со мной, Сергей Есенин,
Позови в синеющую даль!
В ситцевом березовом краю
Сердце пьет напиток грусти нежной,
Здесь душа и чувства так безбрежны.
И я песню здесь сложу свою.
Песня та пускай негромкой будет,
Пусть недалеко она слышна,
Но кому-нибудь она нужна.
Но кого-нибудь она разбудит.
ОСЕННИЙ МОТИВ
Отзвенело лето. Улетело.
Осень сарафан цветной надела.
Нарядилась в бусы из рябины,
Принакрылась тонкой паутиной.
В речку бросила холодной сини.
Ходит-бродит осень по России,
То грустит она, то веселится…
В край далекий улетают птицы.
Дождик льется. Небо потемнело.
Отзвенело лето. Улетело
♦♦♦
Есть у сердца верная примета:
Мы с тобой увидимся во сне.
Если, милый, вспомнишь обо мне ты,
Быть на сердце счастью и весне.
Пусть с тобой любовь другая рядом,
Боль и горечь я перетерплю.
Сквозь неодолимые преграды
Неоглядно я тебя люблю.
Есть у сердца верная примета:
Мы опять увидимся во сне, —
Ведь на сны пока что нет запрета,
А во сне ты помнишь обо мне.
ГДЕ ЖИВУТ СТИХИ?
Ты спросишь – где стихи живут?
И я отвечу – там и тут.
Поверь, живут они везде:
В озерной голубой воде,
В росинке, в шепчущей листве,
В цветке, в небесной синеве.
Они бывают так тихи.
Не каждому слышны стихи.
СЕРГЕЙ ПОЛЯКОВ
Ночлег
Рассказ
Сергей Поляков родился в 1951 году. Работает диспетчером завода по ремонту металлургического оборудования в городе Верхнем Уфалее.
Рассказы С. Полякова печатались в газетах, журналах «Уральский следопыт», «Урал».
Лето.
Дни измеряются не часами, а уповодами – промежутками между завтраком, обедом и ужином: сенокос.
Работы невпроворот. Многие покосники даже домой, в городишко, не уезжают, а ночуют на лесном кордоне, в просторной избе тети Дуни – пасечницы. Я прозевал автобус и под вечер, придя с косьбы последним, тоже постучался в темное окно.
– Айда, проходи, – встретила меня в сенях хозяйка. – Места всем хватит. На засов не запирай: Генки еще нету. Пошел к соседям да и с концом.
Ночевщиков набралось семеро: пожилой мужчина с женой – на кровати, еще пара – на другой, сама хозяйка – на лавке и одинокий старик – на печи. Все, кроме меня, пенсионеры. Я постелил на пол матрац, накрылся полушубком и притих.
На стеклах замерли сонные мухи и отчаявшиеся выбраться на волю комары. Тишина. Только маятно тикают на стене выработавшиеся ходики да за окном время от времени взбрякивает колокольчиком спутанная лошадь.
– И как его угораздило тогда? – продолжала хозяйка прерванный моим приходом рассказ. – Поехал лесу на пристрой подвалить. Санька, – говорю, – дождись кого-нито – мужики скоро приедут покосы чистить – вместе и напилите. Познакомишься с имя, раз строиться собрался.
– Я, – говорит, – не один – с Никиткой. Это собачонку так звал. Да… Часа два, наверное, прошло, Надя ему на завтрак оладьев горячих понесла. Слышит, мотор тихонько клохчет – идет на звук. Подошла, смотрит: пила в сторонку отставлена, работает, а Санька рядом лежит, вроде бы как уморился. Думушки не думала, что с ним неладно. Накрыла в сторонке поесть, зовет его: «Саша, миленький, вставай, я тебе оладьев испекла». А миленький-то уж и не дышит.
– Чем же его?
– Сучком шшолкнуло. Лесина стала падать, одна ветка и зацепила за другое дерево. Хвоя обломилась, а концом Саньку по виску, с оттягом. Много ль человеку надо…
– Вот теперь и построился.
– Лес, он шуток не любит, – сказал старик с печи, человек, как мне показалось, в разговоре непримиримый и горячий. – Зачем один пошел? Знал ведь, что нельзя?
– С кем же ему идти? Помощники еще не выросли. Петюшке пять лет нынче исполнилось, а Маринке и году нет. Нанять не на что: самим на голые зубы много надо. И косит, бывало, один, и мечет с лесенкой: покладет сколько, залезет, потопчет. Закидает сверху, а завершить как следует не с кем. Смотришь на него – и сердце болит.
– Жалко парня.
– Не говори.
– Его теперь чего жалеть? Она вот осталась с двумя огарками.
– Тоскует?
– Знамо, тоскует. Все ночевать сперва ко мне бегала. Придет: тетка Дуня, пусти ради Христа, опять он под окном стучится. С месяц тень-тенью ходила, не знаю, ела что или нет. Я к ней уж и так и этак: «Надьк, тебе ведь еще ребятишек подымать! Ты, говорю, пореви – легше будет». – Молчит! А потом как-то Петюшка прибегает: «Баба Дуня, мамка плачет!» – Ну, думаю, отудобила.
– Срок вышел.
Помолчали.
– А Генка-то, – усмехнулась хозяйка, – где уж такой неловенький: за водой, бывало, не дошлешься, а тут… Приехал давеча: «Пойду, лесничихе инструмент к покосу починю». Возится с граблями у них на дворе, та выходит: «Ген, ты зачем это?» – «Как зачем, – говорит, – страдовать будем…»
– Непутевый он! – ожила на своей кровати самая старшая, похоже, ночевщица. – У него и дедушка – они раньше у нас в соседях жили– едакой же был походячий. Уж, вроде, и старый сделался, а вдов после войны много осталось – так все к ним похаживал. Раз сидим с Нюркой, бабой его, у них на кухне – она посуду моет. Самого нет: на работе. Открывает дверь мальчишечка лет пяти: «Здесь тятька живет? Чего-то он давно к нам не приходил». – Нюрка сперва его выгонять, а потом пожалела: посадила за стол, накормила и хлеба с собой дала.
– Война все карты спутала.
– Война – войной, а порода – породой.
– А и не в породе дело, – Петр Николаевич с другой кровати (его все так и называли, почтительно, полным именем) был из тех энергичных и властных людей, которым в первые минуты веришь без сомнения, – молоденькие – все такие.
– Перестарок, – сказала свое тетя Дуня. – Женить его давно пора.
– Женатые, бывает, еще хуже бесятся, – откликнулся старик с печи.
– Так интересно, поди, с чужой-то? – снова вмешался Петр Николаевич. – А, Мань?
– А я уж ничего про это не помню, – отозвалась та, самая старшая. – Спать охота.
– Со своим – знамо дело. А с чужим положи, и ты, небось, ворочаться начнешь? Так и мужику интересно, если другая подвернется. В чужую бабу черт ложку меда добавил.
– Чего уж в ней больно интересного? Все одинаковые.
– А вот придешь домой, возьми новый сарафан, надень да покажись своему.
– Ну и что будет?
– Ничего не будет, – подвела итог тетя Дуня. – Опоздали мы с сарафанами. Давайте, спите. А то парня беспокоите – наробился, пристал.
– А мы – не наробились? Молоденький, отдохнет еще.
– Он что же, про себя ставит аль про отца?
– Как хочешь, так и понимай. Ребятишек молоком кормить надо.
– Молодец. Самостоятельный. Нынче молоденькие редко кто скотиной занимаются.
– Молоденькие – ладно. Поглядишь – такие мужики: сытые, гладкие – слоняются без дела все лето. Исть-то что будут?
– В магазин пойдут, купят.
– Про всех там не напасешься.
– У меня соседка всю жизнь в магазин ходит. И скотины никогда не держала. Корову подоить – и то не допросишься: вставать ей рано тяжело. Век доживает – тяжеле ложки ничего в руки не брала. А поесть послашше – тоже не против. Намедни заявилась: «Мань, налей сливочек? Сливочек захотелось с сахаром. Мише я картошек сварю, он проработается – хоть чего поест, а у меня аппетиту не стает».
– Затем она и здоровая такая, не баливала никогда.
– Молодая лень под старость пригодится. Мы – простодырые – вот и робим, – заключила хозяйка.
– Может, еще и лучше так, – заговорила жена Петра Николаевича. – У нас зять, пока корову держали, не пил. А перешли в казенную – совсем разбаловался. Что там делать? За целый месяц гвоздя в стенку не забьет.
– Пьет?
– Пьет. Ровно подрядился. Станешь ругаться – неладно. «Я, – говорит, – вам устрою Варфоломеевскую ночь!» Последний раз прихожу к ним – Катя ждет его с работы: получку должен принести. Мне рассказывает, сколь на шубку Ваське отложит, сколько на пропитание, за квартиру. Сама со вторым на декрете сидит. Является пьяный, подает пятьдесят рублей. Остальные пропил или спрятал – не знаю. Она взяла деньги да ему и шваркнула: «Как хочешь, так и корми нас на них!» Что ты думаешь? Берет. «Согласен», – говорит. Оделся, пошел с сумкой, как путевый. Ждем час, другой – нету. Забеспокоились: он у нас сердешник. Пошли искать. Валяется у магазина пьянехонек, и ни денег при нем, ни сумки! Так «скорую» вызывали, два часа отхаживали. Согрешила я с ними…
Старики сочувственно посмеялись и враз смолкли. Видно, каждый вспомнил свои горести и печали.
– Но Геночка-то каков! – снова воскликнула хозяйка. – То ли уж запереть дверь и не ждать больше?
– Хоть запирай, хоть так оставить можешь: нас никто не выкрадет, а он до утра теперь не придет, – как приговорил Петр Николаевич, – Это мы уж никому не нужные сделались, а его еще любая пустит.
– Как это? – на высокой, почти визгливой ноте врезался в беседу голос старика с печи. – Как можно так жить? Приехал на покос – коси! Не блукай в потемках, не сиди под чужим окошком. Вот я: иду из магазина или еще откуда – никуда не захожу. Сумку – тоже домой.
– А к Нюрке Захаровой зачем с сумкой заворачиваешь? Шел бы к себе домой, если такой чередный.
– Так ведь в окошко стучат, – озадачивается пойманный врасплох. – Может, дело какое есть?
– В сумке у тебя что-нибудь есть, потому и зазывают, – выдвигается еще одна версия.
– Конечно, есть, – еще более задумывается тот.
– А мово дедушку уже и с котомкой не зовут, – сказала самая старшая.
– Ты пошшупай, живой ли он у тебя, – посоветовал Петр Николаевич.
– Живой, дышит.
– А ты все одно пошшупай, – настаивал тот.
– А хоть шшупай, хоть нет, толку все равно не будет.
Старики снова тихонько посмеялись: был конь, да уездился.
– Ты зачем его на покос возишь? Расход один.
– Как зачем? Хозяин! Плохонький мужичонко, а все загородочка. Где кашку сварит, где переметинку вырубит.
– В траве запутается, упадет когда-нибудь, – сказал старик с печи. – Довозишь с собой. Как Петька Артемьев. Говорили ему: за сабаном умрешь. Так и вышло: на полосе кончился.
– А с другой стороны, лучше и не надо, – раздумчиво проговорил Петр Николаевич. – Не болел, не мучился, остановился и – все.
– Так оно…
Я лежал, слушал неторопливый разговор и думал о стариках. Разгоряченного косьбой и солнцем, меня не мог одолеть сон. То же напряжение не остывших от дневного труда тел не покидало и остальных ночевщиков, этих из давнего времени пришедших людей. Была и есть на свете работа. Желанная и радостная, иногда беспощадная и злая. Работа на износ. Когда не думаешь ни о чем другом, потому что гремит совсем близко, а сено – в валках. Единственный выход – быстрее скидать его в копны, чтобы сохранить хотя бы часть сухим. Оводы, жара, пот льет, но нет времени, чтобы отряхнуться от колющейся трухи и даже воды попить – после, когда хлынет дождь и беганье с вилами потеряет всякий смысл.
Или косьба. Не мягкая и жирная, как у нас говорят, молодая еланная трава, а проволока тимофеевки, спутанная упавшим клевером, который не столько косишь, сколько выдираешь. И через каждые три, многое, пять рядков бросаешь косу, и смех берет над собой: не могу!
И не сразу все удается: пройдет немало времени, пока научишься косить, не мучая спины, рук, живота. Сколько раз пальцем по лезвию проедешь при затачивании! То коса носком втыкается в землю, то пятку ей забудешь прижать, то ряд не подкашивается – попробуй потом оторви его! Хорошо отбивать косу, править ее, не стачивая жала, – это уменье тоже появится не вдруг. Немного тех ловких работников, которые косят – и смотреть загляденье, и поди угонись за ними! Никто не будет здесь учить тебя или, наоборот, скрывать тайну: пришел работать – бери косу, пробуй. Смотри, как у людей выходит. И мастерство придет – через опыт ошибок и неудач. Через порезы на пальцах.
Я думал: неужели однажды исчезнут этот труд и эти люди? А с ними – весь их опыт, быт и язык? И машины отнимут у нас упоительную до самозабвения радость физического труда? Ведь действительно: одни старики. Я – почти случайно здесь. Да еще некий, воображаемый пока, беспутный «Геночка», посланный бабкой помогать родне.
Я не заметил, когда старики смолкли. Вдруг совсем рядом, на улице, пиликнуло. Кто-то в избе хмыкнул:
– В гармоню никак собрался играть.
– Неужели он с гармоней на покос приехал?
– С ней, баламут.
А гармонь действительно заиграла. И не грустное что-то, а незамысловатое, резвое и беспечное.
Ты не плачь, моя фуражка, —
Козырек тебе пришьем.
Не тужи, моя милашка, —
Жениха тебе найдем.
Голос, неожиданно чистый и ладный тенорок, выпорхнул в ночи, как жаворонок после дождя. Гармонь играла, не оставляя места скорбной лесниковой душе, которая будто бы бродила еще в потемках возле кордона. Гармонь заливалась. И в разухабистых и озорных звуках ее не было никакой непристойности. Вдруг все умолкло.
– Пустила! – выдохнули разом в избе.
– Почет серой капусте в базарный день.
– Лучше бы не пускала, – сказала та, самая старшая. – Намается еще хуже, чем одна. С ним баушка только и справляется.
– И эта справится. Подберется половчей, да и…
– Не нужно мне нисколько про них, – зевнула старуха. – Своих забот полно. – И почти тут же всхрапнула.
Вслед за ней фигурно заприсвистывал и одинокий дед на печи. Тетя Дуня еще поворочалась немного, затем встала, заперла дверь и легла, затихла. Темнеть перестало, но до рассвета оставалось еще часа два. Когда я уснул, не помню.
Геночка заявился к утру, в четыре часа. Небольшого росточка, сухонький, курносый и, кажется, рыжий. Виновато поскребся в дверь, на печь полез прямо с гармонью. Та неосторожно пиликнула.
– Айда, поиграй нам сверху, – сказала тетя Дуня. – Все веселей встанем.
– Он за ночь до того, поди, наигрался, что до вечера, как опоенный, ходить будет.
– Это… – в Геночкином голосе скрывалась застенчивость, – я лесничихе один уповод покосить обещался. Если баушка приедет, пусть меня не теряет.
– Коси, не жалко, – ответила хозяйка. – Жениться не надумал?
– Посмотрим, – ответил парень сквозь сон.
– Его бы женить, – нехотя пробормотала самая старшая. – А после жену отобрать. Вот тогда бы узнал.
Но что бы он узнал, никто не стал спрашивать.
Светало. Все потихоньку вставали, неторопливо, с отдыхом, одевались и уходили на свои делянки.
Я шел, и многие вчерашние мысли казались мне уже несправедливыми. В конце концов, не одни старики. После работы приедут и помоложе. Мне же самому косить, пожалуй, даже нравится. И если я летом ни разу не побываю на покосе, то посчитаю себя… обделенным, что ли.
На своей еланке я достал отяжелевшую от росы косу. Поправил ее бруском и пошел первый ряд. Тело с непривычки ныло, но косить по холодку было легко. И тот дурманящий запах, что исходит от травы в жару, еще не появился. Кончив ряд, я прошелся по лезвию бруском. Недалеко реже, чем у меня, отозвались брусками те, с кем я коротал ночь. Дед мой говорил, что по этому звуку можно определить, кто косит: старый или молодой, усталый или нет.
«Пришли уже», – подумал я про стариков.
Было очень тихо.








