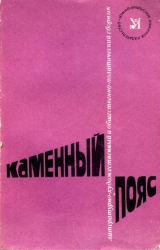
Текст книги "Каменный Пояс, 1982"
Автор книги: Сергей Баруздин
Соавторы: Лидия Преображенская,Мустай Карим,Владимир Курбатов,Николай Верзаков,Людмила Татьяничева,Сергей Поляков,Нина Кондратковская,Петр Краснов,Иван Малов,Геннадий Суздалев
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
Вынужденный держать «Конвас» наготове, Илькин давно уже проклял неудобство необорудованной позиции. Опорный столик для кинокамеры и полешки под сиденье– пустяк, на пять минут работы. Погорячились!
Стыдно сказать, но библейский зад Костика, словно та принцесса, сразу ощущает каждую выбоину и песчинку. Он сейчас люто завидует Гарькавому. Тот прихватил с собой телогрейку (что и Костику советовал!) и, хмыкнув на гордый отказ Костика, вольготно разлегся на ней. Хотя бы для приличия предложил еще раз…
– Олег, может она его того… не соблазняет? Заставь ее поблеять… Пожалобней…
– Хм, голова… Козленок я, по-твоему?
– Для искусства, Олег… – Костик замялся, чуть не сболтнув, что было на уме: сапожком ее, сапожком, как Гриню… – Любым способом, Олег…
Едва Гарькавый скрылся, Илькин юркнул на его телогрейку.
Отчего-то Гарькавый не идет прямо, а осторожно крадется через траву к козе. Однако коза, мыслей его не ведая, сама радостно рвется к нему с привязи. Последние метры Гарькавый хищно бежит ей наперерез и с маху пинает в вымя… Со вкусом пинает – неприглядная картинка…
Костик, разумеется, зажмурился, но внимательно считает повторяющееся бессильное «ме-е-е…»
«Потерпит… Подружек тысячами на бифштексы растим», – хладнокровно утешает себя Костик. Гарькавого ему все одно не исправить, зато фильм о природе посеет в черствых заграничных душах добрые ростки… Наконец, не выдержав, Костик, кричит:
– Не смей! Хватит! Хватит!
У карабкающегося назад Гарькавого остекленевшие жуткие глаза. Руку Костик хоть и подал, но в глаза не смотрит. Понимай, мол, Олежек, как хочешь… Может, и презираю…
«Ласка» не помогла. Ждут шестой, седьмой час, но бурый «к столу» не спешит.
Ждут и наблюдают, как купол неба просел под слоистыми обложными облаками. Вскоре последние соломенно-золотистые лучи, как от гигантской фары, шарят в щели между горами и плотной крышкой облаков.
– Тю-тю свету…
Гарькавый нехотя согласился.
– Лады. Завтра тогда…
Искупая грех перед героиней, Костик сам ведет ее домой. Вернее, наоборот: коза резво скачет вперед, а Илькин едва волочит за ней ноги. Дождь окончательно испортил настроение: первая капля – и сразу за шиворот.
Зато Гарькавый, ликуя, тянет руки к небу и ловит ртом холодные обильные струи. Его помолодевшее лицо, сутулые обычно, а сейчас словно и распрямившиеся плечи ужасно Костика раздражают.
– Потерянному дню радуешься?
Гарькавый ухватил Костика за талию и, будто мячик, легко крутнул ввысь.
– Глуп лопоухий! Ура! Глуп лопоухий! – слышит Костик захлебывающийся радостью голос.
И все-таки пришел зверь за козой. Подкрался ночью, когда отчужденно нахохлившиеся друг против друга люди в промокшей палатке порознь гадали каждый об одном и том же: не перейдет ли студеный дождь сразу в снег? Лапой смахнул козе голову.
– Назад! – бешено крикнул Гарькавый Илькину. Сдуру Костик пополз через застегнутый полог наружу.
Опрокинутый Костиком керосиновый светильник поджег спальный мешок. Бестолково-старательно, словно ловя кузнечика, Гриня захлопал квадратными ладонями по пламени.
В упор на жуткий рык Гарькавый выстрелил. Еще и еще. Рык перерос в рев, – перепонки рвет! – потом сквозь дробь дождя отчетливо затрещали сучья, и уже издалека рев вернулся эхом-угрозой.
– Фонарик, Костя, – тихо попросил Гарькавый.
Костик услышал, как лязгают собственные зубы.
Ощупью отыскал его руку и отпрянул, будто невзначай коснулся в темноте покойника: пальцы у Гарькавого скрючились в ледяной гладковатый кулак.
– Съемочки, маму их… Заикой можно остаться, – смущенно пробормотал Гарькавый. Не слыша в ответ сочувствия, спросил скорее растерянно, чем с вызовом:
– Перепугались, так, что иль, суслики?
– Подранох на нас, – угрюмо отозвался Гриня. – Не по-сибирски оно… X самой зиме… Люди белховать придут, а мы им шатуна оставили…
– На ружье! Выйди! Добей его! Раз такой совестливый.
– Ну вот, снова и ругань. Нельзя, друзья, нам сейчас ссориться, – с пылом заключил Костик. Он уже пришел в себя и понимает, что из его уст опасения за раненого медведя истолкуются как малодушие.
– Никуда он от нас не увильнет – снимем все равно! Этого не удалось, у избы, значит, подкараулим.
Ох и трудно Костику нахлынувшую болтливость сдержать. Ох и хочется добавить ему что-нибудь еще, например, про риск в искусстве…
Но поверженный Гриня и так уж тяжело сопит. А кроме того, флегматичная совесть Костика отчего-то сейчас шевельнулась. Вроде и волноваться особо не о чем, без сучка и задоринки еще ни одна серьезная съемка не обходилась. Как там в песне: «…нужна победа, мы за ценой не постоим!» Но смутное чувство вины перед Прохоровым, пожалуй, и Гарькавым тоже, с самого начала съемок мешает хуже колючки в сапоге.
«Рисковать рискую с ними на равных. Голодаем вместе. Заплатить им? Заплачу! Слишком я интеллигентно воспитан, чтобы общаться с этим быдлом», – упрекнул себя Костик, так и не позволив себе докопаться до истинных причин, что подтолкнули его на съемку медведя.
Брезент вокруг дыр от выстрела отрывается целыми лоскутами. Опасаясь выходить, Костик посветил фонариком через проем дыры. Пересчитав стеклянные нити дождя, луч уперся в голову со слипшейся шерстью.
Уцелевший внимательный глаз – единственное, что напоминает Тоню в мокнущих под дождем останках.
«И чего она косит?» – раздраженно подумал Костик, спешно закладывая дырявую стенку палатки рюкзаками.
После гибели козы Гриню будто подменили. На протянутую Гарькавым пачку папирос бывший послушный раб уставился, словно и не понимая, что от него требуется.
– Однахо в последний раз, Олех Палч, – пробасил с растяжкой.
К удивлению Костика, Гарькавый не вспылил, более того – пошутил добродушно.
– Ладненько, косолапый. Глядишь, этак и курить брошу по твоей милости…
С Костиком рабочий и вовсе осмелел до неприличия. Демонстративно запнулся на первом же привале о кофр с кинокамерой. Костик, естественно, перевесил кофр на сук поодаль стоящей ели, но Гриня вынырнул с хворостом именно из-за этой ели и, как бы нечаянно, саданул кофр плечом. Сук угрожающе заскрипел, Костик резво вскочил, однако у Грини на лице снова затускнела туповатая невинность. Отчитать его Костик постеснялся и окончательно сконфузился, ощущая на себе пристальное внимание Гарькавого.
Два последних дня до избы Гриня преследовал Костика шаг в шаг и замогильно вещал из-за спины:
– Слышь ты? Утоплю я твою хромыхалку. Усни попробуй, утоплю ее и тебя, наверное, утоплю…
В искренность угрозы Костику не верилось, по однообразный юмор изрядно действовал ему на нервы.
Честно говоря, Костик и сам с великим удовольствием забыл бы тяжелый кофр на привале, так сильно мучила его поначалу безобидная, а сейчас перехватывающая дыхание боль в пояснице.
Наглела боль с каждым шагом. Даже столь долгожданная изба на противоположном берегу речки не обрадовала Костика. Согнутый болью в крючок, он застыл на валуне, не в силах перепрыгнуть на следующий. Гриня сдернул с Костика кофр, так согнутого крючком и взвалил на плечо.
– До избы, Гринечка… – выдавил из себя Костик, уткнувшись лицом, словно в отцовскую, жилистую, пахнущую потом шею.
– Будя Ваньку-то валять, – с напускной грубоватостью прикрикнул Гарькавый, выплескивая воду из колпака дождевика.
Костик поморщился, все же сам без посторонней помощи, каблуками о край нар, вытянул ноги из сапог.
– Подгадил, мужички, я вам… Вы уж меня извините… Если и в самом деле радикулит, читал в «Здоровье», подолгу валяются…
– Букварь тебе читать! – огрызнулся Гарькавый.
– На скале меня, Олежек…
– Вот и говорю, – дофасонил… И почему я такой невезучий на житуху? Раз помаячило… Эх! – скрипнул зубами Гарькавый.
Сумрачные озлобленные рабочие яростно лечили Илькина до самого вечера. Едва Гриня убрал с поясницы остывший камень, Гарькавый намочил водкой грубошерстную портянку и принялся сдирать кожу с гладенькой пояснички.
– Помогло?
– Ни-ни, Олежек…
– Врешь, помогло!
На смену Гарькавому снова возник Гриня с котелком малинового отвара.
– Пей.
– Не могу, Гриня, на двор хочу…
– Силой волью…
– На улице как? Сеет?
– Пей!
– Мелочь сеет?
– Аха, мелочь. Допивай…
Видя, что после их стараний согбенный Илькин все равно едва дошел до ведра в углу, Гарькавый зашвырнул рюкзак в изголовье нар и через минуту уже захрапел.
Огонек керосинового светильника едва обрисовывает сидящего за столом Гриню и выдолбленную из гриба-трутовика пепельницу на подоконнике. Остальное пространство избы до багрово накалившейся печи – в полумраке, оттого, наверное, изба кажется Костику удивительно уютной.
Нары – ряд одинаковых по толщине тонких, сально блестящих тепло-коричневых бревен. Из тех же бревен и потолок, только подтесанных до бруса. Из них и дверная коробка, и сама дверь.
«Все равно недоступен виноград – шиш ее снять без мощного павильонного света. Отснимался…»
Пытаясь забыться, Костик следит за Гриней. Тот снял с печки зашипевший котел, разбавил кипяток холодной водой и со старательным терпением погружает огромные ладони в котел. На экране стены, будто, дым из вулкана, затрепетал пар. «Что-то распарился он сегодня…»
– Ноют, Гринь?
– Аха, ноют сволочи. Спасу нет…
И последним удивлением засыпающего Костика было: на нары Гриня лезет, не погасив светильник. Странно, не похоже на него. Керосин у них на исходе…
– Дрыхнешь? – неприязненно бросил Гарькавый Костику. Костик с трудом, через боль успевает за ним глазами.
– Жарит меня, Олежек. Поясница по-прежнему, и голова теперь вот раскалывается…
– Значит, по-правдишному решил поболеть? По-вашему; с температуркой, с градусничком? – Гарькавый сузил глаза до щелочек-лезвий. – Тогда квиты мы с тобой, киношник. – Рубанул ребром ладони по колену. – Во! Выше голенищ за ночь намело. В мышеловку я тебя заманил. Ты, киношник, не бледней, я ведь причитать над тобой все равно не буду! Полбеды буран – Гриня сбежал! Водку мою вылил из бутылок, половину супов с собой угреб. Ну, крыса, мал свет – посчитаюсь я с тобой!
Хоть и не к Илькину фраза, но инстинктивно он ощутил угрозу и себе.
Гарькавый, как завороженный, уставился в окно и щелкает, щелкает курком ружья.
«Отменный кадр, – машинально отметил Илькин. – Капли на запотевшем окне, и те же капли на тоскливом лице. Все остальное сейчас неглавное, пустячное… Чуть недопроявить – уйдет в черный провал».
– Патроны ему зачем, если ружье не взял? – не в силах перебороть заискивающий тон спросил Илькин.
Гарькавый пыхает под нос, сдувая с кончика хряща капли.
– Думал, догонять кинусь… А ведь просчитался, крыса! – внезапно повеселел Гарькавый. – Заветный патрончик я всегда во внутряке ношу! – Сдул с патрона табачные крошки, загнал патрон в ствол.
– Вот что. Ждать, пока ты отлежишься, дурость получится. Наметет выше брюха, да и не ходоки потом мы без шамовки. Речки вспухнут. Гриня-то ведь недаром слинял – местный он… Ухожу я тоже. Переть тебя мне не по силам. Доберусь я до Слюдянки, значит, и тебе счастливая масть – жить будешь…
Костик молчал. По затылку снова будто стучал кто обухом топора. Что кино? Маломощное зрелище… Научиться бы настроение на экране прокручивать, чтобы зритель на всю жизнь запомнил, как пахнет сейчас смертью снег с сапог Гарькавого. Может, тогда кто-то из сидящих в зале и позаботится о его сынке… У Лешки уже вылезли два нижних зуба, и на любое, даже фальшивое внимание к себе сынка радостно смеется: «Гы-гы-гы». «Та переживет», – равнодушно подумал Костик о жене.
Гарькавый разложил остатки супов на две одинаковых кучки. И от стола было отошел, но не выдержал – осклабился.
– Жирновато тебе половину, валяться-то… А мне жратва для силов нужна. Не дойду я – тебе и вовсе супы бесполезны. Так что по справедливости давай… Он заново переделил супы и вместе с сухарными крошками смахнул свою долю в рюкзак.
– Ружьишко ты сам обещал. Помнишь, обещал? Что, иль, может, напомнить тебе? – истерично выкрикнул Гарькавый, как клоп, наливаясь красной злобой. – Я напомню! Прижало тебя, киношник, так и уравнялись сразу. Олежком зовешь! А подарок от души сделать Олег Палычу – снова в кусты? Стыдно, киношник? То-то же!
«Молчать с ним, пристрелит…» – приказал себе Илькин. Но когда Гарькавый потянулся, к кофру с кинокамерой, Илькин прохрипел:
– Не трожь, Олег. Бесполезен он тебе, не продать. Не трожь.
– Дурочка! – ласково и нагло оборвал его Гарькавый. – И до порога с ним не доползешь, медвежатник… А я тебе по дороге панорамок с первым снежком накручу. Для тебя же стараюсь! – с надрывом выкрикнул Гарькавый, но Костик его уже не слышал. Только на перекошенном злобой лице с челочкой беззвучно и плавно, как бы в замедленной киносъемке, сокращался черный рот.
Придя в сознание, Илькин сразу оценил изменившийся свет: окно полностью залепило снегом.
– Очухался? Дров я тебе заготовил. Вон под нарами забил все. Хватит дров. Ну, лады, что иль? Давай, киношник… Нет здесь больше Олега Павловича Гарькавого!
Снег засыпал тайгу четыре дня: разводьями влаги проступал на мореных временем брусьях потолка, порывом осатаневшего ветра вметывался через щель меж бревнами над головой Костика. Сырые крупные снежинки отчужденно касались горячего лба.
В один из дней за раму облепленного снегом окна уцепилась птица, кажется ворона. Клювом пробарабанила лунку чистого стекла. Костик увидал обезумевшую реку: черная вода слизывала пухлые сугробы возле самого окна.
На шестой день вместо зловещего гула подступающей реки Костик услышал благородно-грустную мелодию полонеза Огинского. Костик встал, подмел в избе пол, сварил последний пакетик супа, даже похлебал, но музыка в ушах не исчезла.
На девятый день в печальную мелодию вплелся рокот вертолета. Двое пришельцев с неба – точь-в-точь лютые белые медведи! – пытались Костика сначала раздеть, потом сгребли беднягу, унесли в свой корабль.
Черно-пенной гадюкой опоясала река спичечный коробок зимовья с слабеющим дымком над крышей. Однако восхитительный кадр портит торчащее в центре иллюминатора колесо шасси.
С досадой за упущенный кадр к Илькину вернулось и ясное сознание.
– Узнали обо мне как? – вяло спросил он человека в белом халате и унтах, не спускающего с него глаз.
– Друг твой сообщил. Прохоров.
– А-а… а… Гриня… Руки у него. Как он там?
– Хах-ха… нашел о чьем здоровье тужить. Из пушки такого быка не свалишь.
Цену правде человек в белом халате и унтах знал, потому и солгал с легким сердцем.
Сегодня утром монтажники, проверяющие ЛЭП после снегопадов, подобрали Прохорова возле самой Слюдянки. Хирург покалывал иголочкой его руки, с надеждой спрашивая после каждого укола: «Здесь боль чувствуешь? А здесь?» – Гриня отрицательно мотал головой и твердил-твердил хирургу о попавшем в беду Костике.
Болезненно обостренной интуицией Костик понял, что его обманывают. Прильнул к иллюминатору. Сквозь толщу голубоватого воздуха ему показалось, разглядел фигурку Гарькавого. Гарькавый бессильно барахтался в снежном кармане меж рваных складок гор. Потом в руках его возникла скрипка, вместо дождевика – фрак, и вдогонку пролетавшему мимо вертолету понеслись тоскливые звуки полонеза…
Выписка из материалов Слюдянской прокуратуры.
«20 сентября в урочище реки Сухокаменки охотником Ургуевым обнаружены останки съеденного медведем мужчины. При погибшем обнаружен паспорт, выданный Слюдянским РОВД на Олега Павловича Гарькавого, 1935 года рождения. На месте происшествия найдено исковерканное зверем ружье двенадцатого калибра – заводской номер 3465823, а на ветвях дерева – тридцатипятимиллиметровый киноаппарат марки «Конвас» – заводской номер 829461.
Экспертиза установила следующее. Мужчина и шатун заметили друг друга примерно метров с восьмидесяти. Мужчина начал снимать медведя. Затем три раза пытался стрелять: на капсюле патрона тройной след бойка. Так как патрон отсырел, все три раза произошла осечка. Очевидно, понимая, что от шатуна ему все равно не уйти, мужчина снимал медведя до самого момента гибели. Как сообщили с Новосибирской киностудии, куда отсылалась пленка для проявки, последние кадры на пленке – оскаленная пасть медведя. Не потерявший самообладания погибающий успел закинуть «Конвас» на дерево. С целью выяснения принадлежности киноаппарата киностудиям страны разосланы запросы…»
Из разговоров в буфете киностудии.
– Поймите меня правильно, коллега. При всем личном уважении к Илькину и тому погибшему чудаку я не смогу эти кадры вставить. Согласен: пленка от сырости не пострадала, прекрасное стояние камеры, великолепный насыщенный цвет, простор в кадре – все именно так, как вы говорите. Но у эпизода должно быть начало, должен быть красивый выход из эпизода. В слюнявую пасть с метра зритель просто не поверит. Нас же с вами потом и упрекнут: сняли на планере циркового медведя. Поймите, фильм рекламный, зрителю нужна правда жизни! Не так ли, коллега?
ОДНА СУДЬБА
ЧЕЛЯБИНСК: ИМЕНИ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ
Двадцать лет при Челябинской городской татаро-башкирской библиотеке работает литературное объединение имени Мусы Джалиля, Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии. В него со своими стихами и рассказами приходят рабочие, инженеры, служащие, молодые люди и люди пенсионного возраста. Их объединяет любовь к родному слову.
Осенью 1981 года литературная общественность Татарии и Башкирии, общественность всей страны отметили 150-летие поэта-просветителя Акмуллы. В Миассе, где похоронен поэт и открыт памятник ему, побывала группа ученых и писателей Башкирии. Вместе с гостями выступили со своими стихами на вечере поэзии во Дворце культуры автозавода и члены литобъединения.
В год 60-летия образования СССР в Челябинской области проведена неделя литературы и искусства с участием ведущих литераторов Татарской и Башкирской республик. Все это – свидетельство великой дружбы народов, осуществления в нашей стране ленинской национальной политики.
Салисэ Гараева, член Союза писателей,руководитель литобъединенияимени Мусы Джалиля г. Челябинска
БАСЫР РАФИКОВ
♦
ИСПЫТАНИЕ
В печах, где не смолкает клокотанье,
Железо закаляется огнем.
Затем металл проходит испытанье
На твердость, на разрыв и на излом…
В любви и в гневе,
в счастье и страданье
И на чужбине,
и в краю родном —
И человек проходит испытанье.
На твердость,
на разрыв
и на излом…
Перевод В. Миронова
♦♦♦
Занимается утро, остывает закат.
Это времени шаг, как прибоя накат.
Нарождаются и остывают миры.
Это спор мудрецов стародавней поры.
Спит малыш в колыбели, на кладбище – дед.
Это путь поколений сквозь тысячи лет.
Сын трудом продолжает деянья отца.
Это смысл бытия на века, до конца.
Перевод С. Борисова
РАМАЗАН ШАГАЛЕЕВ
♦♦♦
Я все стерплю, судьба моя,
Перенесу и боль, и муки.
Пускай откажутся друзья,
Забудет милая в разлуке,
Пусть оступлюсь я невзначай —
Ты накажи меня сурово,
Лишь с Родиной не разлучай
И не лишай родного слова.
Перевод И. Рыжикова
♦♦♦
Он не поможет голодному,
Руки не протянет упавшему,
Шубы не даст холодному
И не поддержит уставшего.
Что мне сказать ему?
Другой же – отдаст для бедного
Коня своего последнего.
Как брату,
К уделу лучшему
Дорогу укажет заблудшему.
Что мне сказать ему?
Перевод А. Филиппова
♦♦♦
Идешь ко мне опять и даришь мне цветы,
Не хочешь ли меня утешить этим ты?
Не сам ли ты очаг пылающий залил,
Подумал вновь разжечь, да не хватило сил?
В том очаге, потушенном тобой,
Теперь лишь пепел, смешанный с золой.
Он холоден, как лед. Скажи, ответь:
Кого сумеет тот очаг согреть?
Перевод А. Филиппова
САЛИСЭ ГАРАЕВА
♦♦♦
На Урале живу. Я – уралочка.
Скалы с ветром здесь обручены.
А в орлиных пределах заманчивых
клекот слышен в гнезде тишины.
Выше их, на скале неуступчивой,
только молний пернатых приют.
Посиди на утесе задумчиво —
облака прямо в руки плывут…
Тишина величава. Губить ее
даже камень считает за грех.
Сосны лепятся, грозами битые,
выше всех и бесстрашнее всех.
На Урале, где сосны нагорные
тайну скал и ветров стерегут,
я прощусь с тишиной,
обновленная,
в шумный город вольюсь, в дробный труд.
Перевод М. Аввакумовой
♦♦♦
Счастливая —
В рубашке родилась.
Татарское село – исток моей дороги.
Да не минуют бури и тревоги
Меня!
Ведь я в рубашке родилась,
В словах о счастье говорить
Дано мне редкое уменье.
Дано великое терпенье
Высоко голову носить.
Со счастьем неразрывна связь.
Да будет песня не напрасна!
Да будет с нею жизнь прекрасна!
Ведь я в рубашке родилась.
Перевод Н. Рябининой
БАГУЛЬНИК
Скована земля морозом круто,
Но она и в холоде седом,
Будто зиму с летом перепутав,
Одарила радостью мой дом.
К свету из воды тянулась ветка,
Тайну лета бережно храня.
Распахнулись почки на рассвете,
Ярко вспыхнув точками огня.
Ни листочка, только буйство цвета
Зимней наготе наперекор.
И нежданным праздником согретый
Ожил дом мой, грустный до сих пор…
Мне та ветка в пламени лиловом
Показалась женщине сродни,
Опаленной позднею любовью,
Той, что на все годы, на все дни.
Перевод А. Турусовой








