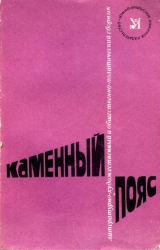
Текст книги "Каменный Пояс, 1982"
Автор книги: Сергей Баруздин
Соавторы: Лидия Преображенская,Мустай Карим,Владимир Курбатов,Николай Верзаков,Людмила Татьяничева,Сергей Поляков,Нина Кондратковская,Петр Краснов,Иван Малов,Геннадий Суздалев
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
ОДНА СУДЬБА
МАГНИТОГОРСК: ИМЕНИ БОРИСА РУЧЬЕВА
Литературное объединение имени Бориса Ручьева всего лишь на год моложе своего города, так что творческое становление его первых поэтов и прозаиков происходило в котлованах, на строительных лесах будущего гиганта отечественной индустрии. Первые из первых певцов Магнитки – Борис Ручьев, Василий Макаров, Александр Ворошилов, Александр Авдеенко, Михаил Люгарин, Яков Вохменцев, Александр Лозневой, Марк Гроссман – заложили те добрые традиции, которые свято поддерживаются многими поколениями литераторов Магнитогорска.
Ежегодно в один из «литературных вторников» (так называют они свои занятия) объединенцы приходят в музей-квартиру Бориса Ручьева: старые фотографии, журналы, некогда издававшиеся в Магнитогорске, книги их предшественников – все это убеждает в том, что литераторы Магнитки всегда черпали вдохновение в гуще рабочей жизни.
Трудно предсказать, для кого из нынешнего поколения литературного объединения поэзия станет судьбой, но ясно одно – и для них главным источником творческой мысли есть и будет труд.
Н. Кондратковская,член Союза писателей,руководитель литературного объединенияимени Бориса Ручьева г. Магнитогорска
ВЛАДИМИР ЧУРИЛИН
♦♦♦
Я шел в огонь,
Он зубы свои скалил,
Ему, видать, понравилась игра.
А город спал, морозен и хрустален,
И ничего не ведал до утра.
Гостеприимно выстроились стены,
Спешил в тепло усталый человек,
А я стоял у дымного мартена,
Тяжелый пот отряхивая с век.
Мне в эту ночь то плакалось, то пелось,
Гудела сталь в оплавленном ковше,
И ничего так страшно не хотелось,
Как устоять на этом рубеже.
ВАСИЛИЙ СКРЕБКОВ
♦♦♦
Полвека шумит мой завод многотрубный.
Здесь реки стальные начало берут,
И тем я горжусь, что достался мне трудный,
Но очень уж нужный для Родины труд.
Пусть жаром печет и вздуваются вены,
Но большего счастия нет для меня —
Быть сыном Магнитки, стоять у мартена
И чувствовать сердцем дыханье огня.
Горячей работой нельзя не гордиться,
Я возле металла душою окреп
И каждому низко готов поклониться,
Кто честным трудом заработал свой хлеб.
ЛЕСОРУБЫ
Мы в бору бригадой жили,
Строевой валили лес.
Нас наотмашь ливни били
С громыхающих небес.
Комариным звоном пела
Зауральская жара,
И спина деревенела
В этом пекле до утра.
Сам старшой дивился зычно:
– Наворочали ж мы дур! —
И заканчивал обычно:
– Баста, братцы! Перекур!
Все лежали и дымили,
Передышку дав рукам,
А над нами сосны плыли
По белесым облакам.
Ни один меня в бригаде
Не обидел, не ругнул —
Понимали: хлеба ради
С малых лет я спину гнул.
Оттого на равных взяли,
Хоть и был почти малец,
Что геройской смертью пали
Старший брат мой и отец…
Кончен день. Старшой солидно
Говорил: «На стан пора», —
И, меня жалея, видно,
Кто-то нес два топора.
После ужина курили,
Заводили разговор
И про то, как немца били,
И про то, как немец пер,
Про находчивость солдата,
Про чужой, постылый край,
Да просили Федьку-хвата,
Побасенку, мол, поддай.
Взрывы хохота летели
В остывающую синь.
Мужики едва хрипели:
– Ну и Федька, сук-кин сын!
Разговор кружился птицей
В свете гаснущего дня.
Сон морил, и тихо лица
Уплывали от меня.
Может, в эти перегрузки,
В дни усталости до слез
Всей душою к людям русским
Я, как деревце, прирос,
И за все, что я имею,
Перед ними я в долгу
И, наверно, жизнью всею
Рассчитаться не смогу.
РИММА ДЫШАЛЕНКОВА
♦
ГОРНОВОЙ
Чугун похож, конечно, на дракона,
Когда дыхнет из каменного горна
Огнем и серой, звездами и мглой,
И лишь глаза прикроет горновой,
И кажется – качнулась даже домна;
Пошел чугун, коварный и упорный,
Когтями жидкими нащупывая путь,
Уже готовый в сторону плеснуть.
А горновой над струями слепыми,
Как дрессировщик с прутьями стальными…
Ползет чугун, свивает два кольца,
Гудит, брезгливо сплевывает шлаки,
А горновой, как под броней, под шляпой,
И пот ручьем с прекрасного лица.
О, как чисты два этих существа,
Две силы, непохожих друг на друга,
Две воли, где ни боли, ни испуга,
А на победу равные права!
Иди, чугун, волшебный рудный зверь,
Послушный, золотой и полновесный.
Твоей красой, как благородной песней,
Вновь человек наполнился теперь.
ЛЕОНИД НОВИКОВ
♦
ЗАВОДСКИЕ ДЕРЕВЬЯ
Под потоками дыма и пара,
Как солдаты, построившись в ряд,
Не боясь ни жары, ни угара,
Заводские деревья стоят.
Их не скоро и осень иссушит,
Лето полностью им отдалось.
Видно, в их деревянные души
Много силы железной влилось!
ЛИЛИЯ ЗАКИРОВА
♦♦♦
С закатом солнца вышла за холмы —
Костерный дым по лугу расстилался.
Вставал едва приметный круг луны,
И сонно перелесок улыбался.
Не розам, а ромашкам полевым
Соловушко готовил серенады,
Не ожидал пленительной награды
И, может, этим был неповторим.
ВЛАДИМИР ЕГОРОВ
♦♦♦
Чаек стон.
Волна соленая.
Опустел в заливе пляж…
Осень,
ветром оголенная,
Уронила желтый плащ.
Что поделать?
Осень, осень…
Вышел отпуск мой.
Пора!
Надо мною неба проседь
И Магнитная гора.
Там, зарю взвалив на плечи,
Домны выстроились в ряд,
А мартеновские печи
Вечным пламенем горят!
Намагнитился я, что ли?
Ох, Магнитная гора!
Лишь уеду —
и до боли
Бьется сердце,
как в неволе
Не помогут доктора.
♦♦♦
Стынет лунная дорога,
Звезды падают в рассвет,
И снежинки-недотроги
Заметают звездный след.
И встает, как из берлоги,
Солнце сонное в горах.
Голубая даль дороги
Розовеет на глазах.
Розовеют сосны, ели…
Розовеет водоем.
Дочь, и та – порозовела.
Значит,
правильно живем!
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ
♦
РАЗДУМЬЯ В ЦЕХЕ
Где откровенен в тяжести металл,
немая боль моя не стала глуше…
А я-то, брат, наивно полагал —
к железу встану, успокою душу.
Мол, отцвела беда – и с глаз долой.
Стена прочна, и пламя непорочно…
Но отчего же на душе непрочно,
и зреет горький плод над головой?
Ошибки бесконечные мои…
Повинны вы в прозрении целебном:
я знаю, как железо пахнет хлебом
и почему безжалостны ручьи
к сугробам рыхлым…
Ко всему ревную
покой, достаток, искренних друзей…
В реке не стало золотых язей —
к верховьям подались, в свою родную
живую заводь…
Высохла она.
А я сегодня отправляюсь в детство…
Сверши-ка, память, колдовское действо
и прорасти, как солод, семена
моих воспоминаний, где ошибки
всего лишь были шишками на лбу.
Благослови на светлую судьбу,
за женщин грустных наказуй не шибко.
Беда – бедою,
а добро – добром…
Но все же есть великая основа:
коль за молчанье платишь серебром,
то самым чистым золотом – за слово.
АНДРЕИ РАСТОРГУЕВ
♦♦♦
Я, не раздумывая, жгу черновики,
Они сгорают медленно и тихо.
Как пыль дорог, ложится на ботинки
Огарок недописанной строки.
Из желтых листьев лета не сложить,
Из пепла не создать стихотворений.
Осенний город в пелене сомнений
Глаза неярких фонарей смежил…
А проблеск недописанной строки
В осеннем дыме возникает снова.
Но горький запах вновь приносит слово,
Из-за которого я жгу черновики.
И строки растворяются в огне,
Неяркое тепло совсем остыло.
Сгорает на бумаге слово «было»,
А слово «будет» греется во мне.
СТИХИ И ПРОЗА

ИВАН УХАНОВ
Эти редкие свидания
Рассказ
I
Евдокия Никитична занемогла еще утром, но, разгоняя хворь, суетилась во дворе: накормила кур, спустилась в погребок и вымыла там деревянную бочку для соления капусты, подмела дворик… Но ей не легчало, все тело сотрясалось мелкой дрожью, будто Евдокия Никитична взвалила на себя тяжелый груз и несла его из последних сил. Часто и трудно, как-то умоляюще стучало сердце, словно охало от сверхмочной нагрузки.
Евдокия Никитична не сдавалась, по опыту знала: дай волю хвори, уморит. Стоит лечь, станет еще хуже.
…После обеда она подогрела воду в кастрюле, чтобы постирать бельишко, а когда стала снимать посудину с плиты, поднатужилась, в теле ее вдруг оборвалось что-то, левый висок будто прожгла молния. Евдокия Никитична сползла по стене и села прямо в разлитую на полу лужицу теплой воды.
«Что это со мной, господи?» – удивленно-испуганно подумала она и попробовала встать, но тело не послушалось.
Алексей Дюгаев, средний сын Евдокии Никитичны, подъехал к дому матери на служебной «Волге» и, увидев во дворе белую машину медицинской помощи, отпустил шофера: езжай, дескать, не скоро я тут, видно, освобожусь.
Он вошел в дом, где было многолюдно, но тихо, и эта тишина при такой толкучке сразу как-то сковала его движения и голос. Мать лежала на диване. Над нею застывше склонились, спинами к двери, два человека в белых халатах. Из крупной иглы, введенной в вену правой руки Евдокии Никитичны, стекала в стакан темная кровь.
– Здравствуй, Алеша… Вот как я расхудилась… Опять крови во мне чересчур… Два стакана надоили да еще хотят. А ты садись, проходи – с улыбкой, бессильно заговорила Евдокия Никитична, заелозила на подушке, увидев среди детей Алексея.
– Спокойно, бабушка. Кровь у вас взяли, чтобы сосуды спасти. Такое высокое давление не под силу нынешнему сердцу. А у вас, оно, видно, еще той старой закалки… Но разве можно так?.. Видите ли, – обращаясь уже к детям Евдокии Никитичны, с незлым возмущением продолжал молодой усатый врач, – для нее соседка «скорую помощь» вызвала, тут бы ей в постель лечь, а она давай стирать, пудовые кастрюли двигать!
– От работы мне урона не бывает. Если бы не бегала, не копошилась, давно б померла, небось, – с какой-то потухшей гордостью оправдывалась Евдокия Никитична.
– Самой-то чего ж бегать? Дети у вас большие, – сказал врач.
– Да, дети у меня, сами видите, какие. Вот Геннадий, что кудрявый, у окна стоит. На стройке мастером работает. А на стуле – дочка Татьяна, экономист, замужем, недавно внучком порадовала… В уголке там, с женской прической, – Евдокия Никитична слабо улыбнулась, – самый младшенький наш, Веня, студент. На художника учится…
– Вот и хорошо, – благодушно сказал врач и кивнул медсестре: – Потерпите, мамаша, еще один укольчик… И давайте помолчим.
– Я про Алешу… не сказывала, – услышав запрет, заторопилась Евдокия Никитична. Она вдруг почувствовала, что самое важное сейчас в доме – это не хлопоты возле ее болезни, а ее рассказ о детях, которые так дружно собрались к ней, все рядышком оказались. Такое редко случается при теперешней жизни. – О нем что сказать? Человек видный. Весь город наш перелицевать норовит. Ну, знамо дело – архитектор…
Врач еще долго ощупывал ее, укалывал иголкой в разных местах то руку, то ногу, проверяя, где Евдокия Никитична чувствует боль, а где нет. Потом пошел на кухню мыть руки.
За ним, один за другим, вышли дети.
– Пожалуй, это инсульт… с развивающимся левосторонним параличом. Прогноз тяжелый, – сухо, неохотно сказал усатый. – Потребуется терпеливое лечение, а главное – уход. Ваша мать, я убедился, неугомонная работница, но… теперь ей нужен покой. Хотя бы месяц-полтора. И нечего тут секретничать. Идемте, я сам скажу ей об этом.
Врача Евдокия Никитична слушала не дыша, невидяще смотрела в потолок, будто робея взглянуть на детей. Потом, всхлипывая, тихо запричитала:
– Любое наказание, господи, только не это… Лежать недвижным бревном, стать для всех обузой…
– Ничего, все потихоньку образуется. А пока не двигаться, не вставать. И не расстраиваться… Надо вызвать участкового врача, – дописав, врач протянул бумагу столпившимся детям.
– Так кто же, простите, живет здесь, с матерью? – спросил он, выжидающе оглядывая их.
– Венька, то есть сын… самый младший. Студент-художник, – ответила за всех Татьяна. – Ну и мы все… ходим сюда, конечно. Помогаем, приглядываем…
– Когда все приглядывают, значит никто конкретно, – сказал врач и, помолчав угрюмо, скомандовал медсестре: – Носилки!
Евдокия Никитична вздрогнула и как-то извинительно-виновато, с робкой надеждой посмотрела на детей. «Не хочу я в больницу», – говорили ее глаза.
– Ты не волнуйся, мам. Мы каждый день будем тебя навещать. – Татьяна, прослезившись, взяла мать за руку.
Когда Евдокию Никитичну, беззвучно плачущую, понесли во двор к машине, Дюгаев пошел следом за носилками, но тут его дернул за локоть младший брат Венька.
– Жалко, да? – кивнув кудлатой головой вслед носилкам, как-то ернически зашептал он. – А что ж месяцами к матери глаз не кажешь? Знаю, знаю: большой и занятый ты человек! Градостроительный размах, поиск новых принципов архитектуры! А в итоге – эклектика, серость штампа, тиражи скудоумия. Все эти бетонные коробочки, прости меня, братец, похожи друг на друга, как пельмени в тарелке…
– Ну ты… не к месту это, Веня. Позже давай повидаемся, поговорим. – Дюгаев неприятно ощутил на себе хмельной взгляд младшего брата.
– Ага, точно! Времени у нас всегда в обрез, – продолжал въедливо Венька. – Все заняты великими делами. До матери очередь не доходит. Ты не гляди на меня так, зодчий. Лучше себя осмотри. Ага. У вас нынче, что Курск, что Оренбург – разницы никакой. Пролети тыщу верст, выйди из самолета, – картина одна – будто никуда и не улетал: такой же аэровокзал, такая же гостиница, точно такие Черемушки.
– Да смолкни же ты… – Дюгаев слегка оттолкнул обвисшего у него на плече Веньку, от которого некстати, как-то кощунственно пахло вином.
Меж тем носилки втолкнули в машину, врач, оставив медсестру в салоне возле больной, пошел к кабине.
– Мамка, ну ты держись! Я тебе каждый день буду надоедать, – всунувшись в открытую заднюю дверцу «неотложки», горячо сказал Венька, захлопнул дверцу и, взглянув на угрюмых родственников злыми и какими-то беспомощными глазами, пошел прочь.
И этот его взгляд, и въедливый, задиристо-отчаянный тон голоса, и ерничество, только что казавшиеся Дюгаеву неуместными, оскорбительными, вдруг стали понятны ему и даже отчасти созвучны состоянию его души. Свою вину перед матерью хотелось найти прежде всего у другого.
С неприязнью он взглянул на Геннадия, на Татьяну. Те, понурив головы, стояли у ворот, не желая встречаться с кем-либо виноватыми глазами…
Взревел мотор «неотложки».
Дюгаев положил ладонь на машину и пошел рядом, будто выпроваживая ее. Когда задние колеса уже переехали дощатый порожек ворот, он вдруг застучал по кабине.
– Простите… если можно, я провожу мать до больницы, – сказал он выглянувшему из кабины усатому врачу. Тот сердито кивнул. Дюгаев мигом вскарабкался на кожаное сиденье и встретился с мокрыми, засветившимися тихой радостью глазами матери.
II
Живем и думаем, что и завтра и послезавтра – всегда, вечно все будет хорошо, благополучно, как вчера, как нынче утром. Что и завтра мы будем здоровы, любимы, что рядом всегда весело будут щебетать наши дети, что всегда – стоит лишь пожелать – можно съездить и повидаться с самым родным на свете человеком – мамой. Как прекрасны ее детски-искреннее волнение, трепет при этих встречах, какой счастливый переполох вносит наше появление в ее маленькую, затихающую жизнь! Однако сами-то мы, дети и внуки, волнуемся при этом меньше, хотя где-то в глубине сладко страдаем от умиления, от ощущения, что своим приездом уже сделали для мамы бесценный подарок и, как видно по ее лицу, донельзя осчастливили ее. Вот-де пожертвовали многим, вырвались из-под осыпи неотложных служебных и семейных дел, прибыли засвидетельствовать свое почтение, свою явь. А ведь живем-то – стыдно подумать – в одном городе, всего-то полчаса езды троллейбусом.
В машине Дюгаев пробовал заговорить с матерью, но медсестра запретила. Мать сочувственно-утешающе взглянула на него, словно не ее, парализованную, везли бог знает на какой срок в больницу, а его. Он не выдержал этого продолжительного взгляда, отвернулся к окну.
Мимо плыла новостройка: серые крупнопанельные пяти– и девятиэтажки. Похожие друг на друга, действительно, как пельмени в тарелке, они подчас угнетали Дюгаева впечатлением временности, будто дома эти строили на «пока». Как архитектор он сожалел, что такой метод градостроительства еще распространен, хотя давно обходится почти что без художественных усилий зодчих. Среди мелькавших за окном строений не было такого, которое можно было бы с гордостью показать матери: вот этот дом выстроен по моему проекту, вот куда уходят силы, время, и поэтому, прости, не могу почаще бывать у тебя…
У него, конечно, рождались толковые, как ему казалось, идеи и проекты. Они в целом одобрялись, но претворить их в жизнь не всегда удавалось, то ли по мотивам их несообразности с материально-художественными возможностями небольшого города, то ли потому, что пренебрегали вынужденной утилитарностью домостроительной текучки…
Машину тряхнуло, Евдокия Никитична застонала, но когда Дюгаев обернулся к ней, с улыбкой спросила:
– Любаша-то с Юрочкой здоровы?
– Здоровы, – ответил Дюгаев, с трудом вспоминая, когда в последний раз мать гостевала в его семье, виделась с внучком и снохой.
К стыду своему, он поймал себя на тяжкой мысли, на неловком ощущении, что все время, пока едут в больницу, он пытается, но не может остро прочувствовать беду матери, ошеломиться ею, принять ее как свою собственную, отвлекается, думает о чем-то постороннем. Отчего так?.. Да оттого, вдруг со страхом подумал он, что я плохо знаю эту лежащую передо мной старую и больную женщину, отвык, отдалился от нее… Считай, несмышленышем-подростком уехал из дому, двадцать лет кружил по свету, обучаясь наукам И обучая людей. И лишь недавно, года четыре назад, вернулся в родной городок.
До этого возвращения он изредка наведывался к матери. Но праздные, гостевые наезды, хмельные застолья не обновляли его давнишних, смутно-детских знаний и сыновних чувствований: образ матери жил в нем лишь старым застывшим символом некой святой абстракции добра, милосердия, нежности… Ему было неприятно, что, скорбя о матери, он в то же время воровски-вожделенно поглядывает на излишне оголившиеся круглые колени юной медсестры. И вместе с тем его забавляло, что, встречая его липкий взгляд, та не одергивала халата, а лишь отворачивалась к окну, давая ему не спеша любоваться собой, прелестными, она это знала, своими коленями.
Дюгаев вздрогнул от пронзительного воя, будто его со свистом понесло в какую-то зияющую пропасть. Он догадался: это взвыла сирена «неотложки». Машина выехала на оживленную улицу и помчалась вперед, издавая жуткий, кругами расходящийся, трагический крик, как бы парализуя им, останавливая вокруг себя движение людей и машин… ради собственного, не терпящего и секунды промедления.
Дюгаев ласково взглянул на мать: не бойся, мол, я с тобой, все будет хорошо. Она благодарно улыбнулась, словно говоря: как кстати, сынок, что ты рядом, как тяжело было бы мне сейчас одной.
А ему отчего-то вспомнилось, как однажды вот с таким же знобящим душу воем несчастья «неотложка» везла его с приступом аппендицита в больницу… Вечером, ослабленный операцией, он попросил подать ему утку. «Обождите, вас тут много, а я одна», – буркнула в ответ приземистая, толстоногая тетя. Чуть погодя, он попросил снова. «Что вы меня упрашиваете? – вспыхнула нянечка. – Сама все вижу…»
Он рассказал главврачу об этом разговоре с нянечкой.
Тот, печально улыбаясь, нетвердо пообещал ему пожурить грубиянку: «Ну, уволю. А завтра кто будет работать?..»
Да, с медицинской обслугой стало случаться что-то непонятное. Дюгаеву потом не раз снилась та палатная няня с обесцвеченными до кукольной безжизненности волосами. Сколько гонора в ней, спеси, неуправляемого какого-то, бьющего через край, уродливого чувства собственного достоинства, то и дело разряжающегося хамством!.. Он верил: такие няни – исключение среди добрых и ласковых. Но к какой угодит мать?.. Недвижная, прикованная к кровати старуха… Кому она нужна? Если родным детям уход за нею в тягость, то чужим людям – и подавно…
Медсестра, поглядывающая в окно, вдруг забарабанила кулачками в перегородку кабины. «Неотложка» выключила сирену и, плавно подрулив к тротуару, остановилась. Девушка выпрыгнула из машины и, бодро цокая каблучками по асфальту, пошла к столпившимся возле киоска людям. Прошло минут пять, долгих и томительных. Но вот белый халат отделился от толпы: медсестра шла назад, к «неотложке», широко улыбалась. В руках у нее веером торчали батончики шоколадного мороженого. Два батончика она сунула в кабину и, оберегая на полных красивых губах темно-сиреневую помаду, стала нежно-кокетливо откусывать от батончика, что-то негромко говорить усатому. Наконец, тот командирски кивнул ей, и она влезла в салон. «Неотложка» пристроилась к потоку машин, опять включила сирену, и снова ужасающий вопль человеческой беды, расходясь волнами, понесся над людной улицей.
Когда машина свернула за угол и, выключив сирену, побежала по усыпанному желтой листвой, тихому проулку, Дюгаев крикнул:
– Остановите!.. Я живу здесь.
Вылезая из машины, добавил:
– Прошу вас… вон к тому, второму подъезду. Там ближе будет внести мать. Я беру ее к себе.
– Но… мы по рации сообщили в приемный покой, – ладонью стирая мороженое с губ и усов, недоуменно заворчал врач.
– Это моя мать, и позвольте… Вы сами сказали, как важен ей уход… В общем, следуйте, пожалуйста, за мной, – твердо взглянув в растерянное лицо усатого, сказал Дюгаев и пошел вдоль газона поблекших цветов ко второму подъезду пятиэтажки.








