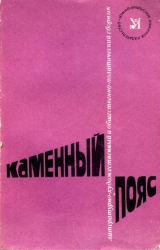
Текст книги "Каменный Пояс, 1982"
Автор книги: Сергей Баруздин
Соавторы: Лидия Преображенская,Мустай Карим,Владимир Курбатов,Николай Верзаков,Людмила Татьяничева,Сергей Поляков,Нина Кондратковская,Петр Краснов,Иван Малов,Геннадий Суздалев
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
ОДНА СУДЬБА
ИВАН НИЗОВОЙ
♦
РОССИЙСКОМУ ДРУГУ
Единая доля у нас и земля.
И во поле общем стоят обелиски.
Над ними березы грустят по-российски,
по-украински шумят тополя.
Идут наши думы дорогой одной.
И солнце большое в безоблачной сини
на Украину идет из России…
Умывшись в Днепре,
возвратится домой.
Перевод Г. Суздалева
ПОКЛОН КРАСНОДОНУ
Красное место,
поклон мой тебе.
Низкий поклон твоей доле высокой
и тополям, что над полем далеким
думают думу
о светлой судьбе.
Розам, цветущим
в шахтерских садках,
низкий поклон, твоей крепкой породе,
детям твоим, что любимы в народе
подвигу их,
что бессмертен в веках.
Перевод Г. Суздалева
♦♦♦
Не спится тракторам:
выходят под звезду…
И журавлям…
Одна у них потреба:
прокладывать под небом
и по небу
прямую
к горизонту борозду.
Два мира
пусть она соединит
под музыку
вселенской тишины:
один дарит
надеждами весны,
другой труды
плодами одарит.
Налево и направо —
борозда,
как крылья середины
золотой,
а середина —
сеятель простой.
В руке его зерно
или звезда.
Перевод Г. Суздалева
АНДРЕЙ МЕДВЕДЕНКО
♦♦♦
Ты опять приснился мне, Донбасс.
Просыпаюсь,
вскакиваю резко.
В темноту вонзаю угли глаз,
на окошке сдернув занавеску.
Воспаленно край карниза сжал.
Сердце так
еще не билось сроду.
То ли грузовик прогрохотал,
то ли в бункер ссыпали породу.
Грохочи, Донбасс, в моей судьбе.
Кровью связан я с тобой навечно.
Даже от тебя иду к тебе —
преданно,
влюбленно,
бесконечно!
В РАЗДЕВАЛКЕ
Лишь над поселком
зорька занялась —
лизнул окно
туман косматый робко.
Вошел шахтер
с морщинками у глаз,
стал надевать
спецовку неторопко.
Его окликнул
весело сосед
(он тоже встал
сегодня спозаранку):
– Остерегись!
Побитым будешь, дед.
Гляди – надел
рубаху наизнанку.
Дед сумку взял
слесарную свою
и так ответил,
открывая двери:
– Я сам еще
кого захошь побью,
а в ту примету,
извини, не верю.
Но я-то знаю
(я-то с ним знаком):
в укромном месте,
по дороге в клети,
он все ж переоденется тайком,
хоть не боится
ничего на свете!..
ВЛАДИМИР СПЕКТОР
♦♦♦
Не балует
Пейзажами Донбасс.
Бесснежная зима
Привычнее у нас.
Но этот снег
…В начале февраля…
Бела округа.
Кажется земля
Такой, как в песне,
Где просторы голубые,
Такой же светлой,
Как душа твоя,
Россия…
♦♦♦
День осенний,
дым осенний.
На костер восходит лето,
Продолжая представленье
С нескончаемым сюжетом.
Время кружит,
ветер веет,
Снова смена декораций.
Только небо голубеет
Да беспечно зеленеют
Листья легкие акаций.
ТАТЬЯНА ЛИТВИНОВА
♦♦♦
Копили воду небеса —
И вот пробито дно копилки…
Уже, наверно, с полчаса
Дождь тараторит без запинки.
Уже, наверно, с полчаса
Висят натянутые нити,
И освежаются леса,
И тучи властвуют в зените.
И поезд – как из-за кулис —
Выходит к станции Диброва,
Где каждый тополиный лист
Слепым дождем отлакирован.
♦♦♦
С лугов пригнали стадо пастухи,
По листьям ветер пробежал с трещоткой,
Уселись на насесте петухи,
И солнце в горизонт уткнуло щеки.
Задело отсыревшее весло,
Что возле хаты старенькой висело,
В последний раз взглянуло на село
И где-то за подсолнечниками село…
АНАТОЛИИ АНДРЕЕВ
♦♦♦
Могильный холм, как террикон седой.
Сюда приходят вдовы вечерами.
И каждый раз у них над головой
Закат склоняет розовое знамя.
И в памяти опять встают бои —
Окопы, дот, простреленные каски…
И не поют, а плачут соловьи
Над братскими могилами Донбасса.
ОЛЕНА БОНДАРЕНКО
♦
РЕЧИТАТИВ ПОБЕДЫ
Уж матушка хату белит,
Уж батюшка ворота чинит,
Уж сестрица двор метет…
А я себе —
на качелях!
А птица себе —
на груше!
А ветер себе – на дороге!
А дед – на кладбище,
А дядья – на войне,
А тетки – в горе…
Полно!
Пахнет весною поле,
Матушке – хату белить,
А планете – учиться любить…
И мы
Никак не напьемся этого —
Мир!
Перевод Т. Дейнегиной
♦♦♦
Прозрачные дожди несли
На землю праздничные зори,
И трав зеленые узоры,
И птицы – из дождей росли.
В дыму зеленом был жасмин,
В тугой земле звенели соки,
Был каждый день таким высоким,
И каждый миг был – целый мир.
Перевод В. Гридасовой
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЦОВ
♦
ПРЕДВЕСЕНЬЕ
Густой туман ложится ватой
на сквер, дорогу и дома…
В одежде мокрой, дыроватой
уходит в прошлое зима.
Опять скворцы веселым пеньем
зовут весну и к нам, в Донбасс.
Опять такое ощущенье,
что мне все это – в первый раз:
и этот снег поникший, серый,
и пенье этих милых птах,
и поцелуй твой на устах,
и на окне подснежник первый.
ПЕРВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ЮРИИ ЗЫКОВ, ВЛАДИМИР КУРБАТОВ
Баллада о моей гитаре
Повесть
Юрий. Зыков и Владимир Курбатов – воспитанники златоустовского литературного объединения «Мартен».
Повесть Ю. Зыкова и В. Курбатова «Баллада о моей гитаре» – первое их прозаическое и совместное произведение. Она была названа в числе лучших на областном конкурсе «Наш современник», объявленном в честь 60-летия ВЛКСМ Челябинским обкомом ВЛКСМ, областными отделениями Союза писателей и Союза журналистов, Южно-Уральским книжным издательством.
Ю. Зыков родился в 1947 году, В. Курбатов – в 1949-м. Оба – журналисты. Стихи Ю. Зыкова и В. Курбатова печатались в журналах «Урал», «Уральский следопыт», альманахе «Каменный Пояс», коллективных сборниках.
Памяти челябинца
Геннадия Васильева – альпиниста, барда,
хорошего парня
«Окружность груди – 77 см, окружность талии – 68 см, окружность бедер – 94 см». Эти шутливые пометки я делал, когда шил очередной чехол для гитары.
Жена, обнаружив записку, закатила истерику, но и потом, когда все выяснилось (пришлось при ней измерить гитару, и совпадение цифр ее убедило), мне кажется, она ревновала меня к моей музыкальной подружке. Может быть, я чрезмерно забочусь об инструменте и мало внимания уделяю своей половине? Но по-другому не получается – сколько помню себя, гитара всегда была рядом. Однако…
Скоро Таня облегченно вздохнет: похоже, эти аккорды, которые я наигрываю сейчас, последние. Корпус отремонтировать невозможно, и вообще некогда гордая и и ослепительная красавица подряхлела. Вместо белых пластмассовых кружочков на колках, как вставные зубы, торчат металлические прямоугольные призмочки– время не пощадило пластмассу. А я помню, как старательно опиливал надфилем кусочки металла, как с точностью и осторожностью дантиста примерял их к торчащим штырям с резьбой, как намертво привинчивал их, добавив для верности суперклея. Колки и сейчас смогут выдержать любое натяжение струн, а вот кузов…
Я безнадежно смотрю на рассохшуюся фанеру. Куплю ли себе другую гитару? Наверное, найду более звучную, более красивую и сочиню новые песни. Но будут ли под новую гитару звучать мои старые песни?
Песня первая.
УЛИЦА ПРОБУЖДЕНИЯ
Она к мечте выходит от окраины,
Она пряма, ей не к лицу унылость.
Как счастлив тот, кому она подарена,
А мне здесь жить, увы, не приходилось.
Любя зарю, предпочитал закаты я.
Мне не везло, я просыпался поздно.
Ах, улица, не ты ли виновата,
Что на душе не солнечно, а звездно.
Трудно сказать, досадно ли было мне, что я жил на улице Спецдревесины. Все другие в поселке носили звучные имена – Степная, Солнечная, Красная… А та, что выходила окнами на речку и соприкасалась с нашей огородами, называлась улицей Пробуждения. По ней мы шли с удочками на утреннюю зорьку, и, наверное, можно было бы сказать, что и я жил на улице с таким красивым названием, но на конвертах писем, которые мы получали нечасто, стояло – «Улица Спецдревесины». Как ни пытался я разгадать тайну странного и нелепого названия, так ни до чего и не додумался: не считая росших в палисадниках акаций и тополей, деревьев в нашем краю не было. А что вообще может представлять собой спецдревесина, я, по малости лет, не соображал. Жил на нашей улице Ванька Будаев – спец по кизякам. Мама, когда называла его так, вкладывала в слово «спец» одобрение. Но что такое спецдревесина? Хорошее дерево?
Однажды бабушка рассказала: это председатель сельсовета Огурцов самолично придумывал названия каждой новой улице в поселке. Какой смысл в них вносил, никто не узнавал. А мне дядя Митя ответил так:
– Спецдревесина – спецдревесина, а улица Пробуждения – самая восточная в поселке, она первой солнышко встречает. Это чтобы всем нам поменьше спать, пораньше вставать, побольше работать.
Чудной человек дядя Митя Огурцов. Кем он был мне? Никем. Однако вел себя со мной так, будто родственник. Давным-давно, когда я только появился на свет, он подарил мне гитару. Легко представить, как это было: не ко мне он, конечно, явился, а к моей маме. Постоял смущенно подле моей кроватки, ушел, ничего не сказав, но скоро вернулся с подарком:
– Держи, Шура! Вырастет твой сынище – певцом будет, вспомнит обо мне. Я-то игрок неважнецкий, – показал он левую руку, на которой не хватало пальцев. – Война помешала. Ну, а твоему пацану сгодится. Вон голосище-то какой…
Почти пять лет гитара пролежала без движения, пока, наконец, я, роясь в чулане, не обнаружил желтый, покрытый пылью, не известный покуда мне предмет. Я выволок его на крыльцо и стал колотить по струнам.
– Эге, малец! Да ты уже музыкант, – засмеялся подошедший дядя Митя.
– Здалассте, – прошепелявил я.
– Нут-ко, дай я тебя поучу. Классическая вещь. Произведение знаменитого композитора Бетховена! – дядя Митя смешно изогнулся. – Учись, пока я жив! – он зажал единственным пальцем левой руки самую тоненькую струну, дернул ее правой и тут же шлепком ладони по корпусу заглушил жалобный звук – Уловил, малец? «Смерть клопа» называется.
– Как смельть клопа?
– А вот так! – дядя Митя еще раз хлопнул по лаковой поверхности. – Р-р-аз – и нету клопа.
Когда он ушел, я также схватил струну. Она больно обожгла палец, оставив кровоточащую полоску. И гитара была возвращена в чулан. Бабушка заметила:
– И правильно. Рано тебе еще баловаться этой штуковиной. Эвона, больше тебя. Давай лучше попей молочка да пойдем.
Собирать коровьи лепешки, щепочки, палочки – самое скучное в мире занятие, но с бабушкой спорить бесполезно, к тому же я понимал, что без меня ей одиноко. И вот мы шли по пыльной дороге, подсвеченной с обеих сторон искрами «огоньков» – так у нас назывались ярко-оранжевые цветы. Их маленькие купола тихо покачивались на ветру, сливались в единое пламя, и оно тянулось до самого горизонта, над четкой линией которого виднелась коробочка молочной фермы, куда мы, не торопясь, двигались.
– Санька, не зевай! – бабушка указывала на очередную лепешку. – Што зенки пялишь?
Я поддевал высохший блин деревянной лопаткой и бросал его в мешочек, привязанный к поясу. Рядом кланялась бабка, она охала и кряхтела, потому что недавно простудилась и маялась поясницей.
Коровьи прелести мы собирали по необходимости: не было дров. До тайги двести километров, а техники в колхозе мало. Правда, дядя Митя говорил, что на следующий год дадут пару тракторов и машины, тогда про кизяки можно забыть. А эти лепешки мы складывали в стайке, пока не наступала предсенокосная пора – заготовки топлива.
Я представил, как лошади послушно топчут зеленовато-коричневый круг, посредине его стоит Ванька Будаев в закатанных по колено штанах и покрикивает:
– Шалишь, милай!
Кони вскидывают грязные копыта, скалят зубы, тревожно прядут ушами и вновь продолжают однообразную работу.
– Доле-ее-ей! – командует Ванька.
Бабушка с матерью хватают ведра, зачерпывают из большой железной бочки речную воду и торопливо выливают ее в густеющую постепенно массу.
– Еще-е-е!
Ваньку слушались, и он себе цену знал. Я его тоже уважал и с нетерпением ждал, когда он покончит с делами и сядет обедать. Выпив рюмку и закусив, он пел протяжные песни. «Умер жульман, умер жульман за каменной стеною-ю-ю…»
– Вань, а кто такой жульман?
– Жульман-то? Это человек такой.
– Его, что ли, звать так?
– Э-э, нет! Жульман – это разбойник. Ты, Саньте, лучше не мешай, сядь и запоминай. Мы потом с тобой в клубе споем.
– Споем. Только я не хочу про разбойника…
– А ты слушай сюда…
Ванька пьянел, глаза его зажигались бесовским огнем. Наступал черед частушек…
– Опять зеваешь! – возвращала меня к действительности бабушка. – Уж я тебе задам как-нибудь! Матери нажалуюсь.
С фермы мы возвращались в сумерках. Огоньков в степи не было видно, зато в небе все больше зажигалось звезд. Но смотреть на них нелегко. Я беспомощно тер веки, то и дело спотыкался, но каждый раз меня выручала сухая бабушкина рука. «Спать хочешь? Ну, потерпи малость, еще чуток – и придем».
Кажется, я засыпал по дороге, потому что осознавал себя уже утром, когда в выбеленной комнате становилось ослепительно светло от солнца. Но иногда сквозь дрему пробивались мамины слова:
– Устал, сынок?
Мама целовала меня в щеку, а бабушка говорила ей:
– Ты б на себя взглянула, Шура, али сама не умаялась? Ложилась бы тоже…
– Ну что ты, – отвечала мама, – мне еще постирать надо, вон ведь как рубашку вывозил, сорванец.
В полусне, или мне казалось это, я пытался поразмыслить над непонятным разговором мамы с бабушкой.
– Почему мы все такие несчастливые? Дед мой погиб, муж твой жив, а толку с него, как с козла молока, – вздыхала бабушка.
– Не могут, мама, быть все одинаково счастливыми, ведь разные все. Вот если бы мы одинаковые были, всех и любили бы одинаково. И счастья бы всем поровну досталось. А то, что жив муж, – это хорошо, я бы не хотела, чтобы он погиб на войне.
Я понимал, что речь шла о моем папке, которого почти не помнил. В остальном разобраться было трудно. Что значит несчастливые? Вот завтра побегу с утра на речку, и это будет здорово! У меня есть бабушка, мама, дядя Митя часто приходит. Он почему-то пробуждал во мне предчувствие перемен. Но именно из-за дяди Мити мне не довелось испытать их здесь, не довелось увидеть ни новых машин, ни нового моста через нашу речку, потому что мы уехали на Урал.
Мама долго не соглашалась.
Дядя Митя курил папиросу за папиросой и убеждал:
– Пойми, Шура, ни тебе, ни Саньке здесь лучше не будет. Да ведь люблю я тебя. Ну, как еще уговаривать?
Вдруг он наклонился ко мне и спросил:
– Хочешь, Санька, на Урале жить?
Я сказал, что хочу, и тут заплакала бабушка…
День перед отъездом я провел на улице Пробуждения, на берегу. Вдали, как неуклюжий паучок, скользил по паутинке каната паром – последнее лето соединял он берега поселка. Скоро его заменит мост, но я уже был равнодушен к этому. Тем более мне нравилось важно объяснять ребятам:
– Урал большой. Там горы и много дров – целые леса. А еще там преогромные заводы – больше всей нашей деревни.
– А дядя Митя будет твоим папой?
– Ага.
– А дядя Гриша? Он, что ли, здесь останется?
– Останется, – по-взрослому отвечал я. – Он хороший, только водку пьет. Вообще-то папка добрый… Ну, ладно, робя, мне пора.
Гурьбой добежали до дома, возле которого уже стояла машина. На подножке кабины сидел дядя Митя, он барабанил по корпусу гитары натруженными пальцами здоровой руки.
– Где тебя носит? – встретила меня мать. – Иди, попрощайся с бабушкой.
Я ткнулся в бабкин подол. Бабушка гладила мою голову и слушала маму.
– Устроимся, заберем к себе. Кизяков пока хватит – вон сколько понаделали. Картошка цветет неплохо.
Хриплый сигнал прервал мамины слова. Все заторопились. Дядя Митя помог маме забраться в кабину, меня же подбросил в кузов, куда лихо влез и сам. Все, кто свободен был в этот час, вышли нас проводить. Старая полуторка тронулась, тарахтя и поскрипывая. Я долго-долго смотрел на удаляющиеся дома. Поворот – и последние крыши улицы Пробуждения скрылись из вида. В плечо больно уперся гриф гитары, которую и в машине не выпускал из рук дядя Митя. От тряски тоскливо поскрипывала панцирная сетка кровати, приставленная к переднему борту, а мне казалось, что это звенят неумело гитарные струны.
Песня вторая
ВЫБОР
Значит, есть, что сказать,
Если мы собираемся часто.
Наши струны звенят,
Как бокалы звенят на пирах.
И родные глаза,
Фокусируя капельки счастья,
Все сумеют понять,
Даже если ты вовсе неправ.
Эта наша игра
На другие совсем не похожа,
Как живая вода,
Нас в зеленый оазис маня,
Пусть же пламя костра
Бесконечным свеченьем тревожит,
Пусть летят поезда
На бессмертное вече огня!
– Бекетов, о чем задумался?
– Решил уже…
Математичка недоверчиво заглянула в мою тетрадь:
– Надо же! Молодец! Можешь быть свободным. Не забудь только, что завтра классный час…
Проходя мимо парты Туманова, я успел заметить, что и он заканчивает контрольную – рядом с цифрами на промокашке победно развевался флаг над палаткой. Я усмехнулся про себя: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Мне непонятен был Генкин фанатизм. Навьючится, как верблюд, и топает по горам до потери пульса. В холод, в дождь… В нормальную погоду мне и самому нравилось побродить в лесу, грязь же месить – увольте. Но Генка… Дошло до того, что родители стали запрещать ему подобные развлечения.
Ха! Запреты! Если бы Ева и Адам не отведали запретных яблок, то они бы не стали прародителями человечества. Не переходили бы люди через барьеры дозволенного, – не было бы и великих открытий. Убеленные сединой старики практически во все времена накладывали табу на вино, табак, поздние возвращения домой. Но до сих пор на земле не бросили пить, курить, искать приключений по ночам. Выходит, он самый древний – Закон Запретного Плода. И мы все связаны им, как прочной веревочкой, – одни должны устанавливать запреты, другие – нарушать.
Туманов догнал меня возле пожарной каланчи, от которой начинался старый город. Потемневшие от времени деревянные домишки смело поднимались по касательной к небу, но вскоре самая длинная из улиц обрывалась, упершись в скалистую преграду. Стена метров в тридцать высотой имела отрицательный угол, и подниматься по ней мы боялись. Кроме Генки. Вот и сейчас он остановился и спросил:
– Может, попробуешь?
– На фиг… Я уж лучше обойду.
– Как хочешь… А зря. Рискни. Мало ли что в жизни случится? Вдруг и на вершины придется взбираться?
– Вот когда придется, тогда и научусь, – отрезал я и зашагал в обход, нисколько не переживая за Тумана: он знал каждую трещину в этих скалах.
Мне пришлось торопиться, чтобы прийти раньше товарища, и я, не обращая внимания на участившееся дыхание, почти бегом преодолевал крутой подъем.
Вот, наконец, сквозь плотные заросли кустов проглянуло нагромождение каменных глыб – гребень той стены, по которой с не видимой отсюда стороны взбирался Генка. Резко запетляла едва заметная тропинка, ведя меня сначала к расщелине, а затем к небольшому гранитному уступу. За ним скрывался потрескавшийся фанерный щит с поблекшей от дождя пиратской эмблемой. Миновав его, я оказался в ложбине, которая и вывела меня прямо к Оазису – так мы называли площадку, окантованную каменными россыпями, колючими кустами и молодым ельником.
Как я ни спешил, Генка опередил меня. И теперь он стряхивал со своей куртки налипшие на нее камешки и тихо ругался:
– Черт возьми, до чего же сегодня скользко! Хорошо, что ты не полез.
Я поглядел на небо – сквозь осенние тучи изредка просвечивало солнышко. Да, скоро нам придется менять место наших встреч. А жаль… Здесь мы были хозяевами: никто не мешал. Можно было спокойно курить, во весь голос петь. Здесь же отрабатывали приемы самбо – по книжке без корок. Единственным свидетелем наших занятий был деревянный пятиметровый идол, почти прижавшийся к одной из скал. Мы его прозвали Ванькой Метелкиным. Удивительную скульптуру сотворил из останков старой лиственницы неизвестный художник. У Ваньки была длинная борода, она переплеталась с метлой– торчащими из земли корнями. Цепляясь за хитросплетения метлы-бороды, можно было добраться до края чаши, откуда был виден весь город! Под корнями у нас хранились и папиросы. Вспомнив об этом, я чуть не задохнулся от предвкушения затяжки и было двинулся к идолу, но Туманов схватил меня за локоть и удивленно произнес:
– Саня, смотри…
Вот это фокус! Чуть правее Ваньки Метелкина между зубцами каменных глыб показалась фигурка. Но это был не Воробьев, который иногда под настроение мог повторить Генкин маршрут. Фигурка выпрямилась, помахала нам рукой.
– Девчонка! – удивленно и восхищенно выдохнул Туманов.
Тем временем девушка огляделась и уверенно направилась к Ваньке Метелкину. Нагнувшись, она оперлась руками на лысую Ванькину голову и ловко начала по нему спускаться. Мы с Генкой разинули рты, дивясь такой прыти. А между тем девчонка уже подошла к нам:
– Салют, мальчики! А вы здесь неплохо устроились… Меня зовут Света.
Появись летающая тарелка или снежный человек, они не смогли бы ошеломить сильнее. К тому же девушка была красивой – пожалуй, даст фору любой из нашего класса.
Туманов опомнился первым, пожал протянутую руку:
– Генка… А вы что, скалолазка?
– Второй разряд… У нас в Красноярске этим не удивишь. Столбы знаменитые слыхали? Я там часто пропадаю. А здесь тоже здорово. Только я еще никого не знаю. Отца перевели сюда работать, ну а я за ним увязалась. Пока устраиваемся, а учиться я буду в педагогическом училище…
Света болтала с нами, как со старыми знакомыми, обращаясь, в основном, к Туманову, который ей односложно отвечал. А я словно язык проглотил. Вообще-то перед девчонками я не пасовал. Случалось даже пару раз целоваться – Закон Запретного Плода напоминал о себе. Но такого, как сейчас, я никогда еще не испытывал.
– А что это у тебя друг такой бука? – Света кокетливо посмотрела на меня, и я окончательно потерял дар речи.
– Кто? Санька-то? Какой же он бука? – Генке даже смешно стало. – Да он в нашей компании самый заводной. Ты бы послушала, как он на гитаре играет. Песни сочинять пробует.
– Ой, как интересно! – Света даже в ладоши захлопала, потом по-королевски протянула вперед руку. – А не смогли бы вы, дорогой маэстро, посвятить концерт для гитары с оркестром и мне. Я вас щедро вознагражу… Ну, не концерт, а хотя бы маленькую, вот такусенькую песенку. Мне еще никто песен не посвящал – только стихи.
Я попытался принять игру и сказать: «Прекрасная принцесса, мне не надо никакой награды, кроме тех знаков внимания, которыми вы, хоть изредка, будете одаривать», – но в горле пересохло, и я, помимо своей воли, буркнул:
– Попробую…
Наверное, я выглядел жалко. Но тут, к счастью, раздался свист Сарыча. Значит, Сарыч с Воробышком скоро появятся здесь. Я, обрадованный тем, что смогу выйти из нелепого положения, свистнул в ответ. Друзья ворвались, издавая индейский клич, но, увидев, что мы здесь не одни, умолкли и замедлили бег. Сарыч подозрительно покосился на нас с Генкой, оглядел Светлану и, обращаясь к Воробьеву, тенью следовавшему за ним, спросил:
– А эта здесь откуда и зачем?
Света обиженно поджала губы и нравоучительно заметила:
– Воспитанные люди, когда приходят в дом, здороваются…
Этим Света все испортила. Мы с Генкой не успели объяснить, что к чему, и Сарыч с Воробышком, которые терпеть не могли, когда их учили, завелись.
– Привет, буфет… – кривляясь, выскочил из-за спины Сарыча Васька Воробышек.
Сарыч остановил его:
– А мы вот такие невоспитанные. К тому же это наш, а не твой дом. И тебе в нем делать нечего. Правда, Саня?
Я отвел глаза и промолчал.
– Подумаешь, – фыркнула Света, презрительно сморщилась и направилась к выходу из Оазиса.
Я сорвался с места и настиг ее уже возле пиратской эмблемы. Сбивчиво оправдывался, просил прощения за ребят. Я был в ее воле, и мне это нравилось. Приглянулось, видимо, и ей чувствовать собственную неотразимость. Она ответила согласием на предложение – встретиться завтра в шесть часов у водной станции. Она побежала к трамваю, а я, плохо что-либо соображая, отправился домой.
«Когда сердце стучит о любви, когда голос поет о тебе…» Я зачеркнул написанное. Может быть, лучше так? «Вновь гитара моя запела, наши чувства воспринимая…» Оставив лист бумаги, я снял со стены семиструнку и попытался пропеть второй вариант. Впрочем, почему «наши чувства». «Мои» – еще ясно, а вот ее?..
Песен я еще не сочинял, хотя на гитаре вроде играл неплохо. И дернуло же Генку выдать желаемое за действительное. И я тоже хорош! Пообещал… С чего начать? Со стихов, или с мелодии? Не получалось ни то, ни другое. Что-то неясное бродило в душе, но как облечь это в слова и музыку? Я опять хватал гитару, брал простенький аккорд, снова откладывал ее.
В комнате стемнело, но не хотелось включать свет. Пришли с работы мать и дядя Митя, заглянули ко мне, удивились, что сижу в темноте, потом удалились на кухню. Их присутствие раздражало, не давало сосредоточиться. Я поневоле прислушивался к их разговору.
– Для мастера что главное? – басил дядя Митя. – Главное, чтоб начальство с него стружку не снимало. Вот. А чтобы с меня не сдирали лишние слои, я должен вертеться быстрее детали.
Вскоре после переезда на Урал у дяди Мити появился животик, но порывистость в его движениях не исчезла. Он был такой же подвижный, такой же говорливый.
Мать что-то сказала отчиму. Что, я не расслышал, так как тот грохотал на всю квартиру:
– Оставь его. Может, он влюбился! Пятнадцать лет как-никак, растет парень! Ну, а сегодня, наверное, поссорился…
Я возразил ему мысленно: нет, не поссорился, просто мне надо написать песню, как это делается, не знаю.
Опять было взялся за гитару, но заглянула мать, включила свет:
– К тебе ребята…
По-хозяйски протопали Сарыч и Воробьев, потом неловко протиснулся Туманов. Видно, он не хотел мешать мне, но чего не сделаешь ради компании?
– Вот ты где, – заговорил Сарыч. – Чего сбежал из Оазиса? Решили узнать, не обиделся ли.
– Конечно, нет! – смутился я.
– Не красней… А я думал, из-за этой фифочки ты теперь с нами знаться не будешь. «Воспитанные люди, когда приходят в дом, здороваются»… Подумаешь, краса-а-вица…
– Что ты, Сарыч, она неплохая девчонка, – я обернулся за помощью к Туману.
– «Когда сердце стучит о любви, когда голос поет о тебе», – Воробышек декламировал стихи, которые я не успел убрать со стола. – Это ты для той пишешь? Тю-тю-тю… Влюбился, что ли?
– Не влюбился, – смущенно залепетал я. – Просто песню про любовь пообещал ей написать.
– Вот это молодец! Вот это друг! – заехидничал Сарыч. – Мы с тобой сколько пудов соли съели? Забыл, что ли, как из воды тебя вытаскивали? Как волокли, когда ты ногу растянул? Хоть бы спасибо сказал. А тут увидел бабью юбку и сразу – стишки, песенки. Впрочем, ты можешь искупить вину. К субботе чтоб было и про нас. Общая наша песня. Понял?
Они не попрощались, только Туман подмигнул мне: мол, работай, не падай духом.
Было десять минут шестого… Мой строгий костюм бросался в глаза прохожим, и казалось, что все смотрят на меня. Начинал сыпать дождь, по пруду бежала рябь. Рыбаки погоды не замечали, и я позавидовал им: вот ведь сидят себе – и никаких проблем. Трамваи двигались один за другим, а Светлана все не показывалась, и я уже горько подумал, что свидание не состоится. Но чудо все же свершилось. Света, будто понимая мое состояние, ласково поздоровалась, взяла меня под руку, звонко засмеялась, и мне стало легко; почувствовал себя умным, уверенным в себе. Меня словно прорвало после того молчания в Оазисе. Я говорил о классе, расхваливал город, не забыл представить и всех ребят из нашей компании. Света внимательно слушала, поеживаясь от внезапно опустившейся измороси, потом вдруг спросила:
– Зачем ты с ними дружишь?
Я пожал плечами, мол, друзей не выбирают. И только потом понял, что вел себя предательски по отношению к ним. И опять-таки, размышляя впоследствии о моем знакомстве со Светой, стремился понять, была ли любовь. Я ждал свиданий, радовался прикосновению ее руки к своей, наслаждался ее голосом, но где-то подспудно выплывала мыслишка: она же играет со мной. Для чего только? Утвердиться в собственной власти? Доказать свою исключительность? Ведь именно она при нашей второй встрече настояла, чтобы песню для нее я спел в Оазисе, в присутствии ребят.
Это были мои худшие дни. Кое-как отвечал уроки, едва не схватил двойку по литературе: учительница просто пожалела меня и ничего не поставила. Но почему-то после такой встряски родилась первая строчка песни для ребят: «Значит, есть, что сказать, если мы собираемся часто». Вечером песня была закончена: все встало на места – и слова, и мелодия. Наверное, снизошло на меня вдохновение, потому что получалась и песня о любви.
Заглянул Туманов.
– Слушай, может, тебе помочь? Я тут кое-что сочинил.
Генка пел про горы, а я думал: «Все ясно, лучше гор могут быть только горы…»
– Прости, Туман, – сказал я, – но моя тоже готова. Мне кажется, она больше подойдет.
– Спой…
– Нет, потом. Всем вместе!
Я скрыл от него, что есть уже песня и для Светы. А может, зря? Что-нибудь общими усилиями придумали бы.
Как мне хотелось изменить место свидания со Светланой! Пусть льет дождь, пусть сыплет град! О том, что будет, когда ребята и Света встретятся в Оазисе, думать не хотелось.
Метелкин скучал. Я привычно приветствовал его:
– Жив, курилка!
Тогда обычно следовало: «Тогда закурим!» Но сейчас курить не хотелось. Я подобрал подходящий камушек, удобный для сиденья, устроился. Тронул струны, и они послушно отозвались аккордами. Я еще не знал, что случится дальше, но гитара, наверное, знала. Когда сквозь кусты протиснулась Света, а за ней ребята, я растерялся.
Посмотрел на Тумана– он потупил взгляд. Эх, Генка! Знал бы ты, что я чувствую себя голодным ослом между равными охапками сена. Я прижался спиной к Метелкину, подождал, когда усядутся ребята, и ударил по струнам: играй, гитара, выбирай сама мелодию, выбирай!
Светлана сидела, обхватив колени и впившись взглядом в мои дрожащие руки. Косой солнечный луч освещал ее бледное лицо, четко очерчивал колючие ресницы. Она слегка щурилась, и это придавало глазам какой-то неземной оттенок.
Сарыч, как настороженный зверек, смотрел то на нее, то на меня. Маленький Воробьев улегся на траву, уже пожелтевшую, – конец сентября ведь. Туманов отстраненно ковырял ледорубом в валуне. Я знал: Генка единственный, кто не осудит меня, какую бы песню я ни спел.
Вблизи защебетали пичужки, а я все не решался начать, медленно перебирал струны. Долго так продолжаться не могло. Но какую бы песню выбрать? Жестко укололи глаза Светы, и я призывал, отчаявшись: не молчи, гитара!
Сначала показалось, что пространство Оазиса заполнила мелодия любви, но едва настало время запеть, как я понял, что где-то напутал, а исправить уже невозможно. С языка сорвались слова: «Значит, есть, что сказать, если мы собираемся часто!» Потом зло, отчаянно продолжил: «Наши струны звенят, как бокалы звенят на пирах!!!»
– Ур-р-аа! – завопил Сарыч. – Наша взяла!
Его нисколько не интересовала песня, важно, что победила компания и раскольник вернулся в лоно ее. Света поднялась и медленно побрела из Оазиса, такая беззащитная, что я не выдержал и ринулся за ней, но резкая рука Сарыча остановила:
– Будь мужчиной!
С этого дня медленно, но неотвратимо стала остывать дружба с ребятами.








