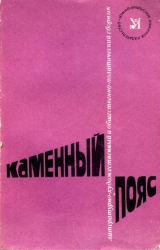
Текст книги "Каменный Пояс, 1982"
Автор книги: Сергей Баруздин
Соавторы: Лидия Преображенская,Мустай Карим,Владимир Курбатов,Николай Верзаков,Людмила Татьяничева,Сергей Поляков,Нина Кондратковская,Петр Краснов,Иван Малов,Геннадий Суздалев
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
ВАЛЕРИИ КУЗНЕЦОВ
♦♦♦
Ветром повеяло с поля —
Как посвежело в окне!
Все и событье,
не боле,
Что же так радостно мне?
Это с уральских откосов —
Светлых заимок души —
Снова пора сенокоса
Вторглась во все этажи!
Пыл чабрецовой прохлады
К ночи сильней и пьяней…
Много ли памяти надо,
Если далекое с ней!
Если негаданной ночью
Ожило все, что люблю, —
Родины запах молочный,
Все исцеляющий
пью.
ЦЕНА ХЛЕБУ
От века – крепость и оплот,
Надежда в прошлом и грядущем —
О чем раденья каждый год?
О хлебе,
все о нем, насущном…
Ты помнишь,
как он волновал
В очередях послевоенных,
Тот хлебный дух на весь квартал
С утра
у магазинов хлебных!
Как ты буханку прижимал
К груди —
был ветер детства резок —
И, как всегда, казался мал
И сладок
теплый тот довесок!..
Все, все осталось вдалеке
Уральского степного тыла, —
Горбушка в худенькой руке
Тепло навечно сохранила.
Пусть нашим детям не понять
Дней,
штемпелеванных войною,
Но цену хлебу
им узнать
Не доведись такой ценою.
АЛЕКСАНДР БУРЦЕВ
♦♦♦
Пришел с войны,
Не лег – упал,
Не гордый – виноватый.
Он этот огород копал,
Он строил эту хату,
Он заломал тебя,
Война,
Он – руки золотые…
И смотрит с ужасом
Жена
На рукава пустые.
РОДНОМУ ГОРОДУ
И облака над городом моим,
И в нем живущий добрый мой приятель —
Отечества благословенный дым,
Который нам и сладок и приятен.
Я уезжал и возвращался вновь,
И возвращенья были как рожденья.
Мой город – моя первая любовь,
Волнующее душу притяженье.
Все лучшее я городу отдам,
Страницы жизни зря не пролистаю.
Ведь, прирастая сердцем к городам
Любимым, мы к Отчизне прирастаем.
ШИНЕЛЬ
Пропахла не гарью, а пылью
Нелегких, но мирных дорог,
И полы ее, словно крылья,
Парят у шагающих ног.
Я в этой шинели крылатой
Идти на край света готов,
Покроя – «а ля сорок пятый»,
Фасона – победных годов.
Шинель, словно мать и подруга,
И мертвых в бессмертье вела,
Была нам когда-то кольчугой,
Постелью предсмертной была.
Дороги, леса, перевалы,
Холодные песни ветров,
Шинель нам сердца согревала
У дымных привальных костров.
Дороже парадных мундиров,
Шинель моя в серой пыли,
Мы в этой шинели до мира
Полмира когда-то прошли.
ГЕННАДИИ ХОМУТОВ
♦
ОЖИДАНИЕ СЕСТРЫ
Уже стемнело, не метет
Поземка, не дымится.
Сейчас сестра моя придет,
С работы возвратится.
Сестра в избе огонь зажжет,
И разбегутся сумерки.
Сестра достанет:
– На-ко, вот! —
Морозный хлеб из сумки.
Потом расскажет чудеса,
Придвинувшись поближе,
Как по сугробам шла лиса
В своей шубенке рыжей.
Она в заснеженном краю
Шла и хвостом виляла.
И, повстречав сестру мою,
Она ей так сказала:
– Идешь домой ты в аккурат,
Послушай-ка, сестрица,
Там у тебя хороший брат,
Возьми ему гостинца…
На черный хлеб я погляжу,
Его рукой поглажу.
Потом в сторонку отложу
И отодвинусь даже.
Какой же он лисичкин хлеб,
Когда он наш, вчерашний.
Он в нашей печке рос и креп
Под корочкой хрустящей.
И, рассказав мне все – хитра! —
У печки руки греет…
Всем хороша моя сестра,
Да врать вот не умеет.
ВЛАДИСЛАВ ТРЕФИЛОВ
♦♦♦
Еще комбайны на приколе
и не раскована река,
и за проселком в чистом поле
лежат глубокие снега.
Еще по утренней дороге
идут в пальто ученики.
Еще девчонкам на уроке
важней задачи, чем стихи.
Еще пороша ночью кружит,
порой завьюжит, но уже
сияет солнце в первой луже
и отражается в душе.
ИВАН МАЛОВ
♦
ВЫПУСКНОЙ КЛАСС
И вот – разъехались юнцами.
Мелькнула школа вдалеке.
Остались матери с отцами
Стоять на пыльном большаке.
Стремились мы в края иные…
Но позже так хотелось знать —
Каким звонком
со всей России
Нас,
всех уехавших,
собрать!
ВЛАДИМИР ПШЕНИЧНИКОВ
♦
ВОЗВРАЩЕНИЕ
– Сынок, не засти свет,
Не вижу против света.
Ты нашенский иль нет? —
Старуха ждет ответа.
Из-за моей спины
День освещал морщины,
Две прядки седины,
Платка покрой старинный.
Я «нашенский» иль нет,
Старуха загадала,
И не повинен свет,
Что сразу не признала.
Там, за моей спиной,
Тропинки и дороги,
Чужою стороной
Меня носили ноги.
– Мироновна, я ваш,
Сейчас уйду со света…
Признай меня, уважь,
Должны же быть приметы.
АНТОНИНА ЮДИНА
♦
НОЧНАЯ СМЕНА
В ночную смену спит начальство,
Моих не ведая грехов,
Что у вальцовых у станков
Мне дело есть и до стихов,
Что можно с Музой не прощаться
До самых третьих петухов.
Уж так устроен человек,
Что часто в юношеские годы
В нас возмущается природа,
Что нам за грохотом заводов
Совсем не слышен первый снег
И не осознана свобода.
Но с юностью какие счеты?
В чем упрекнуть ее вдогон?
И кто тем будет уязвлен,
Что снежный шорох, снежный звон,
А я домой иду с работы,
И мне всего важнее сон?
ВАЛЕНТИНА РУЗАВИНА
♦
МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР
Как жарко в кабине!
Пылища, что туча.
Не сахар и ныне
Пахаря участь.
День без раскачки,
Ночь без уюта.
Кривая удачи
Вздымается круто.
Процентов букашки
Ползут по бумажке.
А в поле квадратами —
Всходы богатые.
Темп не снижается.
Тужатся тракторы.
Сев продолжается.
Зреют характеры.
ПЕРВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ВИКТОР ПЕТРОВ
Рекламный ролик
Повесть
В последнее время я часто ловлю себя на мысли, что даже некоторые маститые современные прозаики пишут сухим, почти казенным языком. Обидно и горько становится за русскую литературу, да и за читателя, которого наши классики радовали не только тем, что поднимали большие социальные проблемы, но и подвижным, сочным и ярким словом. Не потому ли так быстро и прочно вошли в литературу В. Белов, В. Распутин, В. Астафьев, А. Калинин, Г. Коновалов, С. Бородин, Ю. Бондарев. Рано делать прогнозы, каким будет дальнейший творческий путь Виктора Петрова, ведь он еще очень молод, но его повесть «Рекламный ролик» обращает на себя внимание прежде всего добротным языком. Действительно, В. Петров стремится живописать словом, стремится каждую деталь «вырисовать», чтоб она «работала» на основной авторский замысел и психологическое развитие характера, характера не статичного, а в его естественном движении, развитии. Вот именно на это и обратили внимание В. Астафьев и А. Говоров, которые познакомились с повестью в ее первом варианте. Сейчас В. Петров представил в сборник окончательный, законченный вариант повести, учел замечания старших товарищей, и мне приятно порекомендовать ее нашему читателю.
Виктор Петров в свое время окончил политехнический институт, ведет детскую фотостудию. Много путешествует с фотоаппаратом по Уралу и стране, как бы запасаясь материалом для дальнейшего нелегкого литературного труда.
Судя по первой повести, у В. Петрова есть все, чтоб не только заявить себя в литературе, но и утвердиться в ней.
Константин Скворцов,член правленияСоюза писателей РСФСР
Цирковых мишек-боксеров с собачьи отощалыми мордами, за кусочек сахара дубасивших друг друга, Костику Илькину доводилось снимать. Однако на сей раз киностудии требовались кадры с дикими медведями в экспортный фильм о Забайкалье.
Деликатные съемки доверили опытному кинооператору Супруну. Неуживчивый бирюк Супрун и не скрывал, что в тайге ему уютнее, чем в высокоинтеллектуальной атмосфере киностудии. Костика, же приставили к нему ассистентом, то бишь подмастерьем, на выучку. И расчудесные съемки вышли бы у них, да оплошал Супрун за день перед отъездом: огурец немытый съел… Холера их побери: и огурец, и Супруна!
Не поставив в известность дирекцию киностудии (нарушение техники безопасности – запретят!), порешил Костик катить к медведям один. К столь дерзкому решению Костика, поставлявшего начальству вместо дефицитных апельсинов свежие анекдоты почтительным баском, вынудили сроки. Последним зноем истекал август на асфальтовых площадях. Кусок с медведем по сценарию предполагалось снять ранней осенью, когда пиршество желтых, багровых красок оживит угрюмое чернолесье.
Молниеносные сборы под гул жены и ядовитое молчание тещи Костик вычеркнул из памяти вообще.
До самого Иркутска в окне вагона утомительно мелькали кадры бесполезных пейзажей.
Медведь, конечно, не слюнявая буренка с колокольчиком на шее, но отчего-то Костику казалось – зверя он снимет! Причем не абы как бы, поэффектней знаменитого Шнейдерова снимет. Избалован нынче зритель: копошащимся в кустах бурым пятном – «Ба, медведь на экране!» – его не удивишь. У Костика медведь если и не завалит сохатого, то на худой конец выхватит из кипящей на речном перекате воды ослепительного красавца-тайменя.
Зная Сибирь по толстым романам, Костик полагал всерьез: любая сибирская речушка кишит тайменями величиной с акулу и медведей сибиряки бьют чуть ли не с балкона. Ему остается лишь нанять в Слюдянке проводника из местных здоровяков, а уж тот, осчастливленный просьбой, скорехонько выведет его к стаду медведей.
Вроде и ясен план действия, но, когда смотрел на таежные увалы с дымками дальних пожаров, неприятно сосало под ложечкой.
За возможность отснять зверя Костик ухватился не от избытка смелости. А мечталось Костику после каждодневных съемок в угарных заводских цехах расслабиться на воле, так сказать, подышать целебным лесным воздухом.
Пока на здоровье Костик не жаловался, наоборот скорее… В то время, как большинство операторов козыряло профессиональными болячками – радикулитом, язвой желудка, Костик стеснялся своих нежных, румяных щечек. А пухлые, предательски детские губы, выдающие любовь его не к взрослым напиткам, а кипяченому молоку, он-таки ненавидел. Однако век стальным здоровье не останется, мудро считал Костик, и коль выдала возможность подкрепиться на будущее, ротозейничать нельзя.
Была и еще причина, главная, пожалуй, по какой Костик проявил определенное настырство, добиваясь престижной съемки. В случае успеха одним ударом докажет он, что способен не только на производственные ролики, иссушающие его непризнанный талант. Находились недруги, заявляли о нем во всеуслышание: «В общем-то безвредный кисель… Кадр чувствует неплохо, а на головенку не повезло. Одна извилина, как у ежика…»
На станции Юрга вагон заполнили цыгане с великолепными испанскими лицами. Костик тотчас возомнил себя Романом Карменом: Мадрид в огне, съемки под бомбежкой, – однако вовремя опомнился – нет уж, лучше медведь!
Байкал Илькина ошеломил. Плоты бескрайними материками изгибались на выпуклой глади.
Костик даже усомнился: в самом ли деле кино способно создать эффект присутствия? Можно, конечно, показать на экране переполненные лесом гористые берега, черно-смоляным силуэтом баркаса на переднем плане оттенить стеклянистую гладь озера. Поверит зритель и в берега, и что воды в Байкале много. Но даже угости его перед сеансом калеными кедровыми орешками, обдай запахами свежей рыбы, оглуши его сиренами буксиров, потешным говорком бронзовокожих буряток, все равно на Байкале он не побывает!
На перроне в Слюдянке, опьяненный величием озера, излил душу Костик первому встречному путейцу в оранжевой робе. Сам в душе большой поэт, путеец помог Костику донести багаж до своего дома. Ночуй!
Костик попросил путейца робу снять, а напялить на голое тело овечью безрукавку мехом наружу – для колориту, значит… Огорошенной хозяйке дома сунул в руки вилы, у ног ее водрузил трехлитровую банку с молоком – для символики, значит… Попетушился вокруг них еще малость, потом, забыв про съедающий зарплату перерасход цветной пленки, растранжирил на живописно поглупевших хозяев добрый десяток метров. Руки дело не забыли: «Конвас» в руках по-прежнему устойчив. Отдохнувший глаз и вовсе разыгрался: свет солнечный, как экспонометр, чувствует.
«Туземцев заинтриговал, с дороги передохнул, сейчас и к озеру можно», – решил Костик. В один присест ополовинил банку с молоком, к ужину заказал вареной картошечки и потопал к Байкалу.
На берегу к вдохновенно снимающему Костику осмелились приблизиться двое зевак. Костик демонстративно повернулся к ним спиной. Однако двое за спиной спокойно ожидали, пока Костик окончит панораму, и про чувство такта похоже не подозревали.
«В румянец вогнать их, что ли?» Костик лихо развернул на зевак убийственно элегантный «Конвас». А развернув, невольно нажал спуск, так интересны оказались лица обоих…
У того, что ниже ростом, – землистого оттенка, стянутое сухими морщинками вокруг нежно-розового хрящеватого носа лицо. Зубы – в усмешке. До единого гнилые зубы. Поверх лба – косая челочка еще пятидесятых годов, словно он с тех пор так и усох нагловатым мальчиком. Не шелохнувшись стоит, все равно весь нервный, шальной какой-то, ткни его пальцем – задрыгает руками, ногами, что паяц. Второй – великан, на тело рыхлый, из бабьего теста. Сонный лупоглазый мужичище, лицо развалено шрамом.
«Повидали дядечки свет…» – с опаской подумал Костик, опустил камеру.
– Эко, товарищ оператор, растревожили вы мне серденько… – с небесной задумчивостью на лице начал тот, что с челочкой. – Мечту вам, дорогой товарищ, приходилось иметь? Мечту такую океанскую, чтобы и смерть матери помогла пережить и несправедливость людскую забыть?
«Подходец, однако!» – изумленно подумал Костик и решил игру забавную поддержать.
– Красиво вы про мечту загнули. Мне, признаться, и крыть нечем. Я мальчонкой о подшипниках для самоката задумывался…
– А я, товарищ мой распрекрасный, еще у мамки в утробе о кино мечтал. ВГИКом бредил! Четыре раза поступал на оператора – и все мимо кассы. Надолгонько вы к нам? – уже деловито спросил чубатый.
Второй, который увалень, тоже с интересом нахмурил брови.
Понесло Костика… Обожал Костик хохмочки!
– Да я, собственно, нагрянул по государеву делу. У вас самые крупные медведи на земном шаре. Хочу передовых мишек отснять в рекламный фильм для зарубежа да супруге с тещей привезти по шкуре.
Великан поперхнулся табачным дымом, выпучил по-рачьи глаза на Костика. Дружок его с челочкой отступил на шаг, сощурился.
– Мед-ве-е-е-ди? А знаете ли вы, смелый мой товарищ, что повезло вам на нас, как новичку в карты. Мы их с другарем Гринюхой чаще комарья встречаем. Недавнось на свадьбу ихнюю нарвались, таких пять харь – в штаны думал накладу. Времечком каким располагаете? – снова задушевно спросил чубатый.
«После басен вопросы врасплох…» – оценил Костик ум чубатого.
– Видите ли, времени-то я своему хозяин. Хочу самое что ни на есть разноцветье ухватить…
– О! Я же говорил, что повезло вам на нас. Бабье лето с паутинкой, с журавушками в голубом небушке я вам обещаю!
– Извините, если правильно понял вас, предлагаете нашей киностудии свои услуги? В качестве кого, позвольте спросить? Рабочих?
Чубатый жеманно закатил глаза, взмахнул руками, обморок, дескать.
– Догадалась Машка, когда ночь прошла! Я ж вам толковал про мечту, про ВГИК. Вы мне – про самокат… Дозволили бы в детстве на том самокате прокатиться, нешто отказались бы у мечты погреться? – с фальшивым надрывом выкрикнул любитель кино.
Друг-громадина тоже покачал головой, мол, непорядок получается… Как это без них фильм разрешили снимать…
Хоть и неприятно Костику, что его так примитивно покупают баснями и ВГИКом, но удобный случай два раза не стучит. Поднатужившись, Костик, конечно, оторвет от земли рюкзак с продуктами на месяц, ружье, десятикилограммовый «Конвас» и палатку, но кому тогда от зари до зари гонять медведя?
«На вид-то выносливые верблюды… Обмануть могут… – ожил в Костике червячок сомнения. – Подкалымить на мне надеются».
– Сочту за счастье, если составите компанию. Но работа… Предупреждаю – работа каторжная! Мне нужен медведь. Сметой деньги на ветер не предусмотрены, – решил схитрить Костик.
– Тс-с-с! Ни слова о купюрах, – обидите, молодой человек. Иначе бы вы нам серденько порадовали… Скажем, смотрят человеки ваш фильм и читают: знаменитому и талантливому оператору помогли на совесть Олег Гарькавый и Гриня Прохоров. Этак можно?
– Пустяк! – весело пообещал Костик. Наивное тщеславие новых знакомых окончательно его убедило – брать.
– А на счет таланта погорячились вы. Я всего лишь добрый профессионал. Талант – другое! – строго пожурил он льстеца Гарькавого. Гарькавый глаза недоверчиво сузил, процедил сквозь зубы: «Лады, начальник… Строг мужик, строг».
Решили погоду-жар-птицу не упускать и выступить утром следующего дня. До охотничьего зимовья в распадках Хамар-Дабана Гарькавый посулил всего неделю энергичной ходьбы.
«Осилим», – встрепенулся Костик, любуясь спинами новых знакомых. Судя по подробному рассказу Гарькавого, места вокруг избы – лучше не бывает… На склонах хребтов сплошняком перестойный кедрач. Еще по школьной географии Илькин помнил: перед лежкой мишка обязательно на орешках жирует… Хребты не сплошь, облесенные, а с каменистыми отрогами, луговинами. В избе они разобьют базовый лагерь, и можно месяц налегке заниматься только съемками.
А пока до избы сапоги изнашивают, желтизна прихватит тайгу в самый раз…
Возликовал Костик! Он даже представил, как бойкая старушонка в собольей накидке умоляет членов жюри кинофестиваля перевести ей с русского фамилию оператора.
– Гм… просто Илькин? Без подтекста? Мило, талантливый мальчуган…
Ласковый Костик, агнец, доверчивый… Приласкай его умеючи, сам в пасть юркнет, еще и «ура!» с восторгом прогорлопанит. Раз такие золотые мужики – нате вам сотню рублей на закупку продуктов. Доверяю, братва!
– В семь нуль-нуль буду как штык! – бодро отрапортовал Гарькавый и тотчас увел дружка, у которого неприлично заблестели глаза…
После их ухода туман наивности вмиг рассеялся. Костик ужаснулся собственной глупости. Он было даже нацелился в милицию, но, едва представив себе, как сам отнесся бы к подобному ротозейству, решил обождать до утра.
«Двойки двойками, а про учебу не забывай», – учил в свое время папа Костика, наматывая на кулак красовавшийся всегда на почетном месте ремень. Костик поплелся в местную охотинспекцию. Для медвежьей привады он надеялся ухлопать одним выстрелом кабаргу или изюбря и потому еще в студии запасся гербовой бумагой-просьбой.
Обещание Костика прославить местных медведей за границами сработало – лицензия на кабаргу лежала в нагрудном кармане. Но на душе стало еще муторней, еще горше. Во сне над Костиком всю ночь хохотал косматый наглый хищник и, сжалясь, наконец, пообещал денег на обратный проезд.
Однако точно в семь ноль-ноль Гарькавый скинул тощой свой рюкзачишко на дощатый тротуар подле дома путейца, Гриня Прохоров бережно поставил громадный рюкзачище рядом.
Козу дружки привязали к скамейке. Глаза у козы были повязаны траурной черной тряпицей.
– Это чудище откуда и зачем? – едва сдерживая радостное волнение, спросил Костик.
– Для приманки сгодятся… – Гарькавый отечески похлопал страдалицу по шее.
– Купили животное? – тревожно среагировал Костик на козье «ме-е-е-е».
– Ничья. Сиротка… – нехотя отозвался Гарькавый. – Да успокойся ты, начальник! Стерва она, пассажиров на вокзале обирает! Выруливает по расписанию к крымскому поезду и клянчит у пассажиров фрукты. Сам видел: толпа облизывается, когда она виноград жрет, скотина! – взъярился Гарькавый, как бы и не понимая, что опечалило Костика.
– Мож, передумаешь, Олех Палч? – уныло протянул Гриня. – Хровопивство, однако…
– Не, Гринь, не умоляй даже. За тунеядство закон есть! Пусть и смывает позор кровью.
«Инициативу одобрять полагается», – с тоской подумал Костик, сознавая, что пути назад отрезаны. Ух и осерчает директор киностудии: оператор Илькин скатился до вульгарной кражи!
Однако мощный аргумент в пользу козы поколебал воинственную принципиальность Костика. Судя по полному вымени, сиротка в обмен на ласку будет прикармливать их парным молочком…
Илькин покосился на жену путейца: любопытствует из окна, свидетельница…
– Глаза зачем повязали?
– Так ведь дура! Разве оказанное доверие оценит? Брыкаться, милашечка, не будет, а в лесу деться ей некуда. Впереди нас попрет сивка! Еще и рюкзак твой ей перегрузим…
– Но, но, мучить-то животное излишне, – строго поправил Костик, поразившись про себя чуткости Гарькавого…
Отменную тайгу посулил Гарькавый, однако малинников в человеческий рост сразу за мачтами ЛЭПа Костик никак не ожидал. Переспелые ягоды осыпаются за Гарькавым, словно капли после дождя. И погрести бы их, сладеньких, горсть за горстью, но Костик лишь украдкой щиплет ягодки и сразу ускоряет шаг.
Снующие над медоносным раем шмели подсказывают Костику кадр: исполинский – в экран – шмель с рифлено-слюдянистыми крыльями протыкает хоботком туго налитую соком, как рубин, ограненную пупырышками малининку. Костик огорченно вздохнул: тыщу раз снята-переснята картинка! Впрочем, если косолапого увековечить в малиннике, сгодится и банальная картинка. Сработает на контрасте: два мохнатых сладкоежки – смотрится!
Скомандовать привал ходокам не решился – эвон разогнались – лишь пометил будущий кадр в блокноте.
«Зачнете топать, Костюха, ленись первым делом, себя береги… Организьмь слухай!» – поучал вчера Костика хлебосольный путеец. Ночью жена путейца, будить не смея молочно посапывающую надежду документального кино, обшила поролоном узенькие лямки его рюкзака.
Яркая киносудьба гостя разбередила захиревшую в чугунном быте душу путейца. До первых петухов тянул он помидорный рассол, озадаченно крякал, почесывал безволосую, в лепешку сплюснутую непрерывным трудовым стажем грудь.
Литые резиновые пудовые сапоги гостя оскорбили путейца своей непригодностью к долгой ходьбе по лесу. «Дарьмовый ревматизьмь!» Путеец поднял на ноги пол-Слюдянки, родню то есть, – миром добыли Костику легкие, в самую мягость разношенные хромовые сапожки. Невозможно, чтобы государственное дело по такому пустяку, как обувка, сгибло!
«Забавный работяга, за ночлег не взял… А ведь нужно что-то было от меня. Нужно было… Ночевать затащил, сапоги…» – озадаченно мыслил Костик, не подозревая даже, что оскорбил святая-святых – щедрость коренного сибиряка.
Заслышав мощный, шаг к шагу нарастающий гул, Костик, что колобок, обкатил Гарькавого (тот удивленно присвистнул ему вслед), через прибрежные сырые лопухи скатился на галечную отмель и прошуршал до самой воды.
Ошеломила Илькина не столь сама река, хлещущая вдоль елового коридора тугими, чистыми струями, как галька. Нестерпимо яркая, сухая, одинаково крупная, словно расфасованные куриные яйца. Ледяные брызги оставляли на солнечной стороне отмели влажные мазки.
«Вот она, Сибирь-матушка! Подрастет Лешка, вместо югов – сюда!» – с восторгом подумал Костик.
– Му-жи-ки! – презрев солидность, завопил он. – Му-жи-ки!
– Ну… мужики… Чаво горлопанишь! Сам-то мерин разве? – нелюбезно охладил его Гриня.
– Река! Красотища! – уже тише, но по-прежнему с восторгом восклицал Костик.
– Ну… вода… Жрать навострился?
На недоуменного Илькина Гриня смотрит исподлобья, с непонятной лютостью и, будто бурлак с веревкой через плечо, пытается вытянуть козу из прибрежных кустов смородины.
Оптимист Костик…
– Личный состав экспедиции, слушай мой приказ. Обедаем здесь. На берегу пустынных волн!
Отчего-то дружки не спешат распаковывать рюкзаки. Гриня – тот жмурится от удовольствия: коза не самолично шляется по кустам, а доверчиво перемалывает горку ягод с его руки.
Ноги калачиком, Гарькавый с достоинством буддийского монаха на лице перебирает лепестки ромашки.
– Нет. Снова нет. Еще раз нет. Милый мой человечек, есть иль оно вообще-то счастье в жизни?
От риторического вопроса Костику не по себе. Переспрашивает на всякий случай с юморком:
– Огромное, с арбуз?
– Я, милый человек, с тобой не шуткую! – демонстративно обиделся Гарькавый.
– Если по-школьному, как помню, судьба человека – в собственных руках, – осторожничает Костик.
– А для меня, человечек мой сладенький, веришь нет, поболтаться возле настоящего кинорепортера и есть первое мне на зубок счастье… Не жа-а-а-ловала нас судьбинушка с Гринюшкой, – вконец печально протянул Гарькавый.
Костик заерзал.
– Спасибо, Олег!
– Спасибочки? Мне спасибочки? Гринюшка, слышал? Клянись тогда, Константин, – ни одним упреком не омрачишь нашу светлую дружбу? – пылко, с жертвенным пафосом воскликнул Гарькавый, тыча Костику под нос окатыш вместо креста для поцелуя.
– Что за глупость с клятвой, разве я дал повод усомниться в себе?
– Проверим! – Гарькавый отчаянно махнул рукой Прохорову.
– Гринюшка, развязывай рюкзак!
Костик закусил губы: вот-вот от обиды у него хлынут слезы. Словно боеголовки недружественной державы, на него нацелились десятки разнокалиберных бутылок.
– А про-о-о-о-дук-ты?..
– Прихватили шамовки, не бойсь! – задорно хлопнул Гарькавый Костика по пухленькому плечу.
Не в силах более подыгрывать дружку в столь жестоком комедианстве, Гриня склонился над козой, вроде как выбирая из шерсти головки репья, сам же следит за Костиком: раскис операторишко до телячьей беспомощности.
Забыв о приличии, Костик судорожно перерыл содержимое рюкзака Гарькавого. Сухие супы, кальсоны, сухари, немного совсем, чай и огромная вязанка чеснока.
– Соли даже не купили?
– Ну сказанул, Константин, тяжесть лишнюю переть? И так супы пересолены!
Илькин бессильно опустился на гальку.
– Под-ле-цы!
– Но-но! Не обещай! – как ужаленный, взвился Гарькавый. – Думаешь, полезно желудки-то колбасами мордовать? Ты лес вокруг оцени! – опять же с пафосом напирал он на увядшего Костика. – Нашенский лес-то! Советский! Нешто не прокормит!
Вдоль тропы и в самом деле тянутся шеренги разноцветных с ядренокрепкой, заматеревшей плотью грибов.
Во избежание соблазнов Гриня перевязал козе морду веревкой, сам по извечной крестьянской бережливости широко расставляет ноги, стараясь зазря не топтать гигантские грибные шляпки, которые наверняка никому не пригодятся в этом седом косматом бору.
– А волнушек, как девчушек… – игриво подпнул Гарькавый к ногам Костика розовую шляпку, пробуя через тему, волнительную уху настоящего мужчины, пробиться к сердцу Костика. Но Костик гордо перешагнул и презрительно молчит на неуклюжие заигрывания.
Обида обидою, однако Костик надеется, что уж вечером-то пристыженные его холодностью рабочие сломя голову кинутся устраивать ночлег.
Оставив на расстеленной палатке ошметок грязи, Гарькавый сел, ноги знакомым калачиком, руки на коленях, явно готовясь к какому-то священнодействию.
Забыв про роль обиженного, Костик с изумлением наблюдает церемониал.
Из абсолютно целехоньких, купленных по уходу из Слюдянки папирос Гриня потрошит в фуражку табак и скручивает Гарькавому огромную, похожую на торпеду цигарку. Сам закуривает папироску из пачки.
Сделав несколько глубокомысленных, прямо-таки философских затяжек, Гарькавый снисходит до слуги: позволяет Грине затянуться из своих рук. Этикет Гриня, конечно, соблюдает: затяжку делает всего лишь одну и с усердным восхищением причмокивает губами – нектар, а не табак!
Костик заливисто, озорно, как колокольчик через радио на всю школу, расхохотался. Еще бы не вкуснотища: табачок из рук самого господина. Славная хохмочка!
Развеселая эта минута оказалась первой и последней радостью для Костика. Напились рабочие… В дым надрызгались, можно сказать, после суточного воздержания…
Гриня хватанул Костика: мельтешит перед глазами, – подтащил к костру – грейся, кутенок… Уже помеченный ночной сыростью, Костик смачно хлюпанул носом, затих, обласканный жаром костра.
Гарькавый, черт сумасшедший, иначе и не назовешь, высыпал в консервную банку пачку чая – если заваривать чай в своем чайничке отдельно от жены и тещи, такой пачки Костику хватает ровно на восемнадцать дней, – залил банку водой. Из костра выкатил прутком углей, банку на них поставил и хищно-внимательно караулит, чтоб, зелье, закипев, не выметнулось пеной наружу.
Сердце Костика зашлось: готовое зелье Гарькавый слил в его кружку, обильно побулькал в кружку из какой-то бутылки и – о, ужас! – зловеще усмехаясь, подносит Костику.
– Ну-кось, кагорчику, киношник, – не побрезгуй!
От царского подарка Костик отшатнулся так пугано, что окончательно померк, скатился до ничтожной козявки в тоскливых, злых глазах спутников.
Инстинкт самосохранения подсказал Костику стиль поведения. Нужно вызвать к себе жалость, еще лучше оказаться смешным в их глазах, дать им возможность погоготать над его униженностью. Подобреют!
Завтра никаких компромиссов! Завтра он применит к ним тест американских космонавтов на совместимость, подберет к каждому ключик, верней – отмычку поувесистей. «Но на сегодня будь, Костик, умницей, прогнись в спинке, выпяти попку, деточка», – говаривала маман Костику перед уколом…
Куражась перед двумя единственными зрителями, Гарькавый надумал метать топор в кедр, как оказалось, в тот самый, под который и переполз Костик, упрев возле огня.
По-пьяности ли или страшась дружка, Гриня едва слышно промямлил возражение опасной забаве.
Топор сыро чмокнул в ствол на целую ладонь выше головы Костика, за шиворот ему посыпались чешуйки коры.
Костик вскочил, поджал руками живот, ссутулился по-старушечьи и, расстегивая на ходу ремень, пуговицы ширинки, посеменил от костра в темень.
– Я сча-а-а-с! Не теряйте, мужики! – задушевно крикнул он, вроде как давая понять: перемирие треба, житейское дело от ваших хохмочек приключилось…
Пока выжидал полчаса по светящимся в темноте стрелкам, основательно продрог, вернулся к костру.
Однако потешать собственной униженностью, игриво подмигивать, мол, кишка тонка, робяты, перед вами, было уже некому. Оба спали в палатке. Могучие кедры вокруг палатки гнулись от храпа разбойничьих глоток– свинцом бы залить их…
Костик стиснул в кармане штормовки свинцовую битку – груз для закидушки на налима и, громко всхлипывая, слизывая с губок солоноватые, вкусные слезы, пополз к своему спальному мешку.
Солнечный свет сквозь брезент известил Костика о начале дня. Он тотчас потянулся к кофру с «Конвасом» – на месте родимый…
«Все-таки уважают, чертяки, кино! – с тоскливым смешком подумал Костик. – Сонного ограбить – одно удовольствие». Недоверие к рабочим вроде как и исчезло. Не прибили во сне, не ограбили, что еще от чудаков желать? Да и дорогу назад в Слюдянку ему не найти… Костик смахнул кисточкой пыль с холодных голубоватых объективов и выбрался наружу.
Солнечные лучи спицами пронизывают дым костра. Если и снимать захламленную валежником лесную чащу, так именно сквозь легкий дымок, прошитый косыми утренними лучами. Хаос стволов и веток сразу разделится на отдельные планы, и до каждого дерева, куста прочувствуется свое расстояние. В рюкзаке у Костика покоится целая обойма дымовых шашек.
Костик воспрянул духом. Сейчас даже бежевая нательная рубаха на Грине кажется ему интересным цветовым пятном.
Гриня потрошит незнакомую рыбину с перламутрового отлива брюшком и нежно-розовыми, как сосочки, пятнышками по мясистой спинке. Рот Костика заполнился слюной. В их маломощный туристский котелок рыбина не умещается, и Гриня отхватывает топором сначала хвост, потом и голову.
– Зря! – облизнулся Костик. – В голове самый смак. На червяка? Место покажешь?
Гриня сумрачно кивнул на Гарькавого: показалось Костику – с неприязнью кивнул… Дрожа в мокрых трусах, тот отжимает воду из брюк.








