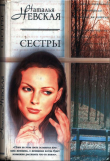Текст книги "След сломанного крыла"
Автор книги: Седжал Бадани
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
Марин берет фотографию из ее рук и смотрит на нее. Снимок показывает, какой должна быть жизнь Джии: успех везде и всюду.
– Джия, послушай!
– Нам не о чем разговаривать.
И, не сказав больше ни слова, она выходит из комнаты, оставив Марин смотреть в пустоту.
Соня
Я езжу по городу, старательно избегая больницы, и все же, сама того не желая, приезжаю туда. Обычно я сижу на больничной парковке и смотрю на здание, в котором находится мой отец. Иногда, когда я не в состоянии сопротивляться самой себе, я вхожу в больницу. Я борюсь с желанием увидеть отца. Какая-то часть меня отказывается поверить, что он болен, что он не в состоянии двигаться и говорить. Посещая его, я убеждаюсь, что он все еще парализован и не может напасть на меня. Это невозможно принять. Его власть над нами была всеобъемлющей, его влияние на нас – беспредельным. Скажи мне кто-нибудь, что наша история закончится таким вот образом, я бы рассмеялась. Ответила бы, что это невозможно. Мне было предназначено находиться в конце бесконечной цепочки людей, стремящихся к счастью, а он… Ну, он был тем, кто требовал, чтобы я осталась там навсегда.
– Почему? – я спрашиваю его впервые в жизни. В детстве мне это никогда не приходило в голову. Я принимала насилие, как другие дети принимают любовь, – как неотъемлемую часть своей жизни. Лишь поступив в Стэнфорд, я начала размышлять над тем, что не всех детей растили так, как нас. Сейчас мне кажется это почти наивным, но если побои – норма вашего воспитания, вы не задаетесь вопросами о них. Возможно, для моей психики до восемнадцати лет было бы слишком тяжело признать, что меня избивали, в то время как другие росли в любви. Это и сейчас так. Я боюсь того, что может случиться, если он откроет глаза. Если он снова получит возможность причинять мне боль, когда я и так разбита на черепки.
– Почему ты забрал себе так много из того, что тебе не принадлежало?
– Рад увидеть вас снова.
Я не услышала, как вошел Дэвид. Я внезапно прихожу в себя и сторонюсь, уступая ему место у аппаратуры. Я смотрю ему в лицо, желая понять, не подслушал ли он меня, но его лицо выражает обычную доброжелательность.
– Мне лучше выйти? – спрашиваю я.
– Нет-нет, все в порядке.
С помощью стетоскопа Дэвид слушает у отца сердце. Я молча наблюдаю за ним и гадаю, каков будет результат. Он щупает у отца пульс и смотрит на мониторы. Сделав заметки в своем блокноте, он бросает взгляд на меня:
– Состояние стабильное.
– И вы до сих пор не знаете, почему он в коме?
Мне нужно знать причину. Мне нужно знать, что он наказан за все, что натворил. Я хочу услышать, что он страдает, что его телу больно, что моему отцу так же страшно, как было нам каждый день.
– Мы продолжим делать анализы, но в данный момент можем указать только на его диабет. У него угрожающе низкий инсулин.
– Это нормально?
– Для своего возраста он был на редкость здоровым человеком. Не пил и не курил, – Дэвид снова заглядывает в свои записи. – Говорят, он много ходил пешком ради тренировки.
Он хочет уйти, ему пора к другим больным, которые ждут его. Я смотрю на отца и внезапно понимаю, что не могу оставаться с ним наедине. Я столько лет провела сама с собой, что теперь тоскую по общению.
– Вы были его лечащим врачом? – спрашиваю я, не сумев сдержаться.
– Нет, – Дэвида, кажется, удивляет, что я не знала этого. – Я ординатор. А его лечащий врач – терапевт. Мы вместе наблюдаем за его состоянием.
– Это хорошо, – мне непривычно вести вежливый разговор. Мне это никогда не удавалось. Я читала, что дети, подвергавшиеся насилию, став взрослыми, часто испытывают трудности в общении. Какую терминологию ни используй, но мне всегда было спокойнее вдали от людей, а не среди них. – Спасибо.
Он снова собирается уйти, но почему-то передумывает. Он останавливается и внимательно смотрит на меня:
– Ваша мама упомянула, что вы вернулись домой из-за болезни отца. Она спрашивала, не станет ли ему лучше к вашему приезду. Простите, что мы пока не сумели ему помочь.
– Она сказала, что я приеду? – я останавливаю его, загораживая дорогу. Я потрясена тем, что она говорила обо мне. – Когда это было?
– Через несколько дней после того, как он поступил в больницу, – Дэвид смотрит на меня, пытаясь понять мою реакцию: – Надеюсь, я не сболтнул лишнего?
– Нет, – я отступаю на шаг в сторону. – Просто я удивлена, – я обхватываю руками плечи, надеясь защититься от холода, разлитого в воздухе. – Что еще она сказала?
Так странно просить постороннего человека проникнуть в мысли моей матери.
– Она упомянула о том, что вы путешествуете по миру, – говорит он ласково. – Она явно гордится вами.
Он неправильно понял. Мама всегда ненавидела мои путешествия. Они означали, что я потеряна для нее, что одной дочерью у нее стало меньше. А кроме материнства, она не имела стимулов в жизни, потерявшей смысл в тот день, когда отец впервые ударил ее.
– Я путешествовала не так уж много, как вы думаете. И в основном по работе.
– Фотографировали?
– Да, – я думаю о местах, где побывала, но еще больше о тех, где еще не была. – Фотографировала.
– Куда же вы ездили?
Не могу сказать, спрашивает ли он из вежливости или искренне заинтересован.
– Я знаю, вы заняты. Не хочу задерживать вас.
– Не беспокойтесь, – он смотрит на свои наручные часы: – Я сегодня обгоняю график. Удивительно! Обычно я опаздываю, – он улыбается, и я невольно улыбаюсь в ответ.
– Я объездила Европу, Азию и все Соединенные Штаты, – я говорю об этом без гордости и без хвастовства. Сами по себе путешествия не имеют для меня особенного смысла. Места смешиваются в моей памяти, лица людей, которых я встречаю, тонут в море других лиц. Не так уж важно, где я нахожусь, – главное, что не там, где была раньше. Я еще не решила, куда поеду потом. Не в Нью-Йорк, где узнала о болезни отца. Куда-нибудь, где воспоминания не будут преследовать меня.
– А вы? – спрашиваю я, стараясь быть вежливой. – Вы часто путешествуете?
– Не так часто, как раньше. Я должен быть здесь, рядом с моими пациентами, – он спокоен, его взгляд становится отсутствующим. – Я писал для «Летс Гоу», это был последний раз, когда я путешествовал так, как мне хотелось.
– Вы учились в Гарварде? – я много раз пользовалась путеводителями «Летс Гоу», когда приезжала в какое-нибудь новое место. Благодаря их авторам, студентам Гарварда, мне удавалось экономить в поездках. – Как студент или уже как врач?
– И так, и эдак. Но Калифорния – мой дом. И притяжение залива Сан-Франциско оказалось слишком сильным, поэтому я вернулся сюда. А где учились вы?
– Стэнфорд, – светская беседа о таких вещах, как путешествия или жизнь, для меня в новинку. – Вы окончили школу здесь?
Похоже, мы примерно ровесники.
– Да, школу Монро. Это вниз по дороге.
Название школы многое говорит о его семье. Видимо, его родители – успешные люди, из тех, что в разговоре походя упоминают о личных самолетах и местах в первом ряду на пафосных мероприятиях. Значит, он с детства получал самое лучшее. Однако он сказал о школе без хвастовства и заносчивости, а это говорит о том, что за человек он сам.
– А вы? – спрашивает он.
– Я окончила Ганн Хайд Скул, – эта школа находится вверху списка лучших в стране, и ее считают подготовительной ступенью к Стэнфордскому университету. – В Пало-Альто.
– Замечательная школа. Там учились многие мои друзья.
Мы не ищем общих знакомых, и спасибо ему за это. В школе я жила в собственном мире и практически не пересекалась с одноклассниками. Все равно я не могла привести друзей к нам в дом: поведение моего отца была чересчур непредсказуемым. Ему нельзя было доверять. Если бы кто-нибудь увидел, как он орет, репутация, которую я упорно создавала в классе, была бы погублена. Правда, отец всегда превосходно держался в кругу членов индусской общины или коллег. Он получал удовольствие от образа властного мужчины, щедрого по отношению к своим детям и делающего для них все. Но наши школьные друзья не имели для него значения, поэтому перед ними он не боялся проявить жестокость или унизить нас.
– Потом Стэнфорд.
Дэвида это явно произвело впечатление:
– А в каком холле вы жили?
Большинство стэнфордских учащихся, увлеченных студенческой жизнью, хотят жить в студенческом городке и выбирают одно из общежитий. После первого года обучения они решают, жить ли им и дальше в том же самом холле или искать жилье выше классом. Выбор холла во многом определяет ваш последующий опыт. Тот опыт, которого я была почти лишена.
– В «Робл-холле». Я поселилась там через несколько месяцев после начала учебы, – произношу я раньше, чем успеваю подумать. – До этого папа не разрешал мне жить в общежитии.
– Почему? – Дэвид не может скрыть удивления.
Не желая терять надо мной власти, папа не позволял мне поселиться в комнате, которую мне отвели.
– Я не знаю.
Я и в самом деле не знаю, как объяснить это Дэвиду. Я умоляла отца разрешить мне жить в холле, но он постоянно отказывал. В конце концов я пошла к декану факультета и изложила ему ситуацию. Университет отправил родителям официальное письмо, в котором их предупредили, что, если я не буду твердо придерживаться университетских правил, меня отчислят. Отец не хотел подвергнуться такому унижению в глазах друзей и уступил.
– Может быть, он был не готов отпустить свою маленькую девочку, – он вынимает бумажник из заднего кармана и достает оттуда фотографию девочки лет шести. – Будучи отцом такой малышки, я могу понять, как это трудно.
– Она красивая.
– Ставлю это в заслугу бывшей жене, – он перехватывает мой взгляд: – А у вас есть дети?
– Нет, я никогда не была замужем, – его вопрос напоминает мне, кто я такая и кем буду всегда. – У меня даже бойфренда нет.
Он пытается скрыть недоверие и не спрашивает почему. По-видимому, он считает, что всему виной мои путешествия. Мой возлюбленный – мой фотоаппарат. Так я оправдываюсь перед любым мужчиной, который подходит ко мне слишком близко. Тьма, моя постоянная спутница, оставляет мало места для света любви.
– Сколько лет вашей дочке? – спрашиваю я, меняя тему разговора.
Его лицо светлеет. Постоянный предмет моей детской зависти – отцы, любящие своих дочерей.
– Ей пять, – он дотрагивается до стетоскопа, свисающего с груди. – Ее зовут Алексис. Моя бывшая и я – ее опекуны.
– Вы счастливчик, – это не пустые слова. На снимке красивая девочка с улыбкой, которая греет сердце. Дети – мои любимые объекты для съемок. В детской невинности много красоты.
– Куда же вы поедете в следующий раз? – спрашивает Дэвид, пряча бумажник обратно в карман.
– Еще не решила, – видя его смущение, я добавляю: – Я нашла место, где никогда не была. Надеюсь, то самое, которое искала.
– Какое именно?
Я отвечаю не сразу.
– Два года назад я была в одном монастыре в Китае. Я жила вместе с монахами, наблюдала за их повседневной жизнью. Каждый день они вставали в одно и то же время, ели одну и ту же еду, – повторяя слова, я каким-то странным образом успокаиваюсь. – Сидя рядом, они медитировали часами. Их лица выражали удовлетворение, которое мне потом редко приходилось видеть. Но они были целиком отгорожены от мира.
– Одиночество?.. – догадывается он и, кажется, сам удивляется этой мысли.
– Они казались счастливыми, – говорю я, желая защитить их. Палата начинает сжиматься вокруг меня. Я открыла ему слишком много и теперь чувствую себя уязвимой. Хочется убежать в ванную комнату, находящуюся справа, и запереться на замок. Горло словно сжали тиски. Тело отца неподвижно лежит под чистой белой простыней. Я забыла о нем, но он, подобно черной тени, нависает надо мной. Он всегда рядом, он всегда наблюдает за мной.
– Мне следует отпустить вас к пациентам.
И, не дожидаясь, пока он уйдет, я первой выхожу из палаты. Зная, что вернусь, потому что не могу иначе.
* * *
Я гуляю с Тришей в парке, расположенном среди холмов Саратоги. Сначала мы ехали по узкой дороге с односторонним движением, ведущей вдоль горы, а потом взобрались на вершину. Отсюда мы обозреваем город и его окрестности, а потом отыскиваем на траве местечко и усаживаемся. Поскольку сейчас полдень, народу в парке немного: несколько туристов и парочка следящих за фигурой мамаш с малышами на буксире. Кроме них – только мы.
Радуясь тени большого дерева, я прислоняюсь к стволу и наблюдаю, как Триша распаковывает легкий завтрак и раскладывает его на клетчатой скатерти. Она расставляет приборы так старательно, будто это званый обед, а не пикник на траве.
Я прячу улыбку, хвалю ее за выбор блюд и откусываю кусок еще теплого французского хлеба.
– Очень вкусно, – говорю я. Она ставит на скатерть миску с фруктами и контейнер, наполненный чем-то похожим на раздавленные оливки.
– Это оливковый спред? – спрашиваю я, дотягиваясь до фруктового ножа.
– Тапенада[13],– поправляет Триша, прежде чем понимает, что стоило бы промолчать. Она застенчиво улыбается и говорит: – Извини.
Я спешу уверить ее, что не обиделась:
– Это ведь действительно тапенада.
Откусив еще один кусочек хлеба, я смакую оливки с перцем и чесноком.
– Спасибо тебе за этот ланч. Я рассчитывала только на печенье и кофе.
– Ты разве помнишь? – удивленно спрашивает Триша. В четырнадцать лет она впервые увидела фильм «Завтрак у Тиффани». Она решила, что Одри Хепберн – ее кумир, и целый год завтракала датским печеньем и пила кофе без кофеина.
– Я даже еще помню вкус этого печенья. Ты ведь заставляла меня есть его вместе с тобой, – произношу я с содроганием. – До сих пор видеть его не могу.
– Прости меня, – говорит Триша, хотя мне кажется, что она имеет в виду что-то другое. Мы молча едим, прислушиваясь к шуму листвы на ветерке. В юности мы редко молчали вдвоем. И то, что мы молчим сейчас, заставляет меня осознать, что мы обе повзрослели, но продолжаем находить утешение в общении друг с другом.
– Где тебе нравилось жить больше всего?
Триша удивляет меня этим вопросом. За все эти годы она ни разу не спросила, где я живу.
– На Сейшелах, – отвечаю я без колебаний. – Это маленький остров в Индийском океане. Население – около девяноста тысяч человек.
Я вспоминаю, как спала в палатке на берегу, просыпаясь каждое утро под звук океанских волн, разбивающихся о берег.
– Ты была совсем одна? – спрашивает она в ужасе.
Я хочу объяснить ей, что одиночество не зависит от того, есть ли рядом люди, что мое одиночество – неотъемлемая часть меня. Но если я скажу это, обрушится град вопросов, на которые у меня нет ответов.
– Да, я была одна.
– Могу себе представить.
Триша берет из миски несколько виноградин и жует их. Она предлагает виноград и мне. Я беру целую пригоршню. Поставив миску на место, она пристально смотрит в сторону леса.
– Одна мать ищет родителей для своего новорожденного ребенка, – говорит она. – Эрик хочет усыновить его.
– Разве это не чудесная новость? – спрашиваю я, полагая, что это так и есть.
– Может быть, – произносит она тихо, но на ее лице написано другое. Я, поощряя ее продолжать, спрашиваю, почему у нее нет детей, хотя она всегда их хотела. Но она внезапно указывает на птицу, расхаживающую поблизости. Мы смотрим, как она подходит к нам.
– Кажется, она ранена! – восклицает Триша. Поднявшись на ноги, она медленно подходит к птице, наклоняется и берет ее в ладонь. – Это крыло.
Приглядевшись, мы видим маленький порез на крылышке. Я провела три с лишним месяца на африканском сафари за ранеными животными, делая снимки для журнала «Нэйшнл Джиографик». Там я узнала, что поврежденное крыло со временем можно вылечить, но больше всего опасностей подстерегает беспомощных птиц в дикой природе.
– Ее нужно накормить, – говорю я, кроша хлеб.
– Давай сделаем ей гнездо, – решает Триша. Она держит птицу в одной руке, а другой начинает поспешно собирать материал для временного гнезда. Я с любопытством наблюдаю за сестрой, но она жестом просит о помощи. – Давай, давай!
Следующие пятнадцать минут мы собираем веточки, листики и травинки и со смехом и спорами устраиваем для птицы самое роскошное ложе, какое только можем. Наконец мы помещаем гнездо среди деревьев, в месте, защищенном от любопытных глаз. Положив в гнездо еду, Триша бережно кладет туда птицу, но прежде птичка несколько раз крепко клюет ее в знак благодарности. Потирая пострадавший палец, Триша спрашивает меня:
– Как ты думаешь, это сработает?
– Да, – говорю я с внезапно возникшей уверенностью. – С ней все будет хорошо.
– А это она? – дразнит меня Триша.
– Ну с ним будет все хорошо, – сестра смотрит на меня, и я поднимаю руки: дескать, сдаюсь. – Оно будет в порядке.
Мы с Тришей смеемся и смотрим, как птичка устраивается в гнезде. Когда мы собираемся уходить, Триша слегка подталкивает меня плечом:
– Давай еще раз приедем сюда!
– Обязательно, – говорю я, предвкушая следующий пикник.
Триша
В Индии замужество означает, что женщина переходит из дома одного мужчины в дом другого. Обоих для нее выбирают: одного – по соизволению богов, второго – по отцовскому повелению. А согласно индийской системе верований оба эти мужчины – две стороны одной медали. Оба они обладают вами и могут делать с вами все, что захотят. Но что случается, если женщина хочет свободы?
Будучи ребенком, Соня дважды вызывала «скорую помощь» к нам домой. В первый раз она, решив прогулять уроки в школе, ждала, когда мама проснется. Но та не просыпалась, и Соня, которой в то время было восемь лет, забралась к ней в постель. Увидев, что мама не разговаривает, она позвонила по номеру 911. Врачи сделали анализы и пришли к заключению, что мама просто потеряла сознание. Конечно, никто не сказал им об ударе по голове, который она получила накануне вечером.
Во второй раз это случилось, когда у мамы началась непрекращающаяся рвота. Соне тогда было одиннадцать, и она, сказавшись больной, не пошла в школу. «Скорая помощь» отвезла маму и Соню в ближайшую больницу. Врачи велели Соне подождать в приемном покое, выдав ей карандаши и бумагу, чтобы помочь скоротать время.
А в это время – Соне об этом не сказали – врачи делали ее матери промывание желудка, поскольку утром она проглотила целый пузырек снотворных таблеток. Позже, когда пришедший к ним домой социальный работник спросил ее, почему она это сделала, мать ответила:
– Я очень устала.
Это был последний раз, когда Соня не пошла в школу. Поразмыслив, она решила, что безопаснее держаться от дома подальше – там, где ей не придется все время спасать чью-то жизнь.
* * *
Когда я прихожу домой, свет погашен. Элоиза уже все прибрала, оставив мне тарелку с едой в духовке. Я стала проводить больше времени в больнице с папой. После сегодняшнего визита я несколько часов ездила по городу.
– Ты дома.
Я с удивлением замечаю в темноте Эрика.
– Где ты была?
– Ты дома, – повторяю я. Он стоит молча, ожидая ответа, и я говорю ему:
– Ездила по городу.
Я ищу выключатель. Нащупав его, я нажимаю на кнопку, но свет только мигает, отбрасывая на нас жутковатые отблески.
– Он не работает, – угрюмо произносит Эрик и подходит ближе. – Шесть часов ездила по городу?
– Конечно, нет.
Я не боюсь своего мужа. Я знаю женщин, которые боятся своих мужей. Многие, оставив работу, уступают право принимать решения кормильцу семьи и теряют независимость ради безопасности. Другие просто отказываются от борьбы. Думают, что для них это менее опасно, чем вести борьбу, которую они могут проиграть. Подруги говорят, что мне повезло, что я вышла замуж за особенного мужчину: он обеспечивает мне образ жизни, о котором прочие могут только мечтать, и в то же время предоставляет полную свободу. Он исполняет любое мое желание, а в обмен на это я отдаю ему себя.
– Так где же ты была? – спрашивает он ледяным тоном.
– С отцом, – дотянувшись до настольной лампы, я включаю ее, и комната наполняется светом. Волосы у Эрика взъерошены, галстук развязан. Он напряжен, как ястреб, кружащий над полем. Я протягиваю к нему руку, но он отступает назад. – Эрик, что с тобой?
– Как он?
– Без перемен. Он просто лежит. Что бы я ему ни говорила, он не отвечает.
– Должно быть, тяжело находиться в темноте, – Эрик наблюдает за мной, не меняя позы. Он берет со стола пачку бумаг и пытается отдать ее мне, но я не беру. – Формуляры на усыновление. Я их заполнил.
Он листает страницы, пока не добирается до последней.
– Все устроено. Нужна только твоя подпись – здесь и здесь, – он указывает на места, отмеченные галочками. – И я скажу своему поверенному, чтобы он начал процесс.
Процесс. В Индии детей рожают по разным причинам. В деревне – для работы. Мальчики всегда предпочтительнее девочек, ведь они могут помогать в семейном бизнесе, будь то сельское хозяйство или торговля. Никто не осудит семью, в которой мальчики начинают работать в юном возрасте. Девочки же считаются обузой. Каждой надо собрать приданое – плату семье мальчика за то, что она берет к себе вашу дочь.
– Ребенок – не процесс, – по моей спине начинает струиться пот. – Такое решение надо принимать осознанно, – образ отца возникает передо мной. Он манит меня, зовет за собой. Я вспоминаю его беззаветную неизменную любовь ко мне. – Мы должны подумать, все обсудить.
– Я согласен, – Эрик бросает бумаги на стол. Он глубоко вздыхает, в его глазах появляется влажный блеск. – Я думал, что мы это уже обсуждали. Все эти годы, когда говорили о ребенке. Когда обставляли детскую. Я верил, когда ты сказала, что, по словам врача, способна иметь детей.
– Может быть. Но сейчас столько потрясений, – я чувствую, что происходит что-то не то. Я напрягаюсь, чтобы найти ответ, ищу слова, которые он хотел бы услышать. – Мой отец, приезд Сони, – я протягиваю к нему руку, но он отступает назад. – Мне просто нужно время.
– И поэтому ты предохраняешься? – из ящика стола, на котором лежат документы на усыновление, он вынимает листок бумаги. Мое сердце начинает колотиться. Эрик вручает листок мне, и я бросаю на него быстрый взгляд. Это письмо от моего врача. Я пропустила дату замены спирали. Спирали, которую поставила несколько лет назад для предохранения от беременности. Перед тем как поклялась любить и почитать Эрика, пока смерть не разлучит нас. – Тебе нужно время?
Как хочется, чтобы некоторые моменты в жизни не случались никогда! Чтобы можно было отменить сделанное. Эти моменты заставляют нас осознать, что мы не всемогущи. Нам остается только упасть на колени, протянуть руки и просить о помощи. Если повезет, то мы ощутим, что некто или нечто помогает нам подняться. Если нет, остаемся стоять на коленях в одиночестве.
– Когда ты сделала это? – спрашивает он. Факты отрицать бесполезно. Из-за потрясений последних недель визит к врачу совершенно вылетел у меня из головы. Раньше я никогда их не пропускала. Я была осторожной и верила, что Эрик не узнает о моей тайне.
Я начинаю считать. Один, два. Мысленно я тороплю себя, желая досчитать до восьми. Мое счастливое число. Прошли годы с тех пор, как оно мне снова понадобилось. Я почти забыла об этом способе спасаться. Я забыла об убежище, куда прячусь от реальности, где нахожусь в безопасности, где счастлива.
– Ты лгала мне, – Эрик ждет ответа. Он дает мне возможность оправдаться. – Ты дурачила меня.
– Нет! – Его боль заполняет всю комнату и душит меня. Он рассказывал, как мечтал о семье, которую мог бы любить, когда рос в приюте. Я знала о его переживаниях, но отвергла их безо всякой причины. Теперь он хочет знать почему. Слова мешаются у меня в голове, и я ищу те, которые положили бы конец этому кошмару. Я мысленно перебираю одно оправдание за другим, но знаю, что он их не примет. – Это не из-за тебя.
Три.
– Тогда из-за кого?
Он пристально смотрит на меня, как на незнакомку. Мне отчаянно хочется крикнуть ему, что это я! Женщина, на которой он женился, которую он любит больше всех. Мы записали наши взаимные клятвы. Он твердил любому, кто соглашался его слушать, что я самый важный человек в его жизни, что я его сбывшаяся мечта.
– Я не знаю. Быть матерью – это…
Мне вставили спираль за месяц до нашей свадьбы. Она служила гарантией того, что я не забеременею, хотя Эрик только и мечтал, что о ребенке.
– Моя семья… – пытаюсь я объяснить, и это единственное объяснение, которое у меня есть.
Четыре.
– Когда я познакомился с тобой, твое отношение к родителям заслуживало всяческих похвал. Папина любимая девочка, и всегда будешь ею, – он невесело усмехается. – Мне это нравилось. Я считал это доказательством того, как ты ценишь семью.
– Я и ценю, – но в чем же ценность семьи, если она представляет собой лишь калейдоскоп с битым стеклом? Любой поворот, любое сотрясение – и перед тобой появляется новая картина из осколков, собранных воедино. Когда ты воспитываешься в убеждении, что совершенна в несовершенном мире, начинаешь бояться, что в один прекрасный день лишишься этой привилегии. – Ты же знаешь, что дети значат для меня.
– И все же ты не хочешь иметь собственных детей, – его голос звучит обвиняюще.
Он ждет ответа. Причины, по которой я лгала ему. Я представляю себе, как рассказываю ему о своей семье – излагаю факты, о которых он не имеет понятия. Я создала для него легенду, в которую он поверил, и нашу общую реальность, основанную на выдумке. Если бы я рассказала, что мой отец, человек, которого я люблю всем сердцем, избивал моих мать и сестер, он стал бы смотреть на меня по-иному. Кто же я, если могу любить такого человека?
– Нет, – говорю я и останавливаюсь. Как я могу объяснить Эрику, что если я в своем запутанном жизненном лабиринте хотя бы на шаг сверну в ту или другую сторону, если я окажусь не той женщиной, какая есть, то рискую стать уязвимой? Рассказав ему обо всем, я приоткрыла бы занавес и обнажила все безобразие своего существования. Тогда он задал бы мне вопрос, который я боюсь задать себе сама: не любил ли папа меня потому, что я – его отражение?
– Я не хочу иметь детей, – говорю я тихо.
Он опускает глаза, чтобы скрыть боль. Рушатся стены, его любовь гибнет из-за моего отказа открыть правду.
– Тебе следовало сказать мне об этом сразу. Я мог бы жить с этим, если бы знал, – он опускает голову. – Но я не могу жить во лжи. Я заслуживаю большего. Я давал тебе больше.
Шесть, семь.
– Что ты хочешь сказать?
Восемь.
– Я хочу расстаться с тобой.
Марин
В Соединенных Штатах каждые девять секунд насилуют или избивают женщину. Марин может воспроизвести эту статистику по памяти. С тех пор как она обнаружила синяки на теле Джии, она изучила все факты. Каждая десятая девушка признает факт физического насилия во время свиданий – это показал анализ данных, собранных за последний год. Большинство тинейджеров подвергаются избиениям дома.
Теперь Джия и Марин избегают друг друга. Марин колеблется между потрясением и яростью. И это то, чего ищет от жизни дочь? Побоев и боли? Когда вернулся Радж, Джия, сжавшись, смотрела на Марин, молча умоляя ее не рассказывать о ее тайне. Марин, которая всю жизнь хранила тайны, приняла решение легко. Она вела себя так, будто ничего не произошло. И для Раджа Марин и Джия продолжали жить своей сказочной жизнью, а он ни о чем и не подозревал.
Марин дважды пыталась поговорить с Джией, чтобы выяснить, откуда у нее синяки. Оба раза Джия отказывалась отвечать. Она говорила, что это не важно.
– Со мной все хорошо, мама.
Но у нее вовсе не было «все хорошо», и Марин не знала, как исправить положение. Ответ пришел сам собой.
Через два дня после их ссоры Джия собиралась в школу. Когда она потянулась к буфету за коробкой овсяных хлопьев, рукав ее рубашки сполз вниз, обнажив свежие синяки.
– Господи, что это? – выдохнула Марин, но она уже все поняла. Такие следы остаются, когда человека хватают за руку, чтобы нанести удар по лицу или по животу.
– Ничего, мама, – Джия быстро опускает рукав. Оставив хлопья на полке, она пытается выскользнуть из кухни, но Марин преграждает ей путь.
– Если я стяну с тебя рубашку, то увижу новые синяки, не так ли? – Марин знает, как это происходит. Пока заживают старые ушибы, появляются новые. Будто истязателю необходимо постоянно видеть следы своей работы. Ему требуется ставить на жертву клеймо, показать, что она принадлежит ему, чтобы никто не вздумал вмешаться.
– Нет, – отвечает Джия, понизив голос. – Почему ты говоришь такие вещи?
– Потому что я была на твоем месте, – почти успевает произнести Марин, но, как всегда, отступает. Брент был виртуозом – следы от его побоев оставались тайной для всех. И Марин, как и Соня, и Рани, была его сообщницей, не показывая их никому.
– Джия, – произносит Марин, но уже поздно. Помахав рукой, дочь вылетает из дома с улыбкой, прилипшей к ее лицу. Закрыв дверь, Марин опускается на пол и тяжело дышит.
– Джия ушла в школу? – Радж спускается по лестнице с дымящейся чашкой чая в руке. При виде Марин, сидящей на полу, он подбегает к ней, пролив по дороге чай. Сдобренная специями жидкость растекается по мраморному полу. Марин тупо наблюдает, как лужица достигает ковра, и думает, как отчистить пятно.
– Что случилось, Марин? – спрашивает Радж.
Она пристально смотрит на него. Это ее муж, но он ей совершенно чужой. Марин никогда не рассказывала ему о прошлом, о детстве. Для этого не находилось причин, это было бы лишним. Зачем? К чему жить прошлым, когда ей подвластно будущее?
Муж ей не наперсник, не друг. Она не делится с ним неприятностями и успехами на работе. Они не пересказывают друг другу сны, их жизни не переплетаются. Джия – единственная нить, связывающая их, и если с ней что-то случится, у них не останется ничего общего.
– У Джии синяки на теле, – сознается Марин и отнимает у него руку. – На животе, на спине, а теперь и на руке.
– Что? – он отшатывается. – Как она, черт побери, получила их?
– Я не знаю.
Странная это штука – делиться с кем-то своей ношей. Вы воображаете, что она станет от этого легче, что боль, которая засела в вас, как свинец, ослабнет. Но почти всегда бывает наоборот. Реакция Раджа только напомнила ей о ненормальности положения. Марин отстраняет от себя мысли об этом и сосредотачивается на пятне от пролитого чая, уже полностью впитавшегося в ковер. У пятна причудливые очертания.
– Какая-то болезнь? Но ведь она не может начаться с синяков, правда?
Марин нравится эта мысль, но она упрекает себя за это. Какой родитель пожелает болезни своему ребенку?
– Джия не больна, Радж, – говорит она. – Ее избили.
Он в ярости оборачивается к ней. Когда человек теряется, он набрасывается на первого попавшегося.
– Это ты сделала?
Она медленно поднимается и смотрит ему в лицо – партнеру, мужу, а теперь, когда они оба в отчаянии, врагу. Ей хочется сильно ударить его, чтобы показать ему, что она дочь своего отца, но она пересиливает себя.
– Я не касалась нашей дочери. А ты? – побив противника его же оружием, она наслаждается его ужасом.