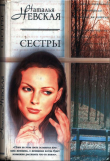Текст книги "След сломанного крыла"
Автор книги: Седжал Бадани
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
Рани не отвечает. Она смотрит на свою внучку, недоумевая, как и когда та узнала правду. Она пытается спросить, но слова застревают у нее в горле. Она не может произнести ни звука. Она гладит Джию по спине, словно капризного ребенка, и тихо выходит из комнаты. Она медленно спускается по лестнице, каждый ее шаг – шаг в преисподнюю. Она крепко вцепляется рукой в перила, иначе от страха может поскользнуться и скатиться вниз.
Рани останавливается на нижней ступеньке, шевеля губами, когда из своего кабинета появляется Марин.
– Мамми! – она кидается к матери. – Боже, ты совсем побелела! Что случилось?
– Она знает, – шепчет Рани, не смея взглянуть на дочь, – она знает.
Марин не нужны никакие объяснения. Каждая из них бережет тайну, которую они хранили так долго, словно какое-то сокровище.
– Нет. Этого не может быть, – даже сейчас она понижает голос, боясь, что Радж может услышать ее. – Этого не может быть.
– Она сама сказала мне, – Рани кажется, что ступенька под ней проваливается, и у нее подгибаются колени. Она тянется к мангалсутре, висевшей на шее, забыв, что сняла ее. – Джия сказала, что это не так уж страшно, ведь и твой отец бил тебя.
– Нет! – от Марин исходят волны гнева, которые заполняют пространство между ними. – Тебе лучше уйти, – Марин оглядывается, вид у нее отчаянный. Она подходит к двери и открывает ее: – Уходи!
– Джия – моя внучка, – Рани не двигается с места. Она видит, что за гневом дочери кроется страх, что ею управляет страдание. – Я не уйду.
– Это ты ей рассказала.
Рани отшатывается, будто Марин дала ей пощечину.
– Что ты! Никогда! Зачем мне это?
– Чтобы причинить мне боль, – эти слова звучат как приговор, который Марин вынашивала долгие годы. – Ничем другим это не объяснишь.
– Ты же моя дочь! – Рани выплачется позже, в своей комнате, без свидетелей. – Я скорее причиню боль себе, чем тебе.
– Может быть, я и поверила бы тебе, если бы ты хоть раз остановила его. Если бы ты хоть раз вмешалась, – Марин встречается с Рани взглядом, давая понять, что разговор окончен. – Но тебе не было до меня дела. А вот я, представь себе, беспокоюсь о своей дочери.
Рани кивает, не пытаясь спорить:
– Если я тебе понадоблюсь, я рядом.
И, не говоря ни слова больше, уходит.
* * *
Рани часами сидит в темноте, уставясь на лежащие перед ней фотографии. Она с трудом различает лица на снимках, но это не имеет значения. Она помнила их все эти долгие годы. Среди них есть одна-две фотографии ее родителей, которых она практически не видела со дня своей свадьбы. Они никогда не приезжали повидаться с ней в ее новый дом. У них было много детей, и они радовались, что избавились от лишнего рта. Рани приезжала домой всего трижды. Два раза – чтобы показать новорожденных Марин и Тришу, а в третий раз – чтобы попрощаться перед отъездом в Америку. Именно тогда, перед тем как Рани собиралась уходить, мать вынула новое сари, дорогое по тем временам. Оно было когда-то подарено ей родителями на свадьбу, и она отдала его Рани.
– Чтобы ты меня помнила.
– Мы еще увидимся, – убежденно сказала Рани. – Америка не так уж и далека.
Но мать уже не слушала, ее вниманием завладел кто-то из детей. Через год после приезда в Америку Рани получила известие, что мать умерла, а отец женился на вдове из соседней деревни. Рани вынула сари из гардероба и запихнула его в комод, чтобы не думать о матери, которую едва знала.
Перед ней лежат фотографии с дней рождения ее дочерей, когда они были маленькими, вместе с множеством снимков Брента. Ему нравилось фотографироваться во время путешествий. Он вручал фотоаппарат Рани, а потом передавал его по очереди девочкам. Сохранились его фотографии на фоне Большого Каньона и около Белого дома в Вашингтоне. Марин и Соня вытягивались в струнку и широко улыбались в объектив, боясь сделать что-нибудь не так и вызвать его гнев. Только Триша чувствовала себя свободно, не опасаясь отца.
Рани перебирает фотографии и понимает, что среди них нет ее снимков. Она снова перебирает их, чтобы окончательно удостовериться. Она всегда исполняла обязанности фотографа, Брент только показывал ей, как наводить фокус и поймать правильный ракурс. Никогда он не предлагал сфотографировать ее, запечатлеть ее красоту на бумаге. Ирония судьбы состояла в том, что дочь, которую он не любил больше остальных, оказалась единственной, кто разделил его страсть к фотографированию.
– Что ты здесь делаешь? – Соня включает свет, и Рани щурится, пока ее глаза не привыкают к яркому освещению. – Мам, ты что здесь сидишь?
– Я видела Джию, – рана еще не затянулась и кровоточит. Рани не знает, как остановить льющуюся кровь. – Она все знает.
– Откуда? – Соня понимает, о чем идет речь.
– Я не знаю, – Рани берет ножницы и начинает резать фотографии. Точными движениями она вырезает из всех снимков изображения Брента. – Марин думает, что это я ей сказала.
– Но ты же ей ничего не говорила.
Рани поднимает на нее глаза и прихватывает ножницами палец.
– Ты же мне веришь?
Соня смотрит на изуродованные фотографии, обдумывая ответ:
– У тебя нет на это причин.
– Верно, – Рани собирает обрезки с лицом Брента. – У Джии теперь есть официальное разрешение быть битой, – она кидает в мусор снимки – изрезанную на кусочки историю своей жизни. – Это я дала его ей.
Соня смотрит на дверь, этим жестом невольно показывая, как ей хочется убежать.
– Может быть, Джии нужно хоть какое-то оправдание, – она становится на колени и роется в фотографиях. Лица сестер смотрят на нее, как коллаж из сердечной боли. – Я ненавидела наши дни рождения.
Рани искренне удивляется:
– Почему?
– Надо было притворяться счастливой.
Внезапно у Рани возникает желание узнать ответ на вопрос, который ей всегда хотелось задать, но она не осмеливалась.
– Ты хотела бы, чтобы я сделала аборт?
Соня не поднимает глаз на нее и не выказывает никакого удивления, услышав ее вопрос.
– Да, – говорит она просто, – хотела бы.
– Прости меня, – Рани подавлена сегодняшними разоблачениями. Ей трудно все это переварить. Она опускает голову. – Прости.
Триша
Во втором классе со мной училась девочка по имени Мелинда, и она постоянно третировала меня. Она дразнила меня из-за одежды, которую мне перешивали после сестры, из-за моих длинных немодных кос, из-за дешевой сумки, которую я носила вместо рюкзака. Однако я была не единственной, кого она задевала. Она выбирала объекты для насмешек и била в цель без жалости. Мелинда пользовалась успехом в классе и всегда была окружена многочисленной свитой, поддерживавшей ее. Ее друзья готовы были напасть на любого, кого выбирала Мелинда. Если ты оказывалась ее жертвой, тебе не оставалось ничего другого, как выслушивать ее колкости. И никто не приходил на помощь из страха тоже попасть под удар.
Как-то зимой наша учительница услышала, как Мелинда насмехается над роти[21] и сакхом[22], которые я принесла на обед, и предупредила мою мучительницу, что в следующий раз отправит ее в кабинет директора. Это предупреждение оказалось благословением для меня, и я благополучно окончила второй класс под защитой своей классной наставницы. Но этому не суждено было длиться долго. Несколько месяцев спустя заболела и умерла мать Мелинды. Теперь Мелинда сама превратилась в мученицу, в жертву обстоятельств, у которой над головой сиял нимб.
И нас, и наших родителей предупредили, чтобы мы были добры с ней. Я думала, что горе утраты изменит ее. Но как леопард не в силах избавиться от пятен на своей шкуре, так и жестокий человек не может перестать быть жестоким. Мелинда вернулась к своим дьявольским привычкам и следующие два года с удовольствием издевалась надо мной. Только когда ее отец решил переехать в другой город, я наконец вздохнула свободно. Но я запомнила еще один важный урок, который никогда потом не забывала, – даже слабостью можно манипулировать, превращая ее во власть над людьми.
* * *
Услышав о беде, случившейся с Джией, я чуть не отправила сообщение Эрику: он всегда испытывал к моей племяннице слабость. Я с большим трудом удержалась, чтобы не написать ему.
Не зная, чем помочь Джии, я отправилась по магазинам. Несколько часов я прочесывала отделы безделушек и лакомств, гадая, что понравится девочке. Я купила несколько мягких игрушек-зверушек, разные сорта шоколада, несколько недавно вышедших дисков ее любимых артистов, о которых, как мне помнилось, она говорила, и среди прочего – ежедневник.
Я приезжаю к ней без предупреждения и вижу, что поступила опрометчиво: кроме домработницы, дома никого нет. Для Джии я оставляю корзину с подарками, для Марин – записку с просьбой позвонить мне, ведь я знаю, что иначе она не позвонит. Если бы не мама, я бы никогда не узнала, что случилось.
Когда я усаживаюсь в свою машину, телефон начинает сигналить. Я ожидаю звонка от мамы, но тут мое сердце начинает биться сильнее, потому что это сообщение от Эрика.
«У тебя есть время поговорить?»
«Да. Разумеется», – я отвечаю моментально, словно школьница.
«С нашими адвокатами».
Телефон падает на кожаное сиденье. Ладони становятся влажными. Он хочет расстаться навсегда. Я нажимаю педаль газа, не ответив ему. Сначала я еду без всякой цели, потом принимаюсь за дела. Я заезжаю в химчистку, а заодно и в булочную. Приехав домой, вижу на подзеркальнике забытую тисненую карточку с приглашением на благотворительный завтрак. Взглянув на себя в зеркало, решаю, что мои слаксы и летняя блузка вполне подойдут. Я оставляю молоко и яйца в прихожей и тороплюсь к выходу.
– Триша! – восклицают приятельницы при моем появлении. – Мы не ожидали тебя.
Думаю, действительно не ожидали. Дурные новости, как правило, распространяются быстрее, чем хорошие. Все знают, что Эрик ушел из дома, но никто не знает почему. Они могут только строить предположения. Ни одна из них не сможет догадаться об истинной причине.
– Мне не хотелось пропускать нашу встречу, – говорю я, изображая улыбку.
Я сижу со своими приятельницами за столом и смеюсь над тем, что они говорят. Мы ведем светский разговор о погоде, о моде, обсуждаем голливудские сплетни, как будто они как-то могут повлиять на нашу жизнь. Мы немножко язвим по поводу местных властей, но не позволяем себе ничего оскорбительного из опасения, что наши слова может кто-то повторить. Мы делаем взносы в нашу местную благотворительную кассу. Я достаю чековую книжку, готовая пожертвовать обычную сумму, и спрашиваю, на что мы жертвуем.
– Это убежище в Сан-Франциско для детей и женщин – жертв семейного насилия, – отвечает моя давняя знакомая, подписывая свой чек. Она ставит росчерк в конце подписи, я смотрю на ее руку с отличным маникюром. – Господи, я не могу даже представить себе, через что проходят эти люди! А ты?
«Нет», – хочу сказать я, чтобы не нарушить созданной мной иллюзии, но не могу. Вместо этого я пытаюсь писать, но моя рука дрожит. Мой отец лежит в коме. Эрик хочет навсегда уйти из моей жизни. Моя племянница – наше будущее – избита. Это не соломинка ломает спину верблюда, на меня навалилась целая гора. Я смотрю на бокал с вином и думаю, что почувствовала бы, если бы запустила им о стену. Но стекло не бьется на аккуратные кусочки. Оно разлетается на тысячи осколков, которые невозможно собрать вместе снова. Я встаю, оставив стекло нетронутым, а чек неподписанным.
– Да, я могу себе представить, – говорю я подружкам, повергая их в шок. За долгие годы общения ни одна из них не догадалась, как много я могла бы рассказать. – Я знаю, через что им пришлось пройти, потому что наблюдала подобное все свое детство.
Падающее в лесу дерево не издает звука, потому что некому услышать его. Так и я прятала от всех свое прошлое, уверенная в том, что его не существует, раз я молчу.
– Триша, о чем ты говоришь? – спрашивает меня одна из приятельниц, глядя на меня, как на незнакомку. – Это невозможно.
Я тоже старательно притворялась, что это невозможно, но сейчас я устала. Поддерживать красивый фасад оказалось тяжелее, чем я думала. Я убедила себя в том, что если буду играть роль королевы на сцене, то стану тем человеком, которого изображаю. Но маска соскальзывает с моего лица, и, сколько бы я ни старалась, я не могу удержать ее на месте. Признавая свое прошлое, я бормочу:
– Хотела бы я, чтобы это было так.
Встретившись с изумленными взглядами, я пристально смотрю на этих женщин, которых звала подругами.
– Мой отец бил маму и моих сестер все наше детство.
Я уверена, что теперь все смотрят на меня с отвращением, и отворачиваюсь, думая, что же должны каждый день чувствовать Марин и Соня.
– Прости нас, дорогая, – шепчет подружка, накрывая мою руку своей. – Мы же не знали.
Застигнутая врасплох ее сочувствием, я опускаю голову. Мне стыдно за то, откуда я пришла, за то, где я нахожусь, и за то, что я не знаю, куда я пойду. Мне нечего больше терять, и я возвращаюсь к своей пустой машине и пускаюсь в бесцельное путешествие.
* * *
Это официальный зал для совещаний. Войдя в него, я тут же замечаю занавеси и обивочную ткань на стульях. Стол дорогой, из вишневого дерева. Эрик уже сидит рядом с женщиной в деловом костюме. Полагаю, она партнер фирмы. На меньшее он не согласился бы. Сила требует силы – таковы правила игры.
– Где твой адвокат? – спрашивает Эрик, и это первые слова, которые я от него слышу с тех пор, как он ушел из дома неделю тому назад.
– У меня нет адвоката, – я не стараюсь казаться бестолковой или упрямой. Просто все это слишком неожиданно для меня, пока мы не обсудили наши следующие шаги. – Я думала, мы сумеем поговорить без юристов.
– Я плачу пятьсот долларов в час своему адвокату не за пустые беседы, – огрызается Эрик.
Я пытаюсь собраться с мыслями. Это не тот человек, которого я знала, за которого вышла замуж. Не тот, чей запах еще хранит каждая комната в нашем доме, напоминая о счастливых временах.
– Тогда зачем мы здесь?
– Чтобы обсудить условия развода, – вмешивается адвокат. Она говорит со мной так, словно я неразумное дитя, которому надо все растолковывать.
– Ты хочешь развода? – я не обращаю на нее внимания и смотрю только на своего мужа… – Это так? Между нами все кончено?
– Я думаю, будет лучше, если мы обсудим финансовые вопросы и раздел имущества, – произносит женщина ледяным тоном. – Эрик очень щедр в отношении алиментов. Я полагаю, у вас нет иного источника дохода?
Она видит во мне содержанку, которую легко купить и отставить в сторону, в то время как она сама – человек, привыкший держать бразды правления в своих руках и брать ответственность на себя. Но и я не намерена снимать с себя ответственность.
– Между нами все кончено? – снова спрашиваю я Эрика. – Из-за ребенка?
– Потому что ты лгала мне, – отвечает Эрик, который больше не в силах молчать. – Потому что я верил тебе.
«Ты тоже лгал мне», – хочу я крикнуть ему, стараясь удержать слезы.
– Ты говорил, что будешь любить меня, несмотря ни на что, – говорю я, бросая ему в лицо его же слова. Мне до боли хочется поколебать его веру в то, что семья – это всегда что-то прекрасное. Но я молчу, сохраняя нашу с матерью и сестрами тайну. Он никогда не узнает о невидимых шрамах, каждый из которых был когда-то открытой раной. – Думаю, мы оба лгали.
– Если ты так это видишь, – говорит он, – то нам не о чем говорить.
Мы в тупике. Возврата назад нет, отступать некуда. В голову не к месту приходит воспоминание детства, и я будто слышу отцовский шепот. Мы с соседскими детьми катались на велосипедах. Я еще не умела как следует кататься и все время падала; страх заставлял меня быть осторожной. Ребята дразнили меня, и я, обиженная, заплаканная, помчалась домой. Вбежав в дом домой, я влетела прямо в отцовские объятия. С особенной нежностью он вытер мои слезы и сказал:
– Ты замечательная, доченька. Не позволяй никому убедить тебя, что это не так.
– Наверное, ты прав, – говорю я, возвращаясь к настоящему. Я отворачиваюсь от Эрика и смотрю на женщину рядом с ним. Теперь я покажу ей, какова я на самом деле. – Мне не нужны его алименты. Я освобожу дом к концу месяца.
Я отодвигаю свой стул, готовая уйти. По пути к двери я оглядываюсь и вижу, что Эрик смотрит мне вслед. Я хочу сказать «до свидания», но не говорю.
* * *
Я там, где мысленно нахожусь всегда, – рядом с отцом. Я сижу около его кровати, его грудь вздымается и опускается вместе с респиратором. Я беру его руку в свои, его холод проникает в мое тепло и замораживает меня. Я надеялась на противоположное – он всегда был моим убежищем от бурь. Только с ним я чувствовала себя в безопасности. Когда твой корабль срывается с якоря, ты становишься жертвой прихотей огромного океана и не знаешь, куда он вынесет тебя, но все равно вынужден держаться.
– У меня никого не осталось, папа, – говорю я ему. – Я совсем одна.
Я жду и жду хоть чего-нибудь, что могло бы дать мне надежду. Какого-нибудь знака, который повел бы меня по нужному пути и привел бы к ответу на главный вопрос. Но моя дорога до сих пор не вымощена, и нет на ней знака, указывающего мне верное направление. История доказала, что события, которые подрывают устои твоей жизни, прячутся в таких тайниках души, что их даже вообразить нельзя, и всегда приходят неожиданно. Никакой компас не поможет избежать их, никакой набат не предупредит об их приближении. Они происходят, и ты должен сделать выбор: либо дать волнам поглотить тебя, либо бороться с ними, даже если при этом твои легкие заполнятся соленой водой.
– Я думаю, поэтому-то я и осталась, – тихо говорит Соня, входя в палату как раз в тот момент, когда я произношу слова, обращенные к отцу.
– Что ты здесь делаешь? – быстро спрашиваю я, смутившись, оттого что она меня слышала.
– Я работаю здесь, – напоминает она.
– Нет, не в больнице, – я обвожу рукой помещение: – Я имею в виду здесь, в папиной палате?
Она смущается не меньше меня, и мы обе настораживаемся. Соня оглядывается по сторонам, как будто ей не хочется отвечать. Но я не даю ей увильнуть.
– Ты пришла сюда навестить его? – спрашиваю я, заранее зная ответ.
– Да.
Сказать что-либо другое означало бы солгать. Она и не пытается, потому что я с детства знаю все ее уловки. Обычно я ловила ее на лжи и шантажировала, чтобы заставить дать то, что мне от нее было нужно. Боясь нашего отца, она всегда плясала под мою дудку. А теперь я раздумываю, не была ли и я сама марионеткой, чьи ниточки были видны всем, кроме меня.
– Что ты ощущала, когда он бил тебя? – осторожно спрашиваю я ее, охваченная стыдом. Я думаю о благотворительном завтраке, о благотворительности, направленной на защиту таких семей, как наша.
Соня отступает на шаг, готовая убежать. Это вопрос, который я никогда не задавала, не осмеливалась задать. Правда изменила бы образ отца в моих глазах. Он стал бы человеком, которому я не смогла бы верить. Даже когда я видела, как он бьет маму и сестер, я убеждала себя, что на самом деле это не он. Эти сцены были для меня как будто не совсем реальными. А еще я думала, что, возможно, мать и Марин с Соней и сами ведут себя неправильно. Если бы только они могли стать другими, более идеальными, он бы их не трогал.
– Я чувствовала себя так, будто от меня ничего не осталось, кроме отпечатка его руки, – говорит Соня, и ее шепот заглушает шум у меня в ушах. – Он владел мной. Я была лишь предметом, на который он изливал свою ярость.
– Так как же тебе удается жить без него?
Этот вопрос подсказан мне инстинктом. Я знаю, что Марин и Соне словно ампутировали ноги. Они учились ходить с протезами, часть их самих была насильственно у них отнята.
В ее взгляде мне видится что-то невысказанное. Тайна, которой она не поделится.
– Я просто стараюсь все забыть.
Девочка-подросток бредет по коридору, опустив руки. Ее горло сдавлено от рыданий, но их никто не слышит. Хорошо, что темнота скрывает ее грехи. Вокруг нее только воздух, но она не может вдохнуть его. Она задыхается, пытается припомнить свое имя, но не может. Она дотрагивается до двери, и та открывается. Другие двери закрыты перед ней и не дают ей убежища. Она входит в чистую ванную комнату, но света там нет. Она спотыкается в темноте больно ударяется головой. Даже в темноте она видит пятна крови на своих руках. Она включает свет, потом включает воду и смывает кровь. Взяв полотенце, она вытирает руки. Потом она кидает полотенце в раковину и зачарованно смотрит, как вода смывает кровь, крутится вокруг водостока, а затем исчезает из виду. Когда вода становится прозрачной, она плещет ею себе в лицо, пока не узнает лицо в зеркале.
Я отпускаю папину руку, и по моей спине пробегает холодок. Я обхватываю себя руками, стараясь согреться. Я не чувствую под собой ног. Мысли об Эрике, папе, Джии – призраках прошлой жизни – кружат вокруг меня. Я чувствую, что от меня ускользает власть над собственным здравомыслием, и меня пробирает дрожь.
– Эй, – говорит Соня, кладя свою руку поверх моей. – Что с тобой, Триша? – другой рукой она осторожно притягивает меня к себе. А потом – впервые в нашей жизни – мы меняемся с ней ролями. Она крепко обнимает меня. Наши сплетенные руки похожи на мост, способный обрушиться в любую минуту. – Сестренка, у тебя все будет хорошо.
Соня – сестра, которую я любила, потому что должна была любить. Все детство она ходила за мной, как щенок. Она смотрела на меня снизу вверх, что бы я ни делала. Никакая жестокость, на которую способны дети, не могла поколебать ее беззаветной любви ко мне. Она благоговела передо мной, и в ее глазах я не могла совершить ничего неправедного. Я не помню, как часто пользовалась этим своим преимуществом. Я потеряла счет случаям, когда воспринимала ее поклонение как должное. А теперь я понимаю: сколько бы я ни убеждала себя, что ей повезло иметь такую сестру, как я, мне повезло не меньше.
– Не будет, – шепчу я, уверенная в обратном. Я кладу голову Соне на плечо; силы, которые мне удалось обрести с годами, покидают меня. Мой отец, моя опора умирает, и единственный человек, кто поддерживает меня, – маленькая девочка, которая, как я думала, никогда не научится стоять на ногах.
– Нет, будет, – говорит она, подчеркивая каждое слово, – потому что ты самый сильный человек из всех, кого я встречала.
– Ошибаешься, – мне розовые очки больше не помогают, и я хочу, чтобы с ними рассталась и она. – Посмотри на меня. Посмотри на меня, – от моих слез ее плечо намокло. – У меня ничего не осталось.
– У тебя есть ты, – говорит она категорично. – Ты заставляла нас играть, как бы плохо нам ни было. Ты скрепила нашу развалившуюся семью, – она немного отстраняется и смотрит мне в глаза. Ее собственные глаза влажны от слез. – Ты заставила меня поверить, что жить стоит, как бы мне ни хотелось умереть.
Я обнимаю ее за талию с благодарностью большей, чем могу выразить словами. Мы стоим рядом, обнявшись, как две детали головоломки, которую уже не сложить полностью. Но я впервые вижу то, чего не видела раньше: моя маленькая сестренка – кладезь силы. И она помогает мне проснуться от кошмарного сна, от которого сама я избавиться не в состоянии.
Соня
Я переодеваюсь в спортивный костюм и сую в уши наушники. Сейчас шесть часов вечера. После разговора с Тришей мне нужно хорошенько проветриться.
Я выхожу из дверей больницы и, всей грудью вдыхая свежий воздух, начинаю пробежку по дорожке вокруг больницы к Стэнфордскому студенческому городку. Сначала я бегу медленно, чтобы разогреть мышцы. Солнце клонится к закату и уносит за собой раскинувшееся над городом теплое покрывало.
Сперва я обегаю кругом студенческий городок, а потом пробегаю сквозь него. Здания, в которых я занималась, площади и дорожки кампуса манят меня к себе. Как это странно! Когда-то мне становилось тошно от одного их вида, а теперь они кажутся такими родными! Я стряхиваю с себя это ощущение, не желая давать воли эмоциям. Я включаю музыку погромче, чтобы прогнать ненужные мысли, и бегу еще полчаса, пока тело не начинает просить передышки. По лицу течет пот, рубашка тоже вымокла. Я перехожу на неторопливую трусцу и возвращаюсь к больнице приблизительно через два часа после начала пробежки.
Я иду прямо в душ, где каскады теплой воды расслабляют мои напряженные мускулы, и перебираю в уме события последних дней: беду с Джией, разговоры с Дэвидом и с Тришей. Я прислоняюсь головой к кафельной стене, мечтая, чтобы сердечная боль исчезла, рассеялась, как окутывающий меня пар. Но это детское желание никогда не сбудется. Я возвращаюсь к реальности, выключаю воду и одеваюсь в пустой раздевалке. Отбросив назад влажные волосы, я выхожу оттуда.
– Хорошо пробежалась?
Услышав голос Дэвида, я замираю. Подняв глаза, я вижу, что он стоит в помещении, разделяющем мужскую и женскую раздевалки. На нем нет белого халата, рукава рубашки засучены до локтей. Вид у него усталый, на лице беспокойство.
– Извини, я не хотел потревожить тебя, – говорит он, видя мою реакцию. – Я просто заметил, что ты собралась побегать, и надеялся перехватить тебя, когда вернешься.
– Ты следишь за мной? – спрашиваю я резко.
– Да, – отвечает он, не колеблясь, и легкая улыбка трогает его губы. – Я только притворяюсь доктором. Моя настоящая работа – следить за каждым твоим движением, – он подмигивает мне и понижает голос: – Но, пожалуйста, не говори об этом пациентам. Это подорвет мою репутацию.
Он поставил меня на место, и я не могу не усмехнуться в ответ:
– Хорошо. Твоя тайна умрет вместе со мной.
– Буду тебе весьма признателен, – повернувшись к кофеварке, он видит, что на дне контейнера осталась только кофейная гуща. – Если я заварю свежую порцию, ты выпьешь кофе со мной?
Я отрицательно качаю головой:
– Мне пора домой.
– Ладно, – он поворачивается ко мне, забыв о кофе. Глядя мне в глаза, он мягко произносит: – Я надеялся, что смогу поговорить с тобой, поэтому и следил.
Ощущая привычную неловкость, я делаю шаг к двери.
– Нам не о чем говорить.
Когда я прохожу мимо него, он протягивает руку и ласково удерживает меня.
– Можем ли мы обсудить то, что ты сказала вчера? – он нежно привлекает меня к себе и наклоняется к моему уху: – Почему ты хочешь, чтобы твой отец умер?
– Это не важно, – отвечаю я и отнимаю руку. Я продолжаю чувствовать тепло от его прикосновения. Я непроизвольно тру это место, пытаясь избавиться от будоражащего покалывания. Он следит за моими движениями, а потом бросает вопрошающий взгляд. – Ты не поймешь.
– Попробуй объяснить.
– Нет! – почти выкрикиваю я. Уровень кислорода в комнате снижается, и я задыхаюсь. – У тебя есть все, – говорю я, жестом обводя комнату. – Твоя жизнь и так полна.
Он смеется, но смех его звучит глухо.
– Зачем мне все это? – он качает головой. – Мне нужна ты.
– Не говори так, – прошу я его. – Забудь обо мне, – я умолкаю, боясь проговориться. – Пожалуйста, Дэвид, оставим все как есть, – я ухожу, не оглянувшись. Но точно знаю, что он не пойдет за мной.
Марин
После ареста Адама прошло несколько дней. Джия сидит в своей комнате, ест только тогда, когда ей приносят еду, и принимает душ через день. Она отказывается говорить с нами, даже с Раджем. Горе отгораживает ее от самых близких людей. Марин так и подмывает войти к ней, сорвать с нее одеяло и приказать встать и вернуться к нормальной жизни. Но она сдерживается. Она даст Джии пять дней, а потом потребует, чтобы та отправлялась в школу. Пять дней – это великодушно, это больше, чем необходимо. Собственно, на этом настоял Радж. У Джии целая неделя, чтобы оплакать человека, который ее бил.
В последний день своего добровольного заточения Марин сидит за рабочим столом, когда раздается звонок. Сон ускользает от нее. Вместо того чтобы метаться в постели, она проводит ночи за работой. Когда ей требуется передышка, она ложится на диван в своем кабинете и закрывает глаза на несколько минут. Но мысли о Джии заставляют ее сердце колотиться, адреналин побеждает изнеможение, и ей приходится вернуться к работе, чтобы избежать приступа паники.
– Да? – произносит Марин, не позаботившись взглянуть, кто звонит.
Это полицейский детектив. Он спрашивает, когда ему лучше прийти, чтобы задать Джии несколько вопросов. Она отвечает, что годится любое время, и договаривается о встрече после ланча. Откинувшись назад в своем кресле, Марин смотрит на мерцающий экран компьютера. Голубое свечение окутывает стол. Мысль об Адаме, сидящем за решеткой, немного успокаивает ее.
– Радж? – она выходит из кабинета, чтобы разыскать мужа, и находит в его кабинете в другом крыле дома. Войдя, Марин закрывает за собой дверь.
– Сегодня придет детектив, чтобы задать Джии вопросы.
– Какие?
Он раз десять пытался поговорить с Марин с глазу на глаз о том, что произошло. О том, как случилось, что Адама арестовали в школе, а Джию отправили в больницу на освидетельствование. Марин уклонялась от разговора, отвечая кратко и неопределенно. В конце концов Радж сдался, но от его молчания стена между ними стала еще толще.
– Я не знаю, Радж, – резко говорит Марин. Недостаток сна заставляет ее терять терпение. – Я не медиум.
– А я думал, у тебя на все есть ответ, – бормочет Радж, возвращаясь за письменный стол.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Ничего. Я только удивляюсь, что ты решила рассказать мне о детективе, хотя и не подумала посвятить во все остальное.
– Если ты таким образом собираешься поблагодарить меня за спасение нашей дочери от парня, который избивал ее… что ж, не стесняйся!
Марин со стуком закрывает дверь и выходит. Перешагивая через две ступеньки, она распахивает дверь в комнату Джии и включает свет движением более энергичным, чем необходимо.
– Вставай! – приказывает она и срывает с Джии одеяло, как ей хотелось уже несколько дней.
– Что?
Золотисто-каштановые пряди волос спутались в клубки. Лицо Джии опухло от слез, она исхудала. Взгляд пуст, будто она ищет что-то, но ничего не находит. Марин, отшатнувшаяся при виде дочери, не знает, как ей следует поступить. Однако многолетняя привычка берет верх, и она идет напролом.
– Сюда придет детектив, чтобы задать тебе несколько вопросов, – Марин роется в гардеробе Джии и вытаскивает подходящий топ и джинсы. Затем проходит в ванную и включает нагреватель. – Тебе надо принять душ и одеться.
– Я не хочу ни с кем разговаривать, – говорит Джия, укладываясь обратно в постель и натягивая одеяло на голову. – Оставьте меня в покое.
Ее слова вызывают у Марин реакцию, которую она от усталости не в силах сдержать. Откинув одеяло прочь, она повышает голос: – Вставай сейчас же! – каждое слово она выговаривает ясно и четко, не оставляя места для возражений. – Не зли меня.
– А что будет? – спрашивает Джия, спуская ноги с кровати. – Ты снова меня ударишь?
– Я уже извинилась за это, – говорит Марин, не позволяя себя спровоцировать. – А ты должна выглядеть прилично перед детективом.