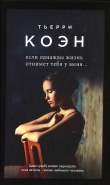Текст книги "Неделя в декабре"
Автор книги: Себастьян Чарльз Фолкс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц)
Адама содержали в «Уэйкли» – приземистом строении, стоявшем в самом дальнем от ворот углу больничной территории. Габриэль шел к нему привычным путем – через парковку для персонала, пищевой блок с его огромными баками для отходов. Дверь затопленной паром кухни стояла нараспашку, проходя мимо нее, он уловил запашок перекипевшей подливы.
Прямо за дверью «Уэйкли», в которую вошел Габриэль, сидел в стеклянной будочке Роб, мускулистый старший медбрат отделения.
– Добрый вечер, Роб. Я звонил сегодня. Вам передали?
– Да, доктор Лефтрук сказала мне, что вы придете. Пойдемте, я вас провожу…
Габриэль миновал, идя за Робом, короткий коридор и оказался в столовой «Уэйкли». У стен ее сидели в креслах двое пациентов, сбежавших от вечно включенного телевизора находившейся сразу за столовой комнаты отдыха.
У одного из окон стояла Вайолет – Габриэль видел ее здесь при каждом своем визите: худенькая, сгорбленная старушка в юбке, шедшей складками под удерживавшим ее ремешком, она смотрела в темноту, неизменно подняв в приветственном – а может быть, и в прощальном – жесте правую руку.
На проходивших мимо нее Роба с Габриэлем она никакого внимания не обратила. Включенный на полную громкость телевизор показывал некий конкурс знаменитостей. В комнате отдыха происходило что-то вроде драки за право распоряжаться пультом управления – между стариком, который хотел переключиться на другой канал, и горластой молодой женщиной со светлыми, уже, впрочем, потемневшими у корней волосами, желавшей любоваться знаменитостями. Натоплено здесь было так, что большинство пациентов ограничилось по части одежды одними лишь майками. Для чтения в комнате не хватало света – единственная настольная лампа озаряла висевшее здесь, чуть колеблясь, облако сигаретного дыма, сквозь которое Габриэль с трудом различил брата. Габриэль пересек комнату, остановился прямо перед ним.
– Привет, Адам. Поговорим? Может, перейдем в другую комнату?
Адам ничем не показал, что узнает его. Он родился за полтора года до Габриэля, однако на вид был гораздо старше – изрядное брюшко, седина в давно не стриженных волосах.
– Я тебе кое-что принес, Адам. Пойдем.
Адам покинул следом за Габриэлем душную комнату отдыха, и они, пройдя по другому короткому коридору, оказались в помещении со стеклянной стеной – днем здесь проводили сеансы групповой терапии.
Сейчас помещение пустовало, и Габриэль, открыв выходившее на темную лужайку окно, сел рядом с братом. Для пациентов «Уэйкли» особых мер безопасности не требовалось, поэтому на окнах не было ни запоров, ни решеток.
– Ну как дела? – Габриэль протянул Адаму коробочку фиников и пачку сигарет, и тот молча принял их.
Приходя к Адаму, Габриэль вел себя так, точно с братом все было в порядке. Причин тому имелось несколько. По представлениям Габриэля, Адаму должно было нравиться, что с ним разговаривают не свысока, не обращаются как с душевнобольным. Да и сам Габриэль чувствовал себя от этого лучше – как будто никакой трагедии не произошло и Адам не обратился в руину, оставшуюся от того человека, каким он был прежде. И в любом случае, как еще мог он вести себя с братом? Как мог разговаривать с ним? Только нормально и уважительно. А последняя, самая иррациональная, причина состояла в продолжавшей теплиться в нем надежде на то, что Адаму удастся «опамятоваться», что, поскольку брат сохранил свою телесную оболочку, пусть даже располневшую и одрябшую, где-то в ней еще может таиться, подобно язычку пламени, продолжающему мерцать в глубокой, узкой расщелине, и он сам, прежний.
– Ты вообще выходишь иногда из здания? Гуляешь? Может, тебе стоит снова начать играть в сквош? Раньше он тебе нравился.
Адам вытянул из пачки сигарету, щелкнул старенькой газовой зажигалкой, с которой никогда не расставался даже на минуту.
– Ты играл намного лучше меня, – продолжал Габриэль. – Помнишь, как ты однажды разделал меня в лондонском клубе?
Адам жадно затянулся дымом. Габриэль иногда думал, что после того, как курение в общественных местах поставили вне закона, после того, как запретили курить на улицах и стали внушать людям, что табачный дым неприемлем в любом из домов Англии, после того, как в магазинах перестали продавать сигареты, курение осталось по-настоящему доступным лишь обитателям сумасшедших домов.
– Ты женат? – спросил Адам.
– Ты же меня знаешь. Я не люблю спешить, – ответил Габриэль.
– Тебе можно жениться. Ты можешь взять трех жен. Но тогда тебе придется хранить им верность.
– Конечно.
– Если не сохранишь, если станешь спать с чужой женой, тебя будет ждать кара.
– Я не стану.
– Вечная кара. В огне.
– Ты получил новые указания?
Адам не обратил на этот вопрос никакого внимания.
– Кто с тобой говорил? – спросил Габриэль.
В самом начале недуга Адама, еще до того, как хоть кто-то понял, насколько серьезно он болен, Габриэль верил его рассказам о странных встречах, о гостях, которые приходили к нему, о получаемых им указаниях. Если некоторые подробности этих рассказов вступали в противоречие одна с другой или выглядели притянутыми за уши, Габриэль решал – поначалу, – что брат просто преувеличивает. А после, когда стало ясно, что Адама посещают галлюцинации, Габриэль попытался докопаться до самого дна его личной мифологии, полагая, что этот его воображаемый мир должен обладать какой-то структурой и что, отыскав ее, а затем изучив, он сможет лучше понять брата и помочь ему.
Однако все эти долгие годы иерархия тех, кто правил Адамом, оставалась неуяснимой, и сомнений не было только в одном – эти существа представлялись ему совершенно реальными. Кем бы и чем ни были для Габриэля Юстас Хаттон, клерк Сэмсон, владелец дома, в котором он жил, сборщик налогов, полиция, парламент, они не определяли всюего жизнь, не управляли всеми его мыслями с таким могуществом и непререкаемой авторитетностью, какими обладали властные фигуры из мира Адама. И порой Габриэлю казалось, что собственное его существование лишено, в сравнении с существованием брата, по-настоящему крепких основ.
– Со мной говорил Вестник, – произнес Адам таким же ровным, лишенным эмоций тоном, каким он мог бы сообщить: «Со мной говорила медсестра».
– Понятно, – сказал Габриэль. – А от чьего имени?
– Ты знаешь, – ответил Адам.
Габриэль не знал. За пятнадцать лет болезни самодостаточный носитель окончательной истины из мифологии Адама получал в разное время разные имена, однако в последние годы отказался от них в пользу имени, которое всуе произносить не полагалось, но и не произносить было невозможно: простого «Тот».
– Он разрушал ваши города. Разрушил Содом и Гоморру. Он истребил евреев – после того, как мы объяснили ему, что вера их беззаконна.
– К чему говорить о давних временах, Адам? Мы живем в Британии двадцать первого века, здесь и сейчас. Что толку думать о Содоме и Гоморре, о том, заслужили ли они свою участь? У нас и здесь много чего происходит.
Адам взглянул ему прямо в глаза:
– Будь осторожен, не то сгоришь и сам. Ты еще можешь изменить пути свои.
– Ну как вы тут? – спросил появившийся в проеме двери Роб. – Чаю не хотите?
– Адам?
Адам не ответил.
– Я бы от чашечки не отказался, – сказал Габриэль. – Спасибо.
Когда Роб вернулся с двумя чашками чая, Габриэль спросил:
– Как он в последнее время?
– Да, в общем, неплохо, – ответил Роб. – Доктор Лефтрук продолжает попытки привести его в чувство медитациями. Но это дело тонкое.
– Да, наверное, – согласился Габриэль. – Она мне рассказывала.
– Контролировать галлюцинации можно, однако и это имеет свою цену, довольно высокую. А как он на ваш взгляд?
– Ну… не знаю. Как ты себя чувствуешь, Адам?
Адам раскуривал новую сигарету.
– Лучше проливать кровь, чем не верить, – сказал он. – У тебя есть возможность уверовать. Ты совершаешь выбор. И если ты предпочитаешь не…
Пальцы Адама затрепетали в воздухе, изображая язычок пламени.
В Холланд-парке Финбар Вилс коротал очередной одинокий вечер. Отец отправился на деловой обед, мать встречалась в японском ресторане с подругами по книжному клубу – не для обсуждения книги, сказала она, просто чтобы полакомиться суши.
Финн стоял, покачиваясь, посреди своей комнаты. Сегодняшнее зелье подействовало на него как-то странно. Лоб покрылся холодным потом, во рту пересохло сильнее обычного. Как правило, травка создавала распространявшееся от живота ощущение сдвига во времени, чувство, что тело становится слишком грузным, чтобы поспевать за ускоряющейся красотой мысли, чувство нехватки слов, позволяющих выразить всю глубину музыки, – да и как ее выразишь, если челюсти отяжелели настолько, что их и с места не сдвинуть?
Сегодня же Финн испытывал нечто совершенно иное. Подобие разрыва с действительностью. Он ушел в обещанную наркотиком альтернативную реальность, но почему-то напрочь отторгся при этом от своего изначального мира. И не ощущал обычного приятного и забавного взаимодействия двух способов существования – только странную отдельность от всего на свете.
Финна немного трясло, лицо его, он в этом не сомневался, было белее белого. С ним явно произошло то, что его лучший друг Кен называл «сбледнеть с перекура».
– Черт, – произнес Финн и, спустившись в кухню, начал возиться с кодовыми замками высокой застекленной двери. И в конце концов ему удалось выбраться в садик и глотнуть свежего воздуха. Житейская мудрость подростков знала только одно средство от «сбледнения» – ждать, когда оно пройдет само собой. Лоб и ладони Финна покрывал препротивный пот, просыхать на холодном ночном воздухе не желавший.
Дыша полной грудью, Финн прохаживался взад-вперед по лужайке и вглядывался в обступавшие ее дорогие дома. И ощущал странную зависть к их обитателям, к людям, которых до сих пор только жалел. Они торчали в своих унылых комнатах, уставившись в телевизоры или моя после ужина тарелки, читая книги или развлекая соседей, заглянувших к ним в гости, нагоняющими тоску тупоумными разговорами о школах, о бизнесе, о скучнейших общих знакомых. Но, по крайней мере, они не утратили связь с вещественным миром.
Финну же прочность кирпичных стен дома, обошедшегося его родителям в 10 миллионов фунтов, представлялась сомнительной. Подняв глаза повыше, он увидел рассекавшие небо огромные неподвижные краны Шепердс-Буш – там возводился памятник алчности и приобретательству, крупнейший в Европе торговый центр, вбитый в сердцевину заставленных магазинами улиц самого состоятельного в мире потребления города, – и различил над кранами выбравшийся из туч самолет, который заходил, помигивая проблесковыми огнями, на посадку в Хитроу.
У Финна даже живот свело от страха. Он представил себе, каково это – сидеть в тесном тубусе самолетного фюзеляжа пристегнутым к креслу и ожидающим удара о землю. Финн быстро откинул голову назад, чтобы увидеть побольше неба, однако от резкого движения его замутило, в глаза ударила кровь. Он опустился на каменную ступеньку лестницы, которая вела в маленький розарий матери, сжал голову ладонями, зажмурился. Не помогло. В глазах теснилось множество горевших буйными красками пятен. С открытыми глазами было все же полегче. Финн прислонился затылком к стволу граба, отделявшего одну часть сада от другой, и уставился в успокоительную бесконечность вселенной.
Световое загрязнение сообщало нижней части неба приглушающий все краски сероватый оттенок, а выше оно становилось не бесконечным, но явственно куполообразным. Мир Финна был сферой внутри другой сферы, скругление которой он различал совершенно отчетливо. И на него накатила волна космической клаустрофобии.
Черт, ему подсунули что-то уж слишком крутое. Он просто хотел вырваться отсюда, отстраниться от этого мира, отгородиться от него дымовой завесой и вернуться в то, что называл в детстве подлинной жизнью. Может, у матери есть какие-нибудь транквилизаторы? Наверное есть, но как он отличит их от других таблеток? Да и помогут ли они?
Тот парень из «Пицца-Палас» обещал ему «крутой улет» без дурных последствий, но, как видно, соврал. Руки Финна дрожали, он прилег на холодную траву, сжался, уподобившись человеческому зародышу, в комок. И увидел перед собой шизофреника Алана и Терри О’Мэлли, оба смотрели на него сверху вниз и плотоядно улыбались. Прижимаясь гладкой щекой к влажной траве, Финн обхватил себя руками. Его в кои-то веки посетило желание, чтобы родители поскорее вернулись домой – даже отец. Но родители были далеко, и он томился в одиночестве, изо всех своих детских сил стараясь не оторваться от реальности, в которой для него уже не было настоящего места.
День третий
Вторник, 18 декабря
I
Аманда Мальпассе прощалась с Роджером у двери их фермерского дома в Чилтернских холмах. В общем-то, она любила Роджера, была по-настоящему привязана к нему, – правда, с тех пор как муж, дожив до пятидесяти одного года, оставил работу в одной из юридических фирм Сити, он целыми днями маячил у нее перед глазами. Двое их детей учились в университете, а принадлежавшие Аманде и Роджеру многочисленные собаки не давали, как, впрочем, и соседи, особой пищи для разговоров. Лондон же напоминал ей о молодых годах, когда она жила с двумя подругами в квартирке неподалеку от Фулхэм-роуд и была, как это тогда называлось, «лихой чувихой».
– Не пей слишком много, дорогой, – сказала она, как и при всяком расставании с мужем.
– Когда это я много пил? – по обыкновению ответил он.
– Вернусь завтра к вечернему чаю. К нам Манны придут.
– Я помню. Поосторожнее на дорогах.
Около одиннадцати Аманда уже подходила к одному из кафе Норд-парка, где у нее была назначена встреча с Софи Топпинг, которая надеялась получить от Аманды обещание появиться у них в субботу на большом приеме. Знакомство Аманды с Софи было пожалуй что шапочное, но она радовалась любому предлогу, позволявшему ей выбраться в город. При кафе имелись также traiteurи гастроном, в которых женщины Норд-парка покупали до изумления дорогие, но вполне съедобные готовые блюда.
Софи сидела в дальнем зальчике кафе с женщиной, которую она представила как Ванессу Вилс. Они беседовали о детях и школах.
– Дочь Ванессы, Белла, такая лапушка, – сообщила, повернувшись к Аманде, Софи.
– Я ее теперь почти не вижу, – сказала Ванесса. – Она то и дело ночует у подруг.
– Да, нынче это модно! – сказала Софи. – Но она и вправду очень милая.
Судя по лицу Ванессы, та не была уверена в этом – более того, подумала Аманда, она, похоже, ощущает себя несчастной.
А Софи продолжала щебетать:
– И Финн тоже очень умный мальчик, правда? Готова поспорить, выпускные экзамены он сдаст блестяще.
– Мне кажется, в последнее время он стал мало работать, – сказала Ванесса.
– Но ведь Джон, наверное, сделал ему строгое внушение.
– Раньше он ужасно давил на Финна. Пару лет назад, когда Финн не выиграл состязания по бегу, закатил ему жуткую сцену. Ругал его по-всякому – знаете: ты долбаное то и долбаное это. Но сейчас, похоже, утратил к сыну всякий интерес.
Официант принес три разных кофе с молоком, поинтересовался, не желают ли они что-нибудь съесть, но все трое отказались.
Полчаса протекли в разговорах о том, кто придет в субботу и кто с кем будет сидеть рядом, а затем Аманда сказала:
– Роджер так ждет этой субботы. Он очень любит приемы. Только постарайтесь, чтобы ему наливали поменьше вина, а то он разойдется – не остановишь.
– Вам повезло, – сказала Ванесса. – Джона вообще невозможно вытянуть куда-нибудь на люди.
– Но ведь в субботу он будет? – встревоженно спросила Софи.
– О да. Ваш прием – особый случай. А так он считает светскую жизнь пустой тратой времени.
– А чем занимается ваш муж? – спросила Аманда.
– Работает, – ответила Ванесса. – Только этим и занимается. Работой. У него свой хедж-фонд. Я понимаю, большинству владельцев хедж-фондов приходится трудиться в поте лица, однако многие и развлекаться умеют. Кто-то ходит на яхте, кто-то летает на планере. Я хорошо знаю одного из них, так ему нравится взбираться по стене своего дома на крышу. А рядом с нами живет другой, прекрасный пианист – он играет в своем клубе в шахматы, дважды в неделю бывает в театре и водит жену в оперу. А Джон… не знаю.
– Но он очень верен семье и…
– Я могу сказать вам, чего мне хочется больше всего на свете.
Голос Ванессы внезапно упал и начал тонуть в окружающем шуме. Эффект получился странный – такой, точно она заговорила октавой ниже. Софи и Аманда склонились к ней над столиком.
– Я готова забыть о том, что мы нигде не бываем, – сказала Ванесса. – О его страхе перед приемами, уик-эндами, романтическими отношениями, я готова забыть обо всем, лишь бы хоть раз увидеть его смеющимся.
Наступила неловкая пауза. Конечно, Софи и ее знакомые, встречаясь, разговаривали в основном о своих семьях, однако какую-либо несдержанность позволяли себе редко, а уж откровенностей не позволяли никогда.
Наконец Софи сказала:
– Но не может же он совсем не смеяться. Я уверена, что видела…
– Никогда, – заверила ее Ванесса. – В Нью-Йорке, когда мы только начали появляться на людях, я находила в этом странное очарование. В те времена мне еще удавалось заставить его хотя бы улыбнуться – да и то, по-моему, лишь мне одной. Но смеяться? Ни в коем случае. Смеющимся его никто еще не видел.
– Ну что же, – сказала Аманда. – Будем считать, что я получила на субботу особое задание. Рассмешить вашего мужа.
– Желаю удачи, – обычным своим голосом произнесла Ванесса. – Но должна вас предупредить: этот путь усеян телами тех, кто предпринимал такие попытки и потерпел провал.
Вернувшись в Холланд-парк, Ванесса застала там дочь, ненадолго забежавшую домой, что случалось теперь довольно редко. Белла варила на кухне спагетти.
– Здравствуй, милая. Как все прошло у Кэти?
– Отлично, спасибо. Спагетти хочешь?
– А что, уже время ланча?
– Да, без малого час.
– Нет, спасибо… – Ванесса достала из холодильника бутылку белого бургундского, налила себе бокал. – Я совсем недавно яблоко съела.
Белла поставила блюдо со спагетти на стол, вскрыла пакет апельсинового сока.
– Что собираешься делать сегодня вечером? – спросила Ванесса.
– Пойду с Зои в кино. В «Уайтлис». Жду не дождусь, когда наконец откроется наш торговый центр. Ну ты знаешь. «Вестфилд».
Из окна кухни была видна верхушка красного подъемного крана – одного из тех, что работали на строительстве центра.
– Когда я росла в Уилтшире, – сказала Ванесса, – там в радиусе двадцати миль был только один кинотеатр и всего с одним залом.
– Ну, это же в Средние века было, мам.
– Наверное, из-за этого я и удрала в Лондон. Тебе никогда не хотелось вырасти в деревне?
– Нет, – ответила Белла. – Животных я люблю и не возражала бы против собственного пони. Но и не более того.
– А тебе не кажется иногда, что все люди, которых ты встречаешь в Лондоне, какие-то одинаковые?
– Да, но мне как раз это и нравится. Ладно, я побежала. До встречи.
– Конечно, милая. Иди, веселись.
Все члены ее семьи оставались для Ванессы своего рода загадками, но самой удивительной был муж. Она часто задумывалась о том, почему Джон выглядит столь точно соответствующим современному миру. Это, полагала она, как-то связано с ограниченностью его кругозора, с неверием Джона в существование случайности.
В университете Ванесса прослушала курс психологии, потом училась в Лондоне на юриста, потом провела некоторое время в нью-йоркской нефтяной компании – перед тем как получить место в благотворительном фонде; там она и работала, когда познакомилась на Лонг-Айленде с Джоном Вилсом и его тогдашним коллегой Никки Барбиери. Так что за какое-то время – в конце 1980-х и начале 1990-х – Ванесса Уайтвэй составила определенное мнение о мире финансов и видела, как он менялся.
Главная перемена, как представлялось ей, была совсем простой: деятельность банкиров отделилась от реальной жизни. Вместо того чтобы остаться «обслуживающей» индустрией – помогать компаниям, играющим определенную роль в жизни общества, банковское дело превратилось в замкнутую систему. Прибыли больше не зависели от роста или увеличения чего бы то ни было, они стали самоподдерживающимися, и в этом наполовину виртуальном мире количество денег, зарабатываемых финансистами, также не подчинялось нормальной логике.
А в результате, думала Ванесса, тем, кто оказался способным процветать в этом мире, пришлось стать – в некотором, глубоко личном смысле – людьми отрешенными. Они не испытывали тревоги по поводу тех или иных последствий своей деятельности; побочные эффекты их не волновали – хотя, следует отдать им должное, они принимали меры, позволявшие свести к минимуму возможность любого их соприкосновения с реальностью. И радость, которую порождали в этих людях разного рода новые продукты, в точности соответствовала их волшебной самодостаточности: они, похоже, исключали всякий риск конечной расплаты за содеянное. Однако каждый из этих людей считал необходимым обладать крайне ограниченной, но все же важной способностью хоть как-то воспринимать «другого» – или очень быстро развить ее в себе, – идеальным для них состоянием стало что-то вроде профессионального аутизма.
Плюс к этому требовалась еще и фанатичная вера: обязательная вера в то, что их система истинна, а все прежние были еретическими. Если возникали какие-либо сомнения, таковые следовало искоренять, как надлежало и выжигать каленым железом любые попытки изменения системы. Рождалось племя фанатиков, и Ванесса видела это собственными голубыми глазами. Она встречала их на деловых играх во Флориде, на благотворительных обедах и – до смерти уставших, обветренных – после гольфа по выходным, в Шотландии. И хотя сама Ванесса оказывалась там не ради того, чтобы прослушать курс лекций, поиграть в гольф или как следует выпить, да и видела-то этих анахоретов она всего лишь в вестибюлях гостиниц или в аэропортах, но с первого взгляда понимала, что им удалось за последние три дня укрепить друг друга в вере; что по завершении непременных утомительных ритуалов эта вера – убежденность в том, что за пределами их фанатичного круга никто и ничто вот ни настолечко им не нужен, – обретает новую силу.
Что озадачивало Ванессу в Джоне, так это легкость, с какой он усвоил необходимый психологический образ. Послушав рассказы Джона о его детстве, прошедшем в Северном Лондоне, никто не усмотрел бы в нем чего-либо замечательного: успехами в учебе он не блистал, а родители и не баловали его, и не тиранили. Ничего, формирующего в нем умение противостоять миру, не происходило, не было в жизни Джона ни ранней утраты, ни травмы – того, что требовалось бы компенсировать.
По сути дела, думая о Джоне, Ванесса сознавала бесполезность всех психологических приемов, которые она освоила, учась в университете. Не было в нем ни стремления к компенсации, ни сублимированных желаний, ни потребности в реконструкции каких-то событий. А было, на ее взгляд, простое и ничем не мотивированное столкновение двух вещей: врожденных качеств этих новых финансистов с потачками, которые они получали от мира с первых же их шагов.
Кое-кто усматривал главную причину происходившего в неких кредитных деривативах, изобретенных несколькими работавшими в банке «Дж.-П. Морган» людьми; по мнению же Ванессы, вся беда состояла в том, что общество Нью-Йорка и Лондона, напрочь утратив какие-либо ориентиры, оказалось готовым поверить – вместе с этими аналитиками – в возможность разрыва причинно-следственных связей. На ее взгляд, социальные перемены, которые стали итогом десятилетий, отданных нападкам на издавна признанные нормы, были куда интереснее, чем квази-аутичные умы людей, подвизавшихся, подобно Джону, в новой финансовой сфере.
Этим людям все же приходилось, хоть и очень редко, вступать во взаимодействие с обществом – главным образом в тех случаях, когда они пугались, что политики могут навязать им какие-то нормативы; вот тогда они поневоле отказывались, хотя бы на время, от затворничества и выходили в грешный мир, чтобы замарать о него руки. Самый большой из когда-либо выписанных Джоном Вилсом чеков предназначался для занимавшейся политическим лоббированием вашингтонской фирмы и был передан ей, когда Джон и банк, в котором он тогда работал, решили, что кредитные деривативы могут стать предметом государственного регулирования. И банк раздал ключевым лоббистам Капитолийского холма 2 миллиона долларов.
Помнила Ванесса и еще один случай, мгновение, когда ее муж столкнулся со старым миром обязательств и долгов, миром, который он давно перерос. В тот раз, это было совсем недавно, она присутствовала с ним на приеме, на котором выступил сам премьер-министр Великобритании. Что это было? Устроенный лорд-мэром званый обед? Открытие нового здания банковских офисов в Кэнэри-Уорф? Ванесса уже не помнила. Зато ясно помнила, как премьер-министр понизил голос до театрального вибрато, с помощью которого у политиков принято изображать искренность, и, поздравляя собравшихся в зале финансистов, произнес фразу, сводившуюся к следующему: «Мы собираемся сделать для всей британской экономики то, что вы сделали для Лондона».
Ванесса взглянула тогда на Джона, и ей показалось, что он того и гляди упадет в обморок. С лица его сбежали все краски, ладони стиснули край стола. Поначалу она решила, что мужа перепугала мысль о человеке, который, отнюдь не разделяя присущей его, Джона, кругу веры, вот-вот присвоит взгляды этого круга на мир и выставит их всем напоказ. Позже она поняла: кровь парадоксальным образом отливает от лица Джона в тех случаях, когда все другие краснеют, – бледность свидетельствует о том, что ему стало стыдно.
Больше она ни разу не видела и следа чего-либо подобного – стыда, сомнения, замешательства, вызванного воссоединением с обычным миром; похоже, в тот миг всему этому и пришел конец.
И когда миниатюрная Софи Топпинг спросила у нее, любит ли она все еще своего мужа, Ванесса поняла, что ответить на этот вопрос не способна. Как можно любить такого человека? «Чем он живет?» «Что доставляет ему удовольствие?» «Чем он занимается, когда оставляет тебя одну?» Ни на один из этих вопросов Ванесса ответить не могла, поскольку муж ее давным-давно удалился туда, где такие вопросы бессмысленны.
II
Выросший в Глазго, Хасан аль-Рашид с ранних лет сознавал, что между людьми существуют различия. Достаток его семьи был выше среднего, поэтому Хасан получал многое из того, что не получали другие дети, – игрушки получше, одежду поновее, больше карманных денег. Он исправно ходил в мечеть и молился, между тем лишь очень немногие из христиан были столь же религиозны, – если, конечно, не принимать во внимание целую неделю рождественской гульбы. Хасан ощущал себя – хорошо обеспеченного – счастливчиком, однако именно это отличие от других беспокоило его, а то, что их семья не пользуется уважением, какого заслуживает, сердило. Уж, наверное, отца, такого доброго и трудолюбивого, могли бы избрать самое малое мэром.
Дома отец пел ему народные песни и читал кое-что из Корана. Усвоенная Молотком версия ислама была музыкальной и поэтичной. Сам он в Коран практически не заглядывал, но превосходно знал те части Священной Книги, которые ему особенно нравились: к примеру, очень хорошее место в суре «Пчелы», где говорится, что при нужде можно есть и свинину, если ты никому не желаешь зла, Бог закроет на это глаза; да и в качестве девиза для повседневной жизни не найти, считал Молоток, ничего лучше стиха из суры «Перенес ночью»: «И не ходи по земле горделиво: ведь ты не просверлишь землю и не достигнешь гор высотой!» [36]36
Сура 17, 37. Здесь и далее Коран цитируется в переводе И. Ю. Крачковского.
[Закрыть]
По правде сказать, он предпочел бы, чтобы Книга содержала поменьше гневных уверений в том, что каждого неверного ожидает вечная кара, и старался не вслушиваться, когда в мечети цитировались наиболее злобные из мест в этом роде. Под конец каждого такого чтения он радостно выпевал слова: «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного!» Именно эти качества Аллаха и привлекали Молотка аль-Рашида сильнее всего. Он походил на христианина, приверженца Церкви Англии, который на словах восхваляет Библию в целом, но верит только в Новый Завет, потому что Старый, хоть в нем и много хороших историй, есть сочинение древнееврейское и представляет интерес главным образом антропологический.
Суть ислама каждый должен толковать для себя сам, полагал Молоток, и выбирал не Коран, грозящий неверным вечным адским пламенем, но мягкое учение многих поколений мудрых и добрых людей прежних времен. Духовная вера Молотка была безмятежной: он верил во всемогущество Аллаха и не питал сомнений в том, что ему уготовано место в раю – если, конечно, он останется твердым в служении Ему и чистым в поступках. Эта вера позволяла Молотку справляться с финансовыми неурядицами и враждебностью местных жителей, поскольку он знал: истина лежит вне потоков денежных средств и НДС, она сильнее предрассудков кое-кого из тех, с кем ему приходилось общаться. Он всегда мог обособиться от них, и большинство его деловых партнеров быстро обнаруживали, что спокойные речи Молотка рассеивают любые их подозрения.
Детство Хасана было заполнено песнями и стихами, историями и молитвами, запечатлевшимися в его памяти, – потому, быть может, что он получил их в обстановке взаимной преданности и покоя, – и сохранившимися в ней, точно отпечатки, оставленные в еще не застывшем бетоне. Голос у него был чистый, звонкий, и Хасан, следуя наставлениям имама, стал адептом тажвида – искусства правильного чтения Корана. Занятие это было эмоциональным и состязательным, каждому чтецу хотелось увидеть, кто из них добьется самого сильного отклика слушателей, однако, когда в конце службы верующие поднимались на ноги и пели хвалы Пророку, Хасан неизменно ощущал безмятежную уверенность в том, что стоит на правильном пути.
А вот мир, раскинувшийся за стенами его дома, был куда менее безмятежным. Хасану не позволяли забыть о том, что цвет его кожи не таков, как у его бледнолицых одноклассников. В одиннадцать лет он был стройным черноволосым мальчиком с большими карими глазами, носившим связанный в Данди школьный блейзер, – мальчиком, знавшим многое о планетах, о Солнечной системе, но почти ничего о земле, на которой он жил. Хасан изумился, когда товарищ по классу, рано возмужавший шотландец, дал ему на перемене под дых. Пока Хасан лежал на полу, хватая ртом воздух, боль, понемногу покидавшая его, словно выкристаллизовывалась в некую малую определенность. Этого мгновения он так никогда и не забыл. Мир не был ни честным, ни разумным, ни любящим. И потому, пребывая в нем, ты должен либо драться, подобно другим, либо попытаться найти и надежные объяснения его, и наилучший способ существования в нем.