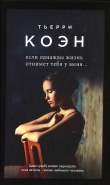Текст книги "Неделя в декабре"
Автор книги: Себастьян Чарльз Фолкс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц)
Присутствовавшее в священных книгах «глядеть» пользовалось у его друзей большой популярностью и, сдавалось Хасану, оправдывало слишком многое. Один из них привлек его внимание к следующему пассажу из трудов исследователя Корана: «Двойственная природа того, что показывается, и того, что скрывается, имеет для понимания Бога значение фундаментальное: двойственность женских половых органов отождествляется с сокровенным характером божественного. У Ислама нет монахов. Пророк имел множество жен и всех нас побуждает к совокуплениям и продолжению рода. Многие ученые усматривают в оргазме предвестие рая, в котором ощущение это будет не краткосрочным, но вечным».
Один из студентов университета, собравший изрядную коллекцию журналов, что в магазинах напоказ не выставляются, сказал Хасану так: хорошо, что девушки, которые снимаются для них, все сплошь кафирки. Хасан подумал тогда: вот это и значит делать из нужды добродетель, ведь мусульманки никогда не позируют нагими. В смысле эстетическом его всегда привлекали темноволосые женщины одной с ним крови, и если оставить в стороне греховные помыслы о Ранье, ему просто-напросто нравилась элегантность этих девушек, их колористическая гамма, их женственность.
Именно они и порождали муку, редко его покидавшую. В девятнадцать, еще до того, как он обратился к религии, у Хасана была подружка-кафирка, его однокурсница, белая уроженка Лондона по имени Дон. Такое уж ему выпало счастье – он умудрился отыскать единственную в Лондоне сексуально флегматичную кафирку. В Вест-Энде имелся не один район, куда пятничными и субботними ночами лучше не заглядывать – там пьяные девушки в крошечных юбчонках выставляли прохожим напоказ свои груди, прежде чем блевануть в канаву. Университетские друзья рассказывали Хасану пугающие истории о похотливости вечно желающих этогокафирок. А вот Дон по каким-то причинам, которые она толком объяснить не могла, предоставляла ему лишь ограниченный доступ к своему телу. Он мог засунуть руку ей под юбку и потрогать ее между ног, и не более того. Но сама отвечать ему не желала. И снизошла она до него, да и то не без слез, лишь когда Хасан (сам того устыдившись) сказал ей, что ее отказы объясняются скорее всего некими атавистическими расовыми предрассудками. Все произошло в квартире, которую она и три ее подруги снимали в Стэмфорд-Хилле, под громкое буханье летевшей из гостиной танцевальной музыки. Поначалу Дон стойко сопротивлялась, но потом, спасаясь от холода, стоявшего в ее неотапливаемой спальне, она все-таки улеглась, раздевшись, под пуховое одеяло. Хасан боялся, что им помешает кто-нибудь из сожительниц Дон, – был вечер пятницы, и девушки изрядно набрались. Все произошло не так, как ему мечталось. Дон настояла на том, чтобы выключить лампу у кровати, и это лишило его зрительной стимуляции. Когда он лег на Дон, ему показалось, что девушка вздрогнула, и Хасан подумал, уж не плачет ли она. Он сказал, что им вовсе не обязательно продолжать, но Дон ответила: раз уж они зашли так далеко, так лучше поскорее с этим покончить. Хасану представлялось, что желания, которые он подавлял вот уже семь лет, с тех пор как началось его половое созревание, сжались в твердый, размером с точку комок и вот-вот взорвутся. Но тут холодные руки Дон вяло погладили его по спине, и миг этот миновал. После двадцати минут неумелой возни, извинений и принятия самых отчаянных мер ему удалось достичь жалкого подобия конечного результата, никакими особыми ощущениями не предваренного. Хасану стало тогда так стыдно, что больше он с Дон не встречался.
Несколько недель спустя он поймал себя на том, что взгляд его все чаще останавливается на высокой веселой иранке по имени Шахла Хаджани, да и она, как показалось Хасану, прониклась к нему ответным интересом. Однако он уже успел обратиться к религии, вернее – к некой ее политизированной разновидности. И когда после одной вечеринки Шахла скромно, но кокетливо накрыла его ладонь своей, Хасан объяснил ей, что он должен вести жизнь целомудренную. Она взглянула ему в лицо опечаленными глазами, еще смеявшимися, но уже немного обиженными, разочарованными и сказала:
– Тогда я буду тебе другом. Это допускается?
– Конечно.
И она стала ему другом – добрым другом, этого он не мог не признать. Отец Шахлы был оевропеившимся тегеранским дельцом, покинувшим свою страну после низвержения шаха, мать – англичанкой с примесью еврейской крови. Сама же Шахла, номинально бывшая мусульманкой, не понимала и не одобряла того, что жизнь Хасана вращается вокруг мечети; впрочем, встречаясь с ним в университете, она оставалась внимательной, добродушной и щедро делила с Хасаном свое время и общество: в часы ланча вбегала на своих длинных ногах в столовую так стремительно, что сумочка на ее плече словно летела за ней, а присаживалась Шахла всегда за его столик. Иногда Хасану казалось, что он по-прежнему различает в ее темно-карих глазах проблески надежды, желания, влечения или чего-то еще. Она же по большей части задавала ему невинные вопросы или живо рассказывала о чем-нибудь, недавно увиденном ею, – о пьесе или о фильме.
Размышляя о вечном огне, который ждет неверных и в особенности отступников наподобие Шахлы, Хасан понимал, что ему следует отказаться от знакомства с ней. Однако дружелюбие Шахлы было настолько непритязательным, что он против воли своей увлеченно слушал ее рассказы.
Несмотря на то что, по мнению Хасана, ислам запрещал любые плотские связи, никакие молитвы подавить желания его двадцатиоднолетнего тела не могли.
Все кафирские средства массовой информации были изгажены чувственностью. Ведущие викторин, игр и ток-шоу – высокооплачиваемые, уважаемые, с карманами, набитыми миллионами полученных от налогоплательщиков денег, – рассуждали о мастурбации, размерах гениталий и содомии. При этом они подмигивали, погогатывали и похлопывали своих гостей по бедрам – так, точно это было правильным и нормальным.
На коммерческих каналах продукция самого разного рода навязывалась доверчивым кафирам женщинами, которые имитировали оральный секс или просто обсуждали его за кадром с придыханием, самым что ни на есть непристойным. Дешевый шампунь пенился на экранах под крики испытывающей оргазм женщины, кукурузные хлопья рекламировались подвывавшими, лежащими на коробках девицами, и все это считалось «забавным», или «смачным», или бог его знает каким. Собственно, Хасан ничего против и не имел, усматривая во всем творившемся на экране лишь доказательство своей правоты.
Куда сильнее тревожило его другое – вкрадчивое вторжение женщин и девушек в его сознание. Была на телевидении одна ведущая смешанных кровей, возможно – евроазиатка, которая в восемь вечера появлялась едва ли не на всех каналах. Грязных разговорчиков она не вела, однако юбки носила короткие, а вид имела самый цветущий, что и выводило Хасана из равновесия. Порой ему казалось, что мир попросту перенаселен бабьем – девушками, женщинами всех мастей и сортов, посланными Богом на землю, чтобы испытывать его, Хасана, стойкость. Черноволосая официантка из итальянского кафе, Барбара, выходя на улицу, чтобы выкурить сигаретку, надменно выпускала дым изо рта, когда он проходил мимо, и даже не опускала глаз, встречаясь с ним взглядом. Или возьмите молодых матерей у ворот школы в Уолворте, болтавших поджидая детей: он чуял исходивший от них душок гормональной активности; все они состояли в браке уже лет восемь-десять, складки жирка понемногу нарастали на их животах, однако с молодостью эти дамочки распроститься не спешили. Приглядись ко мне, говорили их позы, я замужем, но ты все равно можешь меня захотеть.
Отец Хасана, Фарук аль-Рашид, получил в апреле конверт с грифом «На службе ее величества». Решив, что это письмо от налогового управления, он не без опаски вскрыл конверт. И прежде чем до него дошло поразительное содержание письма, Фаруку пришлось перечитать его несколько раз. Некий именующий себя «покорным слугой» служащий дома номер 10 по Даунинг-стрит «строго конфиденциально» извещал Фарука, что премьер-министр, составляя ко дню рождения королевы наградной список, надумал включить в него и мистера аль-Рашида, дабы…
Дабы что? Ему пришлось, изумленно помаргивая, вернуться к началу письма. Королева, Империя, премьер-министр… Уж не собираются ли они короновать его, сделать королем? В конце концов Фарук понял: ему предстоит, если он «ничего не имеет против», стать офицером Ордена Британской империи. Вообще-то, подумал он, такую награду получают обычно телевизионные комики или олимпийские чемпионы. Он видел в газетах фотографии этих людей с орденом на ленточке в руке и с цилиндром на голове. И вот егоудостаивают этой великой британской чести за…
– За пикули с лаймом, – сказал он. – Подумать только!
Назима встала из-за стола и поцеловала мужа в щеку. Муж крепко обнял ее.
Фарук аль-Рашид открыл первую свою фабрику в Ренфру, что в Шотландии, двадцать два года назад, в тот самый месяц, когда родился Хасан. Фарук приехал в Британию в 1967-м, тринадцатилетним мальчишкой. Его родители покинули долину Мирпур – в пребывавшей под пакистанским правлением части Кашмира – после того, как их маленький земельный участок был затоплен при строительстве плотины Мангла, и, подобно многим жителям тех мест, нашли первую свою работу на одной из текстильных фабрик Брэдфорда. Закончив в шестнадцать лет школу, Фарук получил затем диплом бизнес-менеджера и перебрался в Глазго, где подыскал себе место в производившей готовое платье компании, которая принадлежала деду его мирпурского приятеля. Фарука прозвали Дверным Молотком – в дальнейшем это прозвище сократилось до Молотка, – поскольку первое время он обходил дома и стучался в двери, разыскивая собратьев-мусульман, с которыми мог бы вместе молиться в мечети на Оксфорд-стрит.
Однако свои деловые интересы Фарук связал не с текстилем, а с пищевыми продуктами. Он быстро понял, что привычную для его субконтинента еду можно поставлять не только в дешевые ресторанчики, но и в супермаркеты, поскольку население страны проникалось все большим интересом к пряным заграничным яствам. Ему потребовалось больше десяти лет усердного труда и экономии, чтобы скопить деньги, идеи и набрать необходимый персонал. В тридцать четыре года Фарук покинул одежную компанию, в которой успел к тому времени стать вторым человеком, арендовал в Ренфру старую фабрику, занял деньги для приобретения промышленных весов, огромных котлов и стерилизующего оборудования. Он переделал поточную линию так, что по ней двигались уже не ящики с одеждой, а картонные коробки со стеклянными банками, он объехал в поисках лучших овощей и фруктов Мексику, Бразилию и Иран. И создал, проконсультировавшись с тамошними поварами, рецепт, в котором резкость имбиря, красного перца, соли и чеснока смягчалась вкусом лайма и коричневого сахара. Придуманный Фаруком соус придавал остроту даже самому пресному блюду; цитрусовая кожура оставалась в нем мягкой и легко усваивалась, а сладость умеряла жгучесть соуса. Вкусовые рецепторы жителей Глазго стали требовать эту новинку в таких количествах, что Фарук едва успевал ее производить. За десять лет он стал миллионером. И женился на самой красивой девушке Брэдфорда, не отступившись от традиции Мирпура – выбирать невесту, чьи родители происходят из твоей деревни, – и у них родился сын, темноглазый и красивый, зеница отцовского ока.
В Глазго Фарук аль-Рашид обзавелся немалым числом друзей – его повадки нравились коренным шотландцам. Конечно, он не мог встречаться с ними в пабах, где куется настоящая мужская дружба, однако и не привередничал по поводу их сквернословия, футбола и безбожия, а они с легкостью закрывали глаза на его приверженность исламу.
– Значит, нам придется теперь называть тебя «сэр Фарук»? – спросила, обеспокоенно глядя на мужа, Назима.
– Что за глупости? Как звала меня Молотком, так и зови.
– Да, но в письмах, там ведь…
– Нет, если бы меня произвели в рыцари, тогда я стал бы сэром Фаруком аль-Рашидом. А так я Фарук аль-Рашид, ОБИ.
– Ну не смешно ли? – сказал Хасан. – Ты становишься офицером ордена той самой империи, которая захватила и раздробила твою родную страну.
– Это было давно, Хасан. Ты и сам знаешь. Теперь мы дружим.
– Британцы посадили там своего ручного диктатора, который…
– Ради всего святого, перестань, – сказала Назима. – Не порть отцу такой день.
– Мне что же, придется напялить костюм пингвина? – спросил Хасан.
– Я куплю новое платье, – сказала Назима.
– А мне нужно будет придумать слова, с которыми я обращусь к королеве, – сказал Фарук. – Как ты думаешь, она много читает?
Одна из тайн Молотка аль-Рашида состояла в том, что читать он практически не умел. Семья его оставалась неграмотной на обоих континентах и книг в доме не держала. Йоркширским мальчикам, с которыми он учился в средней школе на Мэннингем-лейн, предстояло обратиться в заводских и строительных разнорабочих, так что учеба их почти не интересовала. У детей небольшого класса, состоявшего из отпрысков иммигрантов, в который определили Фарука, слишком много времени уходило на то, чтобы научиться говорить по-английски, а на чтение его почти не оставалось. Учитель, мистер Олброу, давал ему книги Уинфреда Холтби и Эмили Бронте, однако Фарук ничего в них не понял. Из школы он вышел, сдав экзамены лишь по математике и естественным наукам. Правда, обучаясь в вечернем колледже, он заставил себя читать газеты и обнаружил, что понимает отчеты компаний и балансовые сводки, однако написаны они были специфическим языком и содержали довольно мало понятных терминов. Впервые услышав, примерно в то же время, слово «дислексия», Фарук погадал, не страдает ли и он этим расстройством – в добавление к естественным трудностям освоения чужого языка. Однако, получив диплом, да еще и с отличием, перестал думать о чтении и сосредоточился исключительно на бизнесе, к которому у него имелся, похоже, особый дар, ни в каких сложных словах не нуждавшийся.
Теперь же мысль о встрече с королевой пробудила в нем давнюю тревогу. По представлениям Молотка аль-Рашида, ему предстояло провести с нею какое-то время в тронном зале и, когда они наговорятся о погоде и его разъездах – «Как далеко вы забирались?», королева может спросить, словно бы между делом, довелось ли ему в последнее время прочесть какую-нибудь хорошую книгу. Английские умники вечно задают этот вопрос. Читал ли он, осведомится королева, сочинения последних лауреатов литературных премий – Ассоциированного королевского или «Пицца-Палас», к примеру? А он не читал; всего лишь видел в газетах их имена. Или же она может спросить, знаком ли он с творчеством сэра В.-С. Найпола либо сэра Салмана Рушди, – он и этих ни единого слова в глаза не видел, и не потому, что ему не нравились их имена, а просто из-за неумения читать.
Надо будет переговорить с имамом, когда они встретятся в мечети в Чигуэлле. Имам человек мудрый и сможет дать хороший совет. Если ему, Фаруку, не удастся связать двух слов, ее величество может счесть его неучем, а это будет оскорбительно и для семьи его, и для веры. Из полученного им письма Фарук понял, что до окончательного объявления имен тех, кто удостоен в этом году высоких почестей, остается два месяца, а во дворец он должен будет явиться еще через шесть, стало быть, времени на то, чтобы пройти краткий курс английской литературы, у него достаточно. И никто, даже королева Елизавета, не сможет сказать, что Молоток аль-Рашид – человек некультурный.
Весь день он ловил себя на том, что воображает сцену, которая, надо полагать, предшествовала получению письма от «покорного слуги».
Ее величество восседала на троне, стоявшем на высоком помосте, обсуждая с придворными свой предстоящий день рождения. Несколько пониже расположился премьер-министр, и вот он поднял глаза от стопки документов, которую держал в руках:
– Переходим к вопросу о мистере Фаруке аль-Рашиде, ваше величество.
– О да, конечно, – ответила ему королева. – Мы полагаем, что уже настало время признать его заслуги перед нашей державой и перед нами.
– Быть может, произведем его в офицеры Ордена Британской империи? – спросил, взглянув на нее поверх очков, премьер-министр.
– Это еще самое малое, – сказала ее величество. – Пошлите за покорным слугой и прикажите ему отправить письмо.
Мысль о том, что при встрече с королевой он может глупо выглядеть, портила Молотку долгожданное удовольствие, внушаемое ему мыслями относительно ОБИ. Времени на то, чтобы подучиться, у него было все-таки мало. И как-то раз, когда он сидел в машине, которая везла его в Дагенхэм, ему вдруг пришла в голову хорошая мысль. Год назад, на обеде по случаю сбора средств для поддержки политической партии, он познакомился с человеком по имени… Как же его звали? Писаное слово Молотку, может, и не давалось, однако слова и имена, которые он слышал, заседали в его цепкой памяти надолго… Трантер. Вот как. Софи Топпинг, муж которой рассчитывал пройти в парламент, устроила тот обед, чтобы познакомить потенциальных жертвователей вроде Молотка с партийными шишками. Среди гостей был и этот самый Трантер – книжный обозреватель или критик (какая между ними разница, Молоток представлял себе плохо), получавший раз в месяц деньги за исполнение роли «модератора» в книжном клубе Софи Топпинг. Трантер не был ни политиком, ни возможным жертвователем – просто человеком, знакомством с которым миссис Топпинг гордилась, человеком, способным, как она явно полагала, придать ее приему особый, возвышенный тон.
В тот вечер Трантер продемонстрировал обширные познания в литературе, уверенно рассуждая о живых и мертвых писателях (похоже, предпочтение он отдавал последним). Насколько удалось понять Молотку, Трантер ухитрялся жить тем, что читал книги и высказывал свои суждения о них. Газета нанимала его, чтобы он поделился своим мнением о какой-нибудь книге с читателями, а те платили ему просто за то, что Трантер ее прочитал. Такой способ добычи средств к существованию был настолько далек от всех известных Молотку, что ему пришлось несколько раз обсудить с самим собой материально-технические аспекты профессии Трантера, прежде чем он усмотрел в ней хоть какой-то смысл. В конце концов, решил он, движение наличности и производительность, спрос и предложение для него, Молотка, в данном случае существенного значения не имеют – важно лишь то, что Трантер может помочь ему не ударить лицом в грязь на предстоящей встрече с королевой Англии.
Приехав на Дагенхемскую фабрику, он попросил свою секретаршу Дорис Хайн отыскать Софи Топпинг и узнать у нее, как связаться с Трантером. И в скором времени миссис Хайн отправила по электронному адресу rgt34@easinet.co.ukписьмо следующего содержания: «Уважаемый мистер Трантер, пожалуйста, простите меня за столь внезапное обращение к Вам, но моему работодателю, весьма известному джентльмену, очень хотелось бы вступить с Вами в деловые отношения по вопросам литературы, и он был бы очень признателен Вам, если бы Вы строго конфиденциально позвонили по указанному выше телефону и попросили соединить Вас с мистером аль-Рашидом. С почтением, Дорис».
II
Джон Вилс спустился в цюрихском аэропорту по трапу шестнадцатиместного реактивного самолета. Вилс был «частичным арендатором» этого самолета, и если он заказывал места загодя и покупал побольше билетов – скажем, для двух отправлявшихся в отпуск семей, – они обходились ему не дороже, чем стоят хорошие места на любой авиалинии. Однако на сей раз решение лететь в Цюрих он принял в последнюю минуту, а пассажиров, кроме него, набралось всего трое, и потому полет обошелся ему недешево. Что же, иногда, чтобы хорошо заработать, приходится платить. Пройдя иммиграционный контроль, он отыскал скромного вида серый автомобиль, который должен был доставить его в Пфеффикон, благоразумно безликий городок, который, возможно, и создан-то был лишь для того, чтобы люди наподобие Вилса могли заключать крупные сделки подальше от пытливых глаз.
На улицах городка лежали вдоль обочин опрятные кучки серого снега, собранного поутру муниципальными рабочими. Вилс встретился с Кираном Даффи, главой торгового отдела «Высокого уровня», в их обычном кафе, подальше от безвкусной еды и высоких цен тех ресторанов, что предназначаются для людей их пошиба. С Даффи Вилс познакомился в Нью-Йорке, где тот двадцать пять лет проработал в банке, конкурировавшем с его, Вилса, банком. Даффи был одним из немногих соперников, которых банк Вилса действительно побаивался; по словам Годли, неизвестные ему способы держать клиентов в узде можно было записать на острие колышка с поля для гольфа. Он был, несмотря на свою фамилию, евреем, и Вилс вечно придумывал для него прозвища вроде О’Шлёма, О’Цимес, а однажды, когда Даффи напортачил, обозвал О’Жидом. (В начале партнерства Вилса и Годли был один неприятный момент, когда Годли спросил, не раздражают ли Вилса – еврея, по крайней мере номинального, пусть и не религиозного, – шуточки, которые то и дело отпускают сотрудники его офиса. «Не будь таким чистоплюем, Стив, – ответил Вилс. – Большинство моих лучших друзей – антисемиты».)
В сорок девять Даффи покинул Уолл-стрит, чтобы сидеть, любуясь своими миллионами, в Коннектикуте. Вилс дал ему поскучать девять месяцев, а затем предложил возглавить свою «торговую службу»: стать человеком, не продающим, как он делал прежде, сомнительного происхождения продукты, взимая за это комиссионные, от которых у его клиентов слезы наворачивались на глаза, но самостоятельно решающим, что, когда и у кого следует покупать. Шесть недель спустя Даффи переехал в Цюрих. Жене его предстояло присоединиться к нему «в должное время», пока же он делил свой дом с двадцативосьмилетней итальянкой, с которой свел знакомство в последние свои уолл-стритские дни.
За подсушенными круассанами и крепким кофе Вилс начал обрисовывать Даффи свои соображения относительно Ассоциированного королевского банка. Рассказал он немного, но достаточно, чтобы Даффи смог прикидывать, какие позиции им необходимо занять. Даже в этом близком ему человеке, им же подобранном и превосходно показавшем себя в «Высоком уровне», Вилс видел всего лишь источник риска. Операции «Высокого уровня» приносили миллионы комиссионных брокерам и инвестиционным банкам, с которыми вел дела фонд; а это означало, что всякому хотелось бы узнать Кирана Даффи поближе и что ему непременно будут предлагать «скидки наличными» и попытаются осыпать его иными противозаконными благодеяниями. Вилс знал, что у Даффи лежат в банках миллионы, которые сделали его невосприимчивым к столь вульгарным соблазнам, – собственно, это и было одной из причин, чтобы нанять его. И все же он полагал разумным выплачивать Даффи ежегодное жалованье и бонусы акциями «Высокого уровня». Вилс доверял ему, тут и говорить было не о чем, однако – просто для пущей надежности – считал разумным покрепче привязать Даффи к себе выплатами, наверняка превышавшими любую возможную взятку. «Гарантировать совпадение наших интересов» – так называл это Вилс; «Не пасовать игроку, которому могут переломать ноги» – такую формулировку предпочитал Годли.
Вообще говоря, Вилс всегда был скуп на подробности. «По-моему, серебро вот-вот подешевеет, – мог, к примеру, сказать он Даффи, позвонив по своему оранжевому сотовому, стоя посреди отходящего от Олд-Пай-стрит проулка. – К пятнице выставь наше на продажу с пятипроцентной скидкой». А уж Даффи полагалось решать, какие рыночные инструменты использовать, хотя о том, что на зарегистрированные рынки соваться не следует, ему можно было не напоминать. Однако задуманная Вилсом комбинация с АКБ требовала личного разговора с Даффи. Им обоим следовало предпринять шаги самые неприметные и изобретательные, используя весь свой опыт и коварство. Если бы Даффи начал действовать в Лондоне или Нью-Йорке, тамошние нормативные отделы принялись бы интересоваться, не выходят ли суммы ставок за границы риска, обозначенные в официальных декларациях фонда; а в Пфеффиконе скорее всего лишь спросили бы, не желает ли он получить еще один бокал местной густой мальвазии.
Простой, но, возможно, слишком простой ход состоял в том, чтобы произвести продажи без покрытия. То есть сначала позаимствовать огромное количество акций АКБ у страховых компаний и иных зарегистрированных их владельцев, специализирующихся по даче акций взаймы, затем продать их по той цене, какую предлагает рынок, и наконец, когда рынок рухнет, снова купить, но уже по дешевке, и вернуть владельцам. Прибыль будет определяться разницей между ценой, по которой акции были проданы, и куда более низкой ценой, по которой они были выкуплены. Риск в этом случае оказывался почти безграничным – стоимость акций могла ведь и возрасти. «Футбольное поле покрывать деньгами придется» – говаривал в таких случаях Годли. Однако то, что Вилс знал о долговых обязательствах АКБ, показывало: цена его акций вырасти не может, во всяком случае – надолго.
Второй очевидный ход состоял в покупке опционов на продажу этих акций. Она дала бы «Высокому уровню» право продавать их по загодя обговоренной цене, сиречь «цене реализации». Если цена реализации равнялась пятнадцати, а рыночная падала до десяти, вы могли купить миллион акций за десять и продать тем, кто заранее согласился купить их по пятнадцать. Легко и просто. Цена самих опционов определялась ценой реализации (и чем дальше уходила она от текущей цены, тем более дешевым оказывался опцион), а также срочной стоимостью опциона и неустойчивостью соответствующего рынка. Каждый из параметров операции было принято обозначать греческой буквой, так что документы, посвященные биржевому анализу таких сделок, походили на страницы «Илиады».
По мнению Вилса, документы эти ничего, кроме полной чуши, не содержали. Торговля есть торговля, и у нее только две движущие силы – алчность и навязчивый страх, то есть разного рода фобии. Если уж вам позарез нужен греческий, говорил Вилс, так обозначьте алчность альфой, но – «у греков нет буквы ф», не раз отмечал он. Вилс и Даффи потратили два часа на обсуждение достоинств и недостатков опционов – как на продажу, так и на покупку. Традиционно эти инструменты использовались как страховка: ограничивая риск, которым грозит будущее колебание цен, компания может использовать их для приглаживания своих прогнозов и регулировки движения денежной наличности. Однако переверните механизм защиты вверх ногами – и – прошу любить – вы получите методику азартной игры. Используя опционы на покупку, «Высокий уровень» может вести дела с людьми, которые считают, что цена акций АКБ возрастет, или, по крайней мере, с теми, кто готов назвать прибыль, которую они получат, еслиона возрастет; а приобретая опционы на продажу, «Высокий уровень» продемонстрирует свою уверенность в том, что эти цены упадут. Опасность очерченной Вилсом двойной стратегии состояла в том, что он не собирался использовать одну позицию для «хеджирования» против другой, – напротив, успех обоих направлений имел общий фундамент: они просто удваивали ставки на один и тот же исход.
– Дерьмо, – произнес очень редко прибегавший к бранным словам Даффи. – Ты знаешь что-то, чего не знаю я, а, Джон?
– Просто доверься мне, – ответил Вилс.
Даффи почти минуту молча смотрел в свой кофе. Наконец он поднял голову:
– Хорошо, Джон. Это не мой фонд. Он – твое детище. Я сделаю то, о чем ты просишь.
Вилс кивнул:
– Меня тревожит то, что мы можем просто-напросто сжить со света всех соперников. А я вовсе не хочу, чтобы в результате нашей комбинации кто-нибудь из них обанкротился и прекратил платежи.
– Мы должны вовлечь в операцию всю индустрию, – ответил Даффи. – Пора потребовать, чтобы нам оказали пару услуг. Да каждый прайм-брокер на свете и половина хедж-фондов давно уже рвутся в бой. Я могу заключить кое-какие специальные соглашения. И тогда все увидят, что операцию проводим не мы, а определенные банки. И никто не узнает, что она – наших рук дело.
Вилс заказал себе еще кофе.
– Если АКБ рухнет, – сказал он, – его безнадежные долги другим банкам опустят цены и их акций. В тяжелом положении может оказаться весь банковский сектор. В деловых кругах начнется паника. Миссис Смит лишится скопленных ею за всю жизнь десяти тысяч фунтов. К банкам выстроятся хвосты длиной в квартал. Правительству придется гарантировать сохранность вкладов. А для этого оно должно будет за одну ночь занять примерно половину того, что и так уже должно.
– И долговые расписки его сильно потеряют в цене, – сказал Даффи.
– Вот именно, – согласился Вилс. – Особенно государственные ценные бумаги. Стало быть, нам придется заняться и ими.
На лице Даффи медленно расцвела улыбка.
– А кроме того, – сказал он, – есть еще курс валюты. Рост государственного долга приведет к падению курса стерлинга – он станет даже слабее, чем доллар.
– Ну хорошо, – отозвался Вилс, опуская чашку на стол, – думаю, мы договорились.
Он почти улыбался. Причина, по которой ему особенно нравилась стерлинговая сторона этой комбинации, заключалась в том, что валютный рынок был едва ли не полностью нерегулируемым.
– Ты не хочешь пообедать? – спросил Даффи. – Можем заглянуть в испанский ресторан, о котором я тебе столько рассказывал.
– Да? Чтобы нас увидела куча менеджеров хедж-фондов? Не сходи с ума, Киран. Я не голоден. На улице ждет машина. Попрошу отвезти меня обратно в аэропорт. Я позвоню тебе этой ночью, в пять. На твой сотовый.
– Ну хорошо. Как мы назовем операцию, Джон?
Вилс и Даффи всегда присваивали операциям деликатного свойства кодовые названия, это была дополнительная мера безопасности.
– Думаю, – сказал Вилс, – поскольку она напрямую связана с пенсионным бизнесом, можно назвать ее… Как тебе нравится «Ревматизм»?
– Отлично. Операция «Ревматизм». Рад был повидаться с тобой.
Киран Даффи стоял на тротуаре у запотевшего окна кофейни и смотрел, как тощий Джон Вилс в фетровой шляпе, пригнувшись, влезает в серый автомобиль.
Некоторые хедж-фонды придерживаются узкой специализации, однако Вилс и Годли всегда предпочитали вести операции по всей финансовой carte. [23]23
Карта (фр.).
[Закрыть]Вилс страшился скуки и не желал упускать ни единой возможности.
Вначале, еще до того, как им удалось окончательно встать на ноги, они осуществили несколько простых операций в рамках стародавней банковской специальности – долгов. Это представлялось им очевидным способом «пустить корни», как выразился Годли; Вилса же такая деятельность привлекала тем, что на банковские долги никакие регулятивные нормативы не распространялись. Здесь можно было без всяких осложнений раздавать направо-налево предположительно секретную рыночную информацию – то, за что вы, работая с обыкновенными акциями, получили бы три года тюрьмы, считалось вполне допустимым при обсуждении банковского долга, а это создавало предпочтительное для Вилса положение: кошерное.