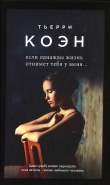Текст книги "Неделя в декабре"
Автор книги: Себастьян Чарльз Фолкс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц)
– Из ныне живущих – никого, – ответил он. – Разве что из недавно скончавшихся. Они ведь тоже наши современники – в своем роде.
Вошла Назима с подносом. При обычном визите она попросила бы отнести поднос Люси, их бразильскую служанку, однако Назиме очень хотелось взглянуть на выдающегося деятеля литературы.
– Дорогая, это мистер Трантер. Моя жена, Назима.
На миг Трантера и Назиму охватила неловкость, оба не понимали, следует ли им пожать друг дружке руки, однако это прошло, как только Молоток обнял жену за плечи и подвел ее к столу.
– Мистер Трантер говорит, что я зря трачу время на этих авторов, – сообщил он. – Что ни в одном из них нет ничего хорошего.
– Но что, если они нравятся ее величеству? – спросила Назима. – Тебе стоит прочитать их, чтобы ты мог поговорить с ней о ее любимцах.
Молоток улыбнулся:
– Моя жена – очень умная женщина, не правда ли? Возможно, эти писатели и впрямь так дурны, как вы говорите, и все-таки, мистер Трантер, мне необходимо иметь о них какое-то представление. Даже если все они – мошенники.
– Ну, общее представление я вам дать могу, – ответил Трантер. – Составить своего рода путеводитель по жульническим трюкам, если угодно.
– Хорошо бы также выяснить, каких писателей она любит, – сказала Назима.
Молоток взглянул на Трантера. Тот снова поскреб подбородок:
– Помнится, ей нравится Дик Фрэнсис.
– А кто это?
– Автор беговых триллеров. Знаете, конские бега.
– Завтра попрошу миссис Хайн купить несколько его книг. Он много их написал?
– Несколько тысяч.
– Хорошо. А еще я хотел бы почитать и кого-то из великих авторов. Узнать их для себя, не только ради ее величества. Мне очень хочется, чтобы чтение стало для меня жизненной привычкой.
– В таком случае, думаю, нам стоит заняться викторианцами, – сказал Трантер. – Диккенсом, Теккереем, Троллопом. Джорджем Элиотом.
– И вы не назовете их пустозвонами, не скажете, что они писали километрами?
– Нет-нет. Во всяком случае, не Теккерей.
– Я об этих писателях слышала, – сказала Назима.
– Моя жена очень начитанна, – пояснил Молоток. – Скажи ему, кого ты прочитала.
– Для нашего экзамена, – сказала Назима, – нам предложили выбрать между книгой Айрис Мердок…
– Ну еще бы, – перебил ее Трантер, – великолепный образчик возвышенной подделки.
– «Говардс Эндом»…
– Ммм… – промычал Трантер. – Это какой же из Говардсов? Чей именно «энд», мы, я думаю, знаем.
– Произведением Вирджинии Вульф…
– О боже. Гибрид литературной девицы с психопаткой. И на чем же выв итоге остановились?
– На «Портрете художника в юности».
Трантер рассмеялся.
– Если затрудняетесь с выбором, берите ирландца, – сказал он. – Образчики ПМ всегда пользуются спросом.
Назима сникла. Даже покраснела немножко.
– Есть еще один викторианский романист, которого я ценю очень высоко, – поспешил сообщить Трантер, понявший, видимо, что зашел слишком далеко. – Собственно, я даже написал его биографию.
– Как интересно, – сказала, воспрянув духом, Назима. – Ее напечатали?
– В общем и целом, – ответил Трантер. – Вообще-то она – одна из финалисток премии «Пицца-Палас», именуемой «Книга года на Рождество».
– Поздравляю. А что это за писатель?
– Альфред Хантли Эджертон.
– Никогда о нем не слышала, – сказала Назима.
– Он не так известен, как остальные. Но очень хорош.
– Я бы, пожалуй, почитал его, – сказал Молоток.
– Это даст тебе преимущество перед королевой, – согласилась Назима. – Я хочу сказать, благодаря мистеру Трантеру ты получишь подробные сведения о… Как, вы сказали, его зовут?
– Эджертон.
Через полчаса Трантер ушел, оставив Молотку аль-Рашиду домашнее задание: прочитать «Шропширские башни» Альфреда Хантли Эджертона и «Твердую руку» Дика Фрэнсиса. Решено было, что чрезмерно захваленные «современные» авторы могут и подождать до времени, когда Трантер приступит к составлению путеводителя по жульническим трюкам.
В Пфеффиконе Киран Даффи потихоньку продвигался вперед. Каким именно способом намеревался Джон Вилс вдохнуть хоть какую-то жизнь в рынок акций АКБ, Даффи не интересовало, ему полагалось, ожидая, когда это случится, заняться той стороной операции, что была связана с курсами валют.
Поскольку британский банковский кризис, даже если он ударит только по одному банку, дурно скажется на фунте стерлингов, ибо правительству придется занимать деньги за границей, Даффи намеревался продать 10 миллиардов фунтов, обратив их в евро, швейцарские франки и доллары США. Всего лишь двадцать лет назад столь крупная продажа стала бы предметом разговоров во всех барах Лондона, Нью-Йорка и Парижа, еще остававшегося тогда одним из финансовых центров мира. Ныне Даффи мог произвести ее без всякого шума, связавшись через стоявший на его столе компьютер с прайм-брокером «Высокого уровня».
Операции с иностранной валютой требовали от ее покупателя внесения залога, составляющего два процента от приобретаемой суммы, однако «Высокий уровень» имел возможность в любой момент занять первые 400 миллионов фунтов, необходимых для внесения гарантийного депозита, – таким было одно из многих удобств, предложенных прайм-брокером, когда тот добивался права вести дела «Высокого уровня». На практике это означало, что Даффи мог, не раскошелившись, продать и 20 миллиардов фунтов, однако он предпочел ограничиться пока что половиной этой суммы.
Он завершил ввод послания прайм-брокеру с меньшим, чем это сделала бы Виктория, изяществом, – вызывающе ткнув пальцем в последнюю клавишу. Используемый им настольный компьютер упорядочивал, работая круглые сутки и по шесть дней в неделю, все предложения, поступавшие от всех торговых систем мира. И, откидываясь на спинку своего кресла, Даффи знал, что разбросанные по земному шару системы регистрации и оценки рисков приступают в этот миг к обработке произведенной им операции.
Ну что же, шутки закончились. Когда-то типичный, работавший с иностранной валютой лондонский маклер осваивал свое ремесло на рыбном или мясном оптовом рынке, производя быстрые подсчеты, пока люди вокруг него наперебой выкрикивали поступавшие к ним сведения. Даффи был достаточно стар, чтобы успеть, приехав в Лондон из Нью-Йорка, увидеть этих маклеров, выросших на рынках Леденхолл и Смитфилд, в деле. Его сводили тогда на ланч в заведение, называвшееся «Парижский гриль» – официантки, которые подавали там стейки и жареную картошку, были в черном неглиже. В тот раз Даффи поразили количества спиртного, которые британцы оказались способными выдувать за ланчем, перед тем как вернуться на свои рабочие места, где они, если в валютной торговле наступало затишье, заключали друг с другом пари на огромные суммы – относительно того, долго ли еще протянет папа римский или император Хирохито.
Получив подтверждение покупки валюты, Даффи обратился к тому, что происходило с Ассоциированным королевским. Цена его акций начала расти – не стремительно и даже с одним или двумя недолгими спадами, однако рост этот выглядел как подтверждение устойчивого доверия к банку. Ближе к вечеру эта активность приобрела очертания, которые дали Даффи возможность сделать несколько звонков, позволивших выяснить точные курсы двойных опционов по акциям банка. Какую роль мог сыграть в этом оживлении Вилс, он не знал и спрашивать ни за что не стал бы, однако, когда дневные торги закончились, Даффи смог послать на черный мобильник Вилса сообщение: «Ревматизм определенно проходит. Полагаю, звтр подвижность полностью восстановится».
IV
Такси, в котором ехала Софи Топпинг, свернуло на Дувр-стрит в семь. С Лансом она договорилась о встрече на 6.30, с женщинами из книжного клуба – на 6.45, стало быть, время было ею рассчитано верно, решила Софи.
В главной штаб-квартире аукционистов бывать ей прежде не доводилось, хотя однажды Софи видела ее в выпуске телевизионных новостей: обходительный джентльмен в двубортном костюме получал там чек на 10 миллионов фунтов от скучающего покупателя, приобретшего размазанное на импрессионистский манер изображение горшка с цветами.
Однако сегодня должно было состояться торжество особого рода, и голова Софи слегка кружилась от приятных предвкушений. Речь шла не о Ван Гогах или Моне, не о Старых Мастерах или кубистах; сегодня предстояло совершиться «уникальному художественному событию» – так, во всяком случае, говорилось в каталоге. Сорокадвухлетний Лайэм Хогг получил в свое распоряжение весь второй этаж аукционного здания. С благословения расположенной в Сток-Ньюингтоне галереи «Пустая доска», которой он во все годы обрушившейся на него славы хранил опрометчивую верность, Хогг решил «поставить условности мира искусств с ног на голову».
Софи пересекла длинный вестибюль, миновала гардероб и начала подниматься по мраморной лестнице. На середине ее Ланс разговаривал с Ванессой Вилс и Амандой Мальпассе.
– Рад, что ты все же добралась сюда, Соф, – сказал он, взглянув на часы. Софи его не услышала, она с головой погрузилась в разглядывание нарядов двух женщин. Обе потратили на них значительные усилия. Наряд Ванессы стоил, надо полагать, не одну тысячу – впрочем, деньги для Вилсов значения не имели; Софи узнала платье от дорогого модельера, которое видела в журнале мод, и туфельки от другого модельера, чьи творения она считала слишком хрупкими для своих крепких лодыжек. Медного цвета сумочка, с которой Ванесса появится на людях хорошо если два раза за всю жизнь, стоила еще тысячи три-четыре.
Официант предложил им коктейли буйно синего цвета, однако Софи предпочла ограничиться безопасным шампанским. Аманда тоже пришла сюда в новом платье, купленном в одном из лучших магазинов Найтсбриджа, а вот прическа ее наводила на мысль о самой рядовой парикмахерской. От расставленных по плексигласовому подносу крошечных закусок – сырого акульего мяса, карпаччо из молочного поросенка или из чего-то еще, столь же, на взгляд Софи, жутковатого, – обе дамы отказались.
Поднявшись по лестнице, все четверо вошли в переполненный выставочный зал. Софи окинула взглядом органди и деворе, синтетический и лисий мех, тафту и кашемир, скромные черные короткие платьица, украшенные горделиво простенькими жемчужными ожерельями; незамысловатые красные и золотистые платья с расшитыми лифами, на которые спадали подвитые локоны; доходящие до колен платья атласные с разрезами и две или три пары аккуратно продранных джинсов. Мужчины были одеты в костюмы ручной выделки – кто при галстуках, кто без, однако лоска, которым отличается одежда, купленная в магазинах готового платья, вокруг не замечалось. Произведенный Софи быстрый tour d’horizon [54]54
Обзор (фр.).
[Закрыть]позволил ей обнаружить лишь несколько мужских нарядов, стоивших дороже костюма-тройки с Сэвил-Роу, – бунтарски байкерских, к коим прилагались истертые и измятые еще до их продажи башмаки. Посетители выставки стояли так плотно, что разглядеть произведения искусства было трудновато. Софи счастливо вздохнула. Она почувствовала, что траты, которых потребовали ее платье и туфли, оказались не только оправданными, но и чрезвычайно важными. Над нарядной, живой толпой она различала подобие нимба – это испускаемые рядами потолочных ламп лучи приглушенного света отражались от золота и бриллиантов, создавая жиденькое бесцветное марево.
Если верить пресс-релизу, Лайэм Хогг и персонал его студии целых полгода «трудились круглыми сутками», заполняя царственное пространство, видевшее творения Рембрандта и Тернера, Караваджо и Вермеера. Обои со стен содрали, а сами стены покрасили белой темперой. Темно-бордовый ковер, по которому еще со времен окончания Второй мировой плавно ступали столь многие туфли с Бонд-стрит, был снят, скатан и отправлен на склад. По открывшимся половицам прошлись пескодувкой мужчины в масках.
Курение, по настоянию Лайэма Хогга, здесь приветствовалось: по залу расставили несколько высоких напольных пепельниц в виде выкованных из железа напряженных фаллосов, приводивших на ум последствия прогремевшего в порнофильме взрыва. Газетные отделы светской хроники уверяли, что для создания первой отливки художник использовал в качестве модели собственный детородный орган, а затем передал этот образец профессиональному литейщику, который и изготовил, mutatis mutandis, [55]55
Внося необходимые изменения (лат.).
[Закрыть]все остальные.
«Любые следы обычной галерейной атмосферы были тщательно стерты», – сообщалось во вступлении к каталогу. И верно, ничто на стенах галереи не напоминало о двух принесших ей изрядные деньги продажах – отчищенного до блеска фламандского полотна семнадцатого столетия, изображающего букет цветов, и плоских абстракций Питера Ланьона и Бена Николсона.
Теперь их место заняли произведения, которые сделали Лайэма Хогга богатейшим английским художником его времени. Здесь присутствовал «Анагноризис V» – вызов, брошенный живописцем обществу потребления: это полотно было заполнено штрих-кодами, срезанными с оберток продуктов, купленных в супермаркете. А также его прославленный, перенесенный на шелк розово-бирюзовый отпечаток фотографии, снятой во время боя Мохаммеда Али с Сони Листоном. А в дальнем углу зала можно было увидеть инсталляцию «Все, что мне известно о жизни, я узнал, никого не слушая»: столик из паба, а на нем пустая пивная бутылка, стаканы и полная пепельница.
– Пока я что-то не заметил здесь никого, кто не принадлежал бы к миру финансов, – пожаловался Ланс Топпинг. – Похоже, половина чертовой индустрии хедж-фондов стеклась сюда, чтобы побездельничать после работы.
– А вон, посмотри, – ответила Софи, – Назима аль-Рашид. Она к хедж-фондам отношения уж точно не имеет. Скорее к индустрии маринадов.
– Надо бы с ней поздороваться, – сказал Ланс. – Ее муж нам пятьдесят штук отвалил.
– Так пойдем. И не забывай, они обедают у нас в субботу.
Назима тоже заметила Топпингов и уже направлялась к ним, чтобы поговорить, – больше она никого здесь не знала. Молоток составить ей компанию отказался, пришлось ехать на вернисаж одной. Она была одета в сари яркого синего цвета, напоминавшее скорее о Белгравии, чем об Уэмбли и украшенное ожерельем из плоских золотых концентрических колец вроде тех, что были некогда найдены в гробнице одного из фараонов. Прелестно, сказала себе Софи, хотя Назима явно не сознавала производимого ею впечатления: и скорее всего, это неведенье было как-то связано с ее религией.
– Что это значит? – спросила Назима, указав на табличку под висевшим за ее спиной произведением искусства: «Arbeit Macht Frei». [56]56
«Труд освобождает» (нем.) – лозунг, висевший над воротами многих нацистских концентрационных лагерей, в частности Освенцима.
[Закрыть]
– Это ведь по-немецки, верно? – сказала Софи.
Произведение состояло из фотографий узников концентрационного лагеря, возможно – Бельзена или Освенцима, к которым Лайэм кое-что пририсовал. Один, лежавший на голых нарах, похожий на скелет мужчина получил иголку с ниткой, что обратило его в портного; другого художник снабдил киркой на плече, а к черепу его приладил шахтерскую лампочку. Третьего украсил кудрявым судейским париком, а голой, лежавшей на земле и, похоже, мертвой женщине достался чепчик медицинской сестры и стетоскоп, прилаженный к ее костлявой грудной клетке.
В дальнем конце зала люди с коктейлями в руках ожидали своей очереди, чтобы войти в отгороженную, тускло освещенную комнатку, похожую на ту, что отведена в Лувре для «Моны Лизы».
Справившись в каталоге, Софи узнала, что там находится нечто, именуемое «Денежная корова, 2007». «Самое смелое, быть может, творение современного искусства, „Денежная корова“ выполнена в смешанной технике: здесь использованы стерлинговые банкноты и лютеций, самый редкий из металлов (символ Lu, атомный номер 71). Стоимость одних только материалов превысила 4 миллиона фунтов стерлингов. „Я хотел бросить вызов сложившимся у людей предвзятым представлениям об искусстве“, – говорит Лайэм Хогг.
Обращаем ваше внимание. Каждый из посетителей выставки может провести перед этим произведением не больше тридцати секунд».
Софи Топпинг решила, что на «Денежную корову» посмотреть ей следует непременно. А отстояв двадцать минут в очереди, услышала от подошедшего к ней Ланса, что тот собирается домой, и сказала, что немного задержится, а после возьмет такси.
В конце концов и для нее настал черед войти в освещенную красноватым полусветом комнатку и постоять в одиночестве перед гвоздем выставки. Гвоздь представлял собой выполненную в натуральную величину и заключенную в стеклянный короб модель самой обычной коровы. Но, правда, розоватой, с чешуйчатыми, серебристого цвета рогами и розоватыми же глазами, придававшими ей странный, незрячий вид. Надо полагать, это и был лютеций. Вглядевшись сквозь стекло, Софи различила множество раз повторявшееся на бочкообразных боках животного лицо королевы. Сама корова, если верить воспоминаниям, сохранившимся у Софи от ее наполовину сельского детства, принадлежала к молочной шортгорнской породе и имела болезненно раздувшееся вымя.
Казалось, это животное так и простояло всю жизнь, слепо глядя перед собой. Софи погадала, нет ли тут где-нибудь кнопки, при нажатии на которую корова замычит, или покакает, или начнет пережевывать жвачку, или сделает еще что-нибудь. И обратилась за помощью к каталогу:
«Статуя изготовлена из папье-маше, бумажная составляющая которого образована шестьюдесятью тысячами банкнот по 50 фунтов стерлингов каждая, и обклеена новыми банкнотами того же достоинства.
Рога и глаза коровы покрыты лютецием, самым драгоценным из металлов мира и наиболее тяжелым и твердым из редкоземельных элементов. Получение его в сколько-нибудь значительных количествах обходится очень дорого, поэтому он почти не имеет, если имеет вообще, коммерческого применения. Лютеций не токсичен, однако его порошок является пожаро– и взрывоопасным».
– Время истекло, мадам, – сказал служитель выставки. – Выходите, пожалуйста.
Вернувшись в зал, Софи дочитала посвященный корове текст:
«Создание „Денежной коровы“ спонсировалось Ассоциированным королевским банком и компаниями „Салзар-Штейнберг Секьюрити“ и „Парк Виста Кэпитл“. Сейчас ее можно приобрести за 8 миллионов фунтов стерлингов».
Софи пошла поискать Назиму. Может быть, та сумеет объяснить ей суть и смысл «Денежной коровы». Почему она стоит так дорого, понятно – Лайэму Хоггу необходимо покрыть свои расходы, – но, может быть, Софи что-то в ней упустила? Увы, лимузин Назимы уже увез ее в Хейверинг-Атте-Бауэр, и спускаться на холодную Дувр-стрит Софи пришлось в одиночестве.
Когда Софи, собираясь остановить такси, соступила на мостовую этой улицы с односторонним движением, мимо нее пронесся, нарушая все правила движения, не потрудившийся включить фонарик велосипедист, обругавший ее, когда она с гулко забившимся сердцем отпрыгнула на тротуар.
В 7.45 Джон Вилс случайно столкнулся на лестнице своего дома в Холланд-парке с сыном. Пока они стояли, переминаясь с ноги на ногу и пытаясь придумать, что бы такое сказать, пискнул, уведомляя о новом сообщении, один из шести мобильников Вилса, и он ушел в кабинет прочитать его. Отправителем значилось придуманное самим Вилсом имя «Кяад», кодовое обозначение, то есть «Даяк» задом наперед – так называлось обитающее в Ост-Индии племя охотников за головами. Стало быть, послание поступило от Стюарта Теккерея, а выглядело оно так: «Наш общий друг говорит да, опред.». Вопрос, который Вилс попросил задать, касался долговых обязательств АКБ. К тому времени, когда он закончил короткое, но бурное празднование своей удачи, Финн лестничную площадку покинул, и созданная им неловкость миновала.
Джон Вилс включил в кабинете плоские экраны и проверил разброс установившихся по всему миру цен. Все пребывало в порядке, все шло так, как должно было идти, и он ощутил удовлетворение инженера, тщательно протестировавшего каждую из деталей подвижной системы. И все-таки, думал Вилс, на свете есть только одна вещь, такая же грустная, как проигранная битва, и это – битва выигранная… Точность планирования, бесспорный артистизм осуществленной им и Даффи операции вот-вот должны были принести Вилсу ошеломительную победу, коей он так жаждал, однако, думая о роли, сыгранной в ней Райманом, о слухах, которые пришлось распустить, чтобы взвинтить цену акций Ассоциированного королевского, он ощущал… Не то чтобы вину, нет, но… В сущности говоря, впервые с его молодых лет, с тех пор как он начал заключать, опираясь на «инсайдерскую информацию», фьючерсные контракты, Вилс проделал нечто такое, что шло вразрез со всеми правилами, какие были установлены регуляторными органами. Все-таки тогдаон был лучшего мнения о себе и настолько верил в превосходство своих способностей, что не снисходил до поступков, которые совершались другими сотрудниками банка едва ли не каждый день. Жаль, что для этой операции потребовалось предварительное унижение, хоть таковое и свелось к небольшой интриге, необходимость которой определялась сложностью намеченного им совершенно законного маневра; ничего такого уж страшного она собой не представляла, и тем не менее, когда Джон Вилс вспоминал о ней, его охватывало чувство… Какое тут требуется слово? Тоскливое, что ли. Чувство отчасти тоскливое.
Наверху Финн, сидя на любимом своем месте – у спинки кровати, вглядывался в плоский экран телевизора, где началась трансляция футбольного матча. Любимая его команда, та, за которую он болел с семи лет, играла с клубом, только что приобретшим, подобно «Команде мечты» Финна, «Штыка» Боровски.
На обтянутых джинсами костлявых коленях Финна покоился открытый ноутбук – там были последние статистические данные и прочие новости, касавшиеся его «Команды мечты». Сегодня в реальных матчах участвовали еще трое из одиннадцати игроков Финна, так что для него это был большой вечер.
– Я вижу, Фрэнк, начал разминаться новый игрок, «Штык» Боровски, – час спустя произнес комментатор. – Как по-твоему, может быть, в последние двадцать минут матча нам предстоит понаблюдать за его игрой?
– Да, Джон, похоже на то. Думаю, он заменит большого болгарина. Влад убегался до упада, но пробить оборону противника так и не смог. Не исключено, что Боровски удастся найти выход из этого тупика.
– Дааааа, – к собственному удивлению, выдохнул Финн и пронзил кулаком воздух над своей головой.
«Штык», уже оставшийся в одной лишь форме команды, наклонился, коснулся пальцами носков своих бутсов и принялся выслушивать указания, которые давал ему на ухо Мехмет Кундак. Главный тренер был одет в дубленку до колен, сообщавшую ему сходство с анатолийским пастухом, традиционные очки его совсем почернели от прожекторов. «Штык», слушая тренера, кивал, хоть Финн и сомневался, что тот понимает каждое слово. Кундак выразительно рубил воздух рукой, потом быстро повращал запястьем и, наконец, пристукнул себя пальцем по виску. Уж больно сложный, подумал Финн, выбрал он способ втолковать «Штыку», что ему непременно следует забить чертов гол. Наконец, один из судей – человек, неизменно выполнявший эту работу на каждом футбольном матче и способный появляться с промежутком в пару минут в местах, отстоящих одно от другого на 200 миль, – поднял над головой истыканную лампочками доску, на которой горела цифра 9, и Влад «Ингалятор», опустив голову, трусцой покинул поле, – минуя «Штыка», он даже не взглянул на сменщика и не пожал ему руку. Кундак шлепком по мягкому месту пожелал «Штыку» удачи, и английская карьера поляка началась.
Дабы выяснить, как протекают другие матчи, от которых зависел успех его воображаемой команды, Финн быстро пробежался по веб-сайтам и телевизионным каналам. Что мне действительно нужно, думал он, так это третий экран – два всю необходимую информацию давать не успевают.
В игре наступило временное затишье – Али аль-Асрафу оказывали помощь, – и Финн воспользовался этим, чтобы свернуть косячок из смеси «Авроры» и «Суперплана-два». Полученный от Саймона Тиндли запас дури он укрыл в чемодане, который стоял в самой глубине одного из встроенных шкафов его комнаты, предварительно пересыпав удобное в обращении количество травки в застегивающийся на молнию пакет для завтрака. Покурить он мог сейчас без всякого риска. Мать, Финн это проверил, сидела в гостиной, сжимая в одной руке бутылку «Леовилль Бартона» урожая 1990 года, и смотрела по телевизору костюмную драму – экранизацию «Шропширских башен» Альфреда Хантли Эджертона, «адаптированных» посредством добавления сцен орального секса. Отец никогда наверх не поднимался.
Финн глубоко затянулся и вернулся на кровать. От дыма, пролагавшего себе путь в легкие, горло его на миг сжалось, однако эффект, как и предсказал Тиндли, был почти мгновенным – глаза увлажнились, из одного уголка по щеке сбежала слеза.
Судья объявил свободный удар, Дэнни Бектайв готовился пробить его от линии штрафной. Финн видел, что «Штыка», занявшего позицию у правой штанги, блокирует центральный полузащитник, тот даже придерживал его за подол футболки, чтобы он не подпрыгнул слишком высоко.
Если «Штык» забьет гол и тем обеспечит победу своей команды, клуб, за который болел Финн, окажется в зоне вылета. С другой стороны, поскольку остальные три игравших сегодня футболиста Финна уже принесли своим клубам несколько очков (гол и голевые пасы форвардам, удачная игра защитника у ворот), его воображаемая команда получила бы тогда возможность стать первой в лиге лиг, которой управляли он и его однокашники.
Что было для него важнее – реальная команда или воображаемая? «Аврора» и «План-два» сделали ответ на этот простой вопрос затруднительным. А затем Дэнни Бектайв влепил мяч прямо в стенку, и дилемма разрешилась сама собой.
Финн дососал косячок и откинулся на подушки. Глаза его уперлись в плакат Эвелины Белле, взиравшей на него со стены почти озабоченно, почти по-матерински.
Судейство добавило три минуты, потраченные, по его мнению, на оказание помощи игрокам, и это несмотря на протесты обоих тренеров, сошедшихся в «технической зоне» – находящемся перед скамейкой запасных белом сарайчике с тремя стенами, именуемым так потому, просветил его Кен, «что, техническиговоря, в нем один тренер может другого хоть хренером называть».
Во рту у Финна пересохло от «плана», цепляться за реальность ему становилось все труднее.
Тут по левому флангу прорвался Али аль-Асраф. Да уж, в стремительности ему не откажешь. Он быстро огляделся и – мать честная, Боровски выбрался из офсайдной ловушки: взломал, точно дешевенький замок, оборону, организованную центральными полузащитниками, которые в течение трех сезонов помогали клубу Финна удерживаться в премьер-лиге; и флажок бокового судьи остался опущенным…
Финн вскочил на ноги. Никаких сомнений у него не осталось, никакого выбора между пожизненной верностью своему клубу и сиюминутным выигрышем в воображаемом мире – никакого трудного выбора между реальностью и фантазией…
– Бееей! – завопил он, когда аль-Асраф ударом левой ноги послал мяч «Штыку». Боровски принял его на бегу, на миг замер и влепил в нижний правый угол ворот. – Дааааа! – Финн упал на кровать, и теперь по его гладким щекам катилась уже не одна слеза.
В полночь Назима аль-Рашид постучалась в дверь спальни сына.
– Входи.
– Можно, я на кровати посижу?
– Как хочешь.
Хасан читал книгу: «Вехи» Сайида Кутуба.
– Ты ведь уже читал ее, разве нет?
– Да. И что?
– Хас, милый, нам тревожно за тебя. Отцу и мне.
– Почему? – В голосе Хасана проступила нотка, которой он обзавелся, когда ему было лет четырнадцать, – она говорила, что к нему пристают с глупостями.
– Ты выглядишь таким… Таким сердитым. И еще нам хотелось бы, чтобы ты подыскал для себя какое-нибудь занятие. Нехорошо проводить столько времени в мечети.
– Я думал, вам хочется, чтобы я был хорошим мусульманином.
– Конечно хочется. Ты же знаешь, никто не предан вере так, как твой отец. Но иногда молодые люди уж слишком увлекаются религией. Не только мусульмане. Другие тоже. Да и сидеть целыми часами у себя комнате вредно для здоровья.
Хасан молчал.
Назима опустила взгляд на одеяло, пальцами ущипнула его за краешек.
– Где ты сегодня был?
– Ездил к друзьям, чтобы обсудить один университетский проект.
– Ты так рано ушел из дома. И отсутствовал весь день.
– Ну да. А ты чем занималась?
– Я-то? – переспросила Назима. – Да, знаешь, обычными делами. По дому. Потом съездила в Вест-Энд, на художественную выставку. Одного такого Лайэма Хогга. Ты слышал о нем?
– Кто же о нем не слышал?
Когда Хасан был маленьким, Назима верила: он сможет добиться многого из того, в чем было отказано ей и Молотку, детям иммигрантов. Образование оба они получили лишь зачаточное, работа, на которую люди такого, как у них, происхождения могли рассчитывать в Брадфорде постиндустриальной поры, выглядела попросту зловещей. А Хасан… С детства говоривший по-английски, да еще и красивый, с длинными черными ресницами и изогнутой наподобие лука верхней губой, единственный сын в семье, окружившей его огромной заботой и сумевшей каким-то образом обзавестись деньгами, которые позволяли ему вести обеспеченную жизнь, – конечно же он, с его прирожденным умом, был просто обречен на огромные свершения или, по меньшей мере, на огромное счастье. Хасан был мальчиком любознательным, мягким, не крикливым и агрессивным, как многие из его сверстников, но и не слабым, не трусливым, с интересом относившимся к миру, к тому, как тот устроен, к рассказам окружавших его людей – он внимал им, слегка склонив голову набок, готовый слушать, жаждущий узнать ответы. Обладал он и еще одним качеством, которого не было у других мальчиков: способностью сочувствовать людям, даже людям взрослым. Порой он, заметив, что мать расстроена, гладил ее, чтобы утешить, по руке, и тогда Назима думала, что Хасан унаследовал незатейливую доброту отца.
Любовь Назимы к сыну была глубокой и сильной, а если в ней и проступали временами черты сентиментальности, так последняя, полагала Назима, была необходимой, своего рода способом защиты от крывшейся за ней до опасного примитивной страсти, способом приспособления к правилам жизни среди людей.
С изменениями, происходившими в Хасане, пока он рос, примириться Назиме было трудно. Когда он связался в школе с дурной компанией, Назима поняла, насколько искусственна маска пренебрежения, с которым ее сын якобы относился к себе, насколько скудны его средства самозащиты. А потом это нелепое студенческое увлечение политикой. Назима разбиралась в ней плохо, а кое-какие из высказываний сына о поведении Америки на Ближнем Востоке казались ей довольно верными, – ее тревожили не подробности того, что он предлагал, не его старомодная коммунистическая лексика, но степень нелюбви к себе, которую они подразумевали.
Назима верила: все преимущества, каких были лишены она и Молоток и какие получил в свое распоряжение Хасан, избавят сына от внутреннего разлада, выведут на широкую дорогу, позволяющую использовать всю его энергию, чтобы жизнь мальчика расцвела в полной мере, не оказалась частично потраченной, как это случилось с его родителями, на изнурительные попытки выживания.