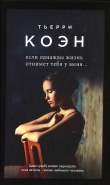Текст книги "Неделя в декабре"
Автор книги: Себастьян Чарльз Фолкс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц)
И когда она видела, что все складывается иначе, это ранило ее в самое сердце. Мальчик нисколько не радовался тому месту в жизни, которое уготовили для него труды и любовь родителей. Он стал недоверчивым, отчужденным от них и от того, во что они верили, отчужденным, в некотором совершенно непонятном Назиме смысле, даже от себя самого. Она советовалась со знакомыми, читала руководства для родителей. Все эти книги напирали на то, что дети – существа особые, отдельные; что хоть они и содержат, генетически говоря, по половинке каждого из своих родителей, этот начальный капитал имеет значение относительно малое, ибо, по преимуществу, дети являются чем-то совсем иным: самими собой. И ты почти не способна хоть как-то повлиять на их твердое, непознаваемое ядро. Одна из таких наставительных книг сравнивала мать с садовником, потерявшим вложенную в пакетик семян бирку с названием. Когда молодое растение пойдет в рост, ты не сможешь сказать, обратится ли оно в настурцию или во что-то бобовое да еще и кормовое; тебе останется только одно – стараться помочь ему стать хорошим цветком или хорошим бобовым, а там уж будь что будет.
Что бы ни представлял собою Хасан, думала Назима, какие бы возможности ни крылись в его истинной природе, счастливым человеком он не был. Для разговоров вроде сегодняшнего ей приходилось набираться храбрости – и потому, что замкнутость сына так расстраивала ее, и потому, что, вмешиваясь в его жизнь, она могла все лишь ухудшить. Поэтому к двери сына Назима подходила, лишь когда была совершенно уверена, что, не поговорив с ним, рискует навредить ему еще пуще.
– Любимый, если бы с тобой произошло что-то плохое, ты же сказал бы мне, правда?
– Что, например?
– Если бы ты почувствовало себя несчастным? В депрессию ведь многие впадают. Это никакая не слабость. Особенно в твоем возрасте. Всем известно, что созревание – дело тяжелое, но вот у тебя оно прошло хорошо, так?
– Угу.
– Я просто хочу сказать, что это очень интересно – взрослеть, знакомиться с новыми людьми и так далее. Хотя я думаю, что мужчинам твоих лет это дается труднее. Тем, кому едва за двадцать. Не знаю почему. В общем, я хотела сказать только одно: ты всегда можешь обратиться к маме, верно? И я, если у меня получится, помогу тебе.
– Ладно. Спасибо.
Она встала. Ее неспособность проникнуть в самую суть невзгод Хасана приводила Назиму в уныние, а холодность сына ранила. Это предложение помощи, если она ему потребуется, это «я всегда рядом»… Жалкое, в сущности, положение, думала она, особенно после той упоительной близости, какую мы с ним знали, когда он был мальчиком…
Но что еще она могла сделать?
День пятый
Четверг, 20 декабря
I
Премию «Книга года», присуждаемую компанией «Пицца-Палас», могла получить, что вызывало определенные нарекания, книга либо детская, либо рассказывающая о путешествиях, либо биография. Исключение беллетристики было шагом довольно смелым, однако многие считали, что у романистов и так уже предостаточно собственных премий и что они вполне обойдутся без 25 000 фунтов – награды от сети ресторанов, которая уверяет, что ей удалось обратить простую пиццу в шедевр кулинарного искусства.
Никто из членов совета директоров «ПП» заядлым читателем не был (трое из восьми вообще проголосовали против учреждения премии), однако финансовый директор водил знакомство с человеком, управлявшим пиар-агентством «Зефир», а оно имело кое-какие связи в мире искусства. Человека звали Тревор Данн, самым крупным его клиентом из этого мира была театральная труппа, ставившая мюзиклы по мотивам популярных телевизионных программ. Данн попросил Надин и Тару, его новеньких практиканток, помочь ему в предварительном отборе книг и потом вознаградил их за труды ланчем в отеле на Ковент-Гарден.
Времени на чтение ни у кого из них не было, тем не менее Тревор, Надин и Тара, изучив суперобложки и аннотации, сократили список претендентов до двадцати в каждой категории и направили его предварительной судейской коллегии, в которую входили литературные обозреватели и деловые люди издательского мира, вызвавшиеся просмотреть по двадцать книг за «гонорарум» в 400 фунтов. А после того как определились победители во всех трех категориях, Тревор получил от «Пицца-Палас» и намного больший собственный гонорар за то, что ему удалось уломать нескольких видных людей войти в жюри для выбора финалиста. Уже в июне он объявил о составе жюри, чье решение предстояло огласить на завершающей декабрьской церемонии. В него вошли младший министр транспорта из второго правительства Мейджора – один из немногих политиков, время от времени, как уверяли, читающих книги; энергичная ведущая детских телепрограмм; «признанный литературный критик» Александр Седли; «широко известный обозреватель и биограф» Пегги Уилсон; и – главная удача Тревора – «бывшая солистка группы „Девушки сзади“, а ныне известная фигура нашего телевидения» Лиза Дойль. Эта смесь литературной весомости с легковесностью шоу-бизнеса дала, как считал Тревор, лучшее из когда-либо сформированных им жюри, и правление директоров «Пицца-Палас», подсчитав длину (в дюймах) посвященных членам жюри газетных столбцов, которые почтой присылало агентство Тревора, склонно было с ним согласиться.
Кто не был с ним согласен категорически, так это Р. Трантер. Написанная им биография викторианского романиста А.-Х. Эджертона уже принесла Трантеру – победителю в своей категории – 1000 фунтов, и он не без оснований надеялся, что удастся обскакать победившую в категории «Путешествия» книгу Энтони Кейзнова «Боливия. Страна теней» и детскую «Альфи – халатный инженер» Салли Хиггс. А затем Трантер увидел в утренней газете список членов жюри, и овсянка обратилась во рту его в вату. Транспортник – это еще куда ни шло, певичка будет думать только о том, чтобы повыпендриваться, а со старушкой Пегги Уилсон он обошелся, когда Патрик Уоррендер познакомил их на каком-то литературном приеме, вполне по-божески. Но вот Седли… Господи Иисусе!
Весь этот день в голове Трантера вертелись фразы из его двухлетней давности рецензии на «Распутье зимы». «Полумертвая и несуразная». Неужели он действительно так написал? «Наблюдать за копошением Александра Седли в английском языке – это примерно то же, что наблюдать, как забулдыга в боксерских перчатках пытается подобрать с земли оброненный им ключ от двери своего дома». В тот вечер, когда сочинялась рецензия, эти слова казались ему удачными. Но стоило Трантеру уверить себя, что Седли отнесся к его рецензии «по-мужски» и никакого зла на него не держит, как из памяти всплывала новая злодейская фраза: «Проза, которой отдавил ухо медведь ее собственного самомнения».
Выход оставался только один. Через неделю после объявления состава жюри Трантер уселся за стол и, пристроив себе на колени Септимуса Хардинга, принялся сочинять то, что определил для себя как «самое трудное из когда-либо написанных мной писем». «Дорогой Александр…» Нет, звучит слишком по-дружески, слишком подобострастно; к тому же такие слова могли бы стоять в начале письма, сочиненного каким-нибудь геем, окончившим, как и Седли, частную школу. «Дорогой мистер Седли…» Чересчур холодно и вообще отдает посланием от управления газового снабжения. «Дорогой Седли» было, разумеется, обращением, которым мог начать письмо только напыщенный идиот вроде самого Седли. В конце концов Трантер остановился на простом, тавтологичном «Дорогой Александр Седли…». Вот это, пожалуй, сгодится. «Возможно, Вы помните нашу короткую встречу на том ужасном вечере в Музее естественной истории и другую – также короткую – на Вашем прекрасном чтении в Хэмпстеде (простите, что я вынужден был убежать с него в такой спешке, на самом-то деле мне очень хотелось подробно расспросить Вас о „Распутье зимы“, но – зов долга!). Так или иначе, я хочу сообщить Вам, что недавно мне представилась возможность перечитать эту книгу…»
Или «возможность» – слово слишком сильное? В конце концов, снять книжку с полки магазина способен всякий. Однако если он напишет «удовольствие», это слово слишком рано укажет на производимый им полный поворот кругом, каковой следовало подготовить с куда большим тщанием.
«Так или иначе, я хотел лишь сообщить Вам, что недавно мне представилась возможность перечитать Ваше произведение. И должен сказать, что оно доставило мне огромное удовольствие. При первом чтении подобной книги на читателя неизбежно оказывает влияние его культурный багаж, а такая многослойная проза, как Ваша, несомненно, требует прочтения второго, более вдумчивого. Я наслаждался Вашей несколько усталой эрудицией и шутливыми отсылками к первым романам других писателей – от Камю до Сэлинджера и, если не ошибаюсь, Достоевского, не больше и не меньше! И все это Вы делаете с завидной легкостью касания…»
Черт подери! Это уж перебор. Главный фокус состоял в том, чтобы ни словом не обмолвиться о собственной рецензии. Вполне вероятно, что Седли ее попросту проморгал, и тогда это письмо приведет к результату катастрофическому – он ее прочитает. А с другой стороны, вероятность того, что человек, так далеко зашедший по их общей стезе, не заглядывает в газеты, до крайности мала. Может быть, здесь самое место для отступления общего толка, рассуждения о неблагоприятных отзывах в целом? Да.
«Честно говоря, я уже не помню, какого приема удостоилась Ваша книга в самом начале, полагаю, однако, что не всем рецензентам удалось сразу осознать ее достоинства. История учит нас – вспомните отзыв Кэтрин Мэнсфилд о „Говардс Энде“, Генри Джеймса о „Нашем общем друге“, да и почти всех об „Улиссе“, – что значение имеет не первая журналистская реакция, но вторая и третья, а в случае такого романа, как Ваш, – последующие, накапливающиеся в течение многих лет отклики на него. Я имел удовольствие прочитать его уже три раза и могу без колебаний сказать, что это не только поразительный литературный дебют, но и значительныйроман как таковой.
С нетерпением ожидаю того, чем Вы порадуете нас следом.
Ваш вечно спешащий…»
Труднее всего было создать ощущение письма, с которым один рассеянный, но великодушный обладатель большого ума спешит обратиться к другому такому же, однако после трех часов усердной работы Трантер решил, что он с этим справился. В том нелегком положении, в которое он ныне попал и от разрешения которого зависела вся его жизнь, любая попытка – не пытка.
Ральф Трантер и сам когда-то состоял в романистах. Стремление к такого рода деятельности было естественным для человека, любившего книги и изучавшего в Оксфорде английских авторов, хотя для разговоров на эту тему Трантеру не хватало уверенности в себе. Первую свою работу он получил в большой лондонской страховой компании, в рамках программы обучения университетских выпускников, и с пренебрежением относился ко всякого рода «творческим» личностям, которых знал по университету и которые полагали, похоже, что литературный или артистический мир ждет не дождется их появления в нем. По прошествии трех лет он так и остался единственным из этой компании, у кого имелась работа.
Живший тогда в двух комнатах бывшего «Пибоди билдинга», что неподалеку от здания Би-би-си, Трантер возвращался с работы в 6.30, запекал в духовке большую картофелину и садился за пишущую машинку. Как писателю ему хватало непритязательности, чтобы сознавать: первым делом следует заработать деньги на оплату квартиры и иметь достаточно времени для сочинительства; хватало самодисциплины, чтобы не искать развлечений и не смотреть телевизор; к тому же, прочитав великое множество книг, он обзавелся литературным слогом, пригодным практически для любого случая. Необходимые для писательства качества у него имелись, недостатком он обладал лишь одним – ему нечего было сказать.
Да, но насколько существенным на самом-то деле был этот недостаток? – гадал Трантер. В куче романов, которые он прочитал и основательно проработал, происходило не столь уж и многое. Главные герои перебирались из положения А в положение Б. Сюжет – по крайней мере в смысле какого-либо настоящего действия – был вотчиной писателей жанровых: сочинителей того, что с прискорбной неточностью именуют триллерами, либо работавших, как заводные игрушки, детективных складных картинок, либо эпопей-катастроф о расплодившихся в канализации крокодилах-мутантах. А тем временем в узколобых газетных интервью и высоколобых литературных биографиях обсуждался исключительно вопрос о том, в какой степени содержание книг, сочиняемых серьезными романистами, черпается из их жизненного опыта, а характеры своих героев авторы списывают со знакомых. И после двух лет, отданных разрываемым надвое страницам, фальстартам и трезвым полуночным бдениям, Трантер убедил себя в том, что, собственно, содержание его романа не так уж и существенно – в сравнении с поисками почтенного издательства, выбором броского названия и способной привлечь покупателя фотографии автора.
И он начал заново, отправив главного героя, не так чтобы не похожего на него самого, по жизненному пути, который, словно брат-близнец, походил на тот, что выпал ему. Писатели любят поговорить о «создании» персонажей, но, коли на то пошло, стоит ли лезть ради этого из кожи вон? Лишь очень немногие знали и самого Трантера, и тех из его знакомых, которых он намеревался вывести в своем романе, так какой же смысл фокусничать и лепить из пустоты совершенно новых людей? Ему и его друзьям свойственна, по крайней мере, врожденная достоверность, они «реалистичны» по определению…
Герой Трантера, Джон Стэрди, родившийся в скромной семье одного из центральных графств, оказывался перед выбором, в его краях нередким: заняться ли ему гончарным делом или отправиться в Лондон с девушкой из художественного училища, похожей на Сару Пауэлл, которая жила когда-то по соседству с родителями Трантера, но обладавшей вдобавок сексуальной притягательностью – добавок, по правде говоря, был весьма увесистый. Трантер шел за голосами английской школы регионалистов, настраивая по ним собственный; он использовал, например, интертекстуальные отсылки к романам Стэна Барстоу и Уолтера Аллена. И, написав три главы, обнаружил, что роман его набирает ход. Всякий раз, как ему требовалось новое событие, он заимствовал эпизод из собственной жизни и не без лихости закручивал его. И в конце концов сплел из этих эпизодов 200 машинописных страниц. Смерть дедушки Стэрди прибавила бы еще десять, а там оставалось рукой подать и до 250 – критической, как ему говорили, массы, которой издатель мог заполнить 200 печатных страниц.
Одновременно Трантер писал статьи для маленьких журналов и, посылая их, прилагал к ним копии других, сочиненных еще в Оксфорде, плюс написанные на авось, но так и не напечатанные рецензии на новые книги. В конце концов «Аванпост» тиснул одну из них, а месяцем позже его примеру последовал «Актиум», и Трантер поспешил закрепить успех, отправляя в эти журналы все новые и новые свои опусы. Платы за них он не требовал, однако, скопив с полдюжины вырезок, принялся бомбить ими журналы покрупнее и даже газеты. Из последних многие почти перестали печатать рецензии на книги, однако, когда в конце 1980-х началась эпидемия субботних приложений, произошло – и едва ли не за одну ночь – пятикратное увеличение пространства, которое отводилось на газетных страницах под книжные обзоры. Редакторам литературных отделов приходилось теперь заполнять рецензиями не половину страницы, отдавая вторую под рекламу мебельных магазинов, а целых три, да еще и каждую субботу. И они принялись лихорадочно рыться в бумагах, которыми были завалены их столы, отыскивая телефонный номер Трантера.
В ту пору Трантер подумывал о том, чтобы сочинить для себя еще один инициал – назваться, к примеру, РГ. Прецедентов хватало, и прецедентов благоприятных. Существовали же, как-никак, Оден, Йейтс, Элиот, Каммингс и Хильда Дулиттл, известная толькопо ее инициалам ХД; на полях литературной критики, то есть там, где Трантер намеревался добывать хлеб насущный, паслись некогда отцы кембриджской критической школы Ф.-Р. Ливис и А.-А. Ричардс, а несколько позже на них же появились более плодовитые Э.-Н. Уилсон и Д.-Дж. Тейлор, эти двое были, насколько знал Трантер, не многим старше его. Насколько может увеличить тираж газеты ну, скажем, А.-В. Волк, если изберет такой псевдоним? Впрочем, в конечном счете он решил, что будет все-таки и оригинальнее и честнее ограничиться одним инициалом.
Затем, на устроенной «Аванпостом» рождественской вечеринке, Трантер познакомился с литературным агентом и уговорил его взглянуть на роман, к тому времени завершенный и названный «Сказка о гончаре». Издатель – не принадлежавший к числу тех, кого выбрал бы сам Трантер, – принял роман, заплатив за него 2000 фунтов. Книга получила несколько благосклонных отзывов, однако продан был всего 221 экземпляр, включая пятьдесят восемь, приобретенных библиотеками, и двенадцать, посланных матери автора, а предложений о переиздании в мягкой обложке не последовало. Ходили слухи, что роман этот, того и гляди, выдвинут на премию, которую присуждала пылесосная компания «Хэндивак», однако они оказались ложными.
Разочарование поначалу накатывало на Трантера перемежавшимися волнами, а то и судорогами, но по прошествии нескольких месяцев затвердело, обратившись в кристаллическую, нерастворимую горечь. Это событие его жизни обладало в точности той формой, что была потребной (при всей ее непотребности) для заполнения одной из потаенных ниш личности Трантера. Когда-то, на спортивных площадках и в школьных классах, он выглядел неунывающим и благожелательным, в разумных пределах, ребенком. Быть может, и не очень общительным – для этого ему опять-таки не хватало уверенности в себе, – но все же у него имелось немало друзей; Трантер был прилежным учеником, любил поп-музыку и футбол и если не входил в элитарное сообщество «клевых ребят», то и не стоял совсем уж в стороне от него. И когда ему удалось поступить в Оксфорд, ни учителей его, ни родных это не удивило – мальчик хорошо учился и даже в восемнадцать лет питал особое пристрастие к писателям Викторианской эпохи.
Университет, как ни нравился он Трантеру, вынудил его занять оборонительную позицию. Ему казалось, что он нисколько не глупее прочих студентов, однако многие из них обладали умением подать себя, что попросту ставило его в тупик. Он купил было в магазине на Терл-стрит твидовый пиджак и галстук, однако ни то ни другое ему не помогло, и Трантер вернулся к джинсам и надежной плотной куртке. Он состоял в университетских обществах, участвовал в их собраниях, выступал на семинарах; был завсегдатаем студенческого паба «Герб короля». Никакой катастрофы с ним не случилось, просто сообщество беспечальных, блестящих молодых людей не считало его своим. Трантер водил с ними знакомство, они относились к нему без какой-либо недоброжелательности, помнили, хоть и не всегда правильно произносили, его имя, позволяли прибиваться в пабе или в баре колледжа к их компаниям – с краешку, улыбались шуткам Трантера и разрешали ему угощать их пивом, но никогда не снисходили до того, чтобы пригласить его на одну из своих вечеринок. Трантер сменил в «Гербе короля» пиво на джин с тоником; начал курить, выбрав тот сорт сигарет, который пользовался у его знакомых наибольшей популярностью. Перестал болеть за «Вест-Бромвич», заменив его «Арсеналом» – или «Ливерпулем», это зависело от того, с кем он в данную минуту разговаривал, – и даже подумывал о том, чтобы забросить английскую литературу и заняться философией. Однако что бы ни предпринимал Трантер за эти три года, он всегда оставался на обочине. Это разочарование породило в нем нельзя сказать чтобы пылкий, но устойчивый гнев. И однажды он дал себе клятву, не облекая ее, впрочем, в слова, добиться, сколько бы времени на это ни ушло, приметного места под солнцем. До поры же, в краткой, так сказать, перспективе, Трантер нашел для себя хотя бы одно утешение: умение использовать все, чему он научился от чуравшихся его людей, для того чтобы в свой черед притеснять тех, – а таких было немало, – кто чувствовал себя в университете еще более неуютно, чем он.
Последняя встреча Трантера с Фаруком аль-Рашидом была посвящена обзору того, что им удалось достичь. Оплаченное Молотком такси доставило Трантера от станции к дому около одиннадцати. Бразильская служанка, Люси, открыла дверь и провела его по коридору в кабинет Молотка.
Добродушный старый дурак оторвался от огромного экрана компьютера и протянул Трантеру руку. Трантер был рад, что это последнее их свидание. Мистер аль-Рашид, возможно, и был миллиардером, шут его знает, однако в литературе не смыслил почти ничего.
– Ну-с, как вам показался «Секретный агент»? – спросил Трантер.
Молоток помрачнел:
– Он совсем не такой интересный, как я думал. С трудом добрался до конца.
– Конрад он и есть Конрад. Можно привезти сюда с Украины поляка, но не стоит ожидать, что он будет хорошо писать по-английски.
– Как по-вашему, ее величество читала Конрада?
– Скорее всего, не читала. Но это не повод для беспокойства. А что вы скажете о «Мести служанки»?
– Ах да. Снова ваш друг Альфред Хантли Эджертон. «Шропширские башни» мне больше по душе.
– Да, пожалуй, это его «Сержант Пеппер». Ну ладно, а «Фра Липпо Липпи»?
– Мне понравилось, – ответил Молоток. – Это хорошо?
– Да, это хорошо. Некоторые считают Браунинга подливкой, если так можно выразиться, к основному блюду, но, по-моему, он – подлинный голос викторианской Англии.
Люси принесла чай, яблочный сок и коробочку фиников. Трантер подозревал, что в большинстве рекомендованных им книг Молоток одолел не больше пары страниц. Он был далеко не уверен в том, что Молоток действительно умеет читать.
– Ладно, – сказал Трантер, – давайте сыграем в ролевую игру. Я буду изображать королеву.
– Я должен опуститься на одно колено?
– Вас же не в рыцарское достоинство возводят, верно?
– Нет, меня… Просто я не знаю, как там все будет.
– Довелось ли вам прочесть в последнее время какие-либо хорошие книги, мистер аль-Рашид?
– О да, ваше величество. Очень много. Особенно хорош, как мне кажется, лауреат премии «Кафе-Браво» за этот год.
– Вот как? А мне его книга показалась типично субконтинентальной, подстраивающейся под Рушди, толком не отредактированной херней из разряда «посмотрите, какая я интересная».
– Вряд ли она скажет…
– Да, вероятно, она обойдется без «херни». Но что вы ответите на остальное?
Молоток откашлялся.
– Живучесть современного британского романа очень многим обязана энергии, которой напитали его писатели из бывших колоний, принесшие с собой свежесть взгляда и мультикультурную восприимчивость к…
– Звучит так, точно вы цитату зачитываете, – сказал Трантер.
– Вы вроде бы говорили, что я должен выучить это наизусть.
– Говорил. Однако вам следует постараться, чтобы оно выглядело чуть более спонтанным, понимаете?
– Попробовать еще раз?
– Не стоит. Перейдем к вопросам и ответам.
В обмене таковыми они практиковались вот уже несколько недель – Трантер царственно осведомлялся: «Как вам нравится такой-то?», а Молотку надлежало давать быстрый и гладкий ответ.
– Как вам нравится Гарди?
– Я нахожу его слишком детер… детермани…
– Детерминистичным.
– Слишком детерминистичным, – выговорил Молоток, – однако невозможно не преклоняться перед тем, как тонко он чувствует родной уэссекский пейзаж.
Они перебрали классиков, затем иноземцев и перешли к авторам последней поры. Трантер испытывал удовольствие, слушая, как его собственную хулу повторяет Молоток.
Он задал вопрос об одной из самых почитаемых современных писательниц.
– Если она хочет, чтобы ее воспринимали всерьез, ей следует заучить разницу между «мой» и «свой», – уверенно отбарабанил Молоток.
– Хорошо.
Трантер назвал маститого американца.
– Проза этого автора отрастила такие мускулы, что ни одну его страницу без вилочного погрузчика не перевернешь. Правильно?
– В самое яблочко, – сказал Трантер и предложил Молотку дать отзыв о лауреате из Африки.
– Хмм, – уверенно промычал Молоток. – Вам не кажется, что он еще в школе поклялся никогда не прибегать к прилагательным?
Последней частью урока стало чтение наизусть. Трантер полагал, что любимый поэт королевы – это Джон Бетджемен, и потому заставил Молотка заучить два его стихотворения.
Молоток же обнаружил, что строки стихов вспоминаются легче, если он прогуливается по кабинету.
– «В трубах газовых колонок / Дуют осени ветра», [57]57
Д. Бетджемен, «Женщины перед работой». Перевод Григория Кружкова.
[Закрыть]– начал он.
Молоток остановился у окна, и свет, который источали поднимавшиеся к Эппинг-Форесту холмы, озарял смуглую бледность его лица и темные озерца сосредоточенных глаз.
– «Женщины перед работой / В ваннах плещутся с утра».
Вглядываясь в густые черные брови Молотка с впаянными в них седыми проводками, в его всплывавшее в горле адамово яблоко, Трантер без всякой на то причины задумался о том, откуда происходит этот человек и его предки, – скорее всего, предположил он, это могла быть одна из земледельческих долин Пакистана. И Трантер, сам того не желая, словно бы воочию увидел картины кровавого раздела этой страны британцами, столетий веры, жадности и насилия, – и миллионы нищих крестьян, подобных аль-Рашидам, которых арабы-мусульмане оттесняли на восток, а набеги монголов – на юг и на запад, где из них, наконец-то осевших, тянули жилы уже собственные единоплеменники.
– «Струи пара из отдушин, / В кранах булькает вода, – гордо и размеренно продолжал читать Молоток. – Мчатся с грохотом сквозь Кэмден / Утренние поезда».
Размышления Бетджемена о женщинах перед работой, облеченные им в слова, которые слетали сейчас с губ Фарука аль-Рашида, оказали на Трантера воздействие странное. Теперь перед ним предстала уже не долина Мирпур, но город Лондон – и сам он, и этот неграмотный пакистанец были клеточками гигантского тела, воспеваемого в стихах выходца из второго поколения голландских иммигрантов. Парочка старых мошенников, вот кто мы такие, подумал Трантер.
Он взглянул в окно на уходящую вдаль землю и представил себе Хейверинг, затем, к северо-западу от него, Эппинг, затем Эдмонтон, в котором владелец конюшни Том Китс растил непоседливого сына по имени Джон, а южнее – Кэмден с описанными Диккенсом в «Домби и сыне» страшными паровозами, которые с фырчанием выползали из своих нор в старом городе, ожидая, когда для них пробьют путь через соседний Чолк-Фарм…
– «Раннее похолоданье, – продолжал впавший, похоже, в транс Молоток, – Георгинов яркий тлен. / Ванные, как голубятни, / Виснут выступами стен…»
…И добрался до каменных ступеней многоквартирного дома в Канонбери, ведших к квартире Оруэлла, в которой он согнал себя курением в раннюю могилу, до жуткого Клэпхэмского выгона, на котором Грин выгуливал своих узколобых, безлюбых персонажей, а там и до узких улочек Люишема и Кэтфорда, еще ожидавших, насколько знал Трантер, обретения собственных голосов.
И когда баритон Молотка с его йоркширскими гласными и кашмирскими согласными смолк, лисье лицо Трантера стало смягчаться в недолгом свете декабря.
Он кашлянул и снова взглянул в окно. То были всего лишь стихи, однако в долголетней своей горечи Трантер почти забыл, что могут делать с нами слова, из которых состояла вся его жизнь.
Все это утро Джон Вилс провел у себя в кабинете, заперев дверь и неотрывно следя за ценой акций Ассоциированного королевского. Время от времени он переводил взгляд на улыбавшуюся ему с экрана ноутбука Олю. Он старался смотреть на нее как можно дольше, надеясь, что, пока взгляд его оторван от экрана с ценами АКБ, те возьмут да и подрастут еще немного. Стив Годли поступал примерно так же, когда дело касалось международных соревнований по крикету, которые в летние месяцы показывал ему обеззвученный телевизор: если команда Англии проигрывала, он просто выходил из комнаты, если выигрывала, Стив мог хоть семь часов подряд держать свой мочевой пузырь в узде.
Оля, с притворной стеснительностью подобрав колени к подбородку, явно околдовывала АКБ. Цена акций поднималась все утро, будто поверхность неторопливо надуваемого воздушного матраса, и к одиннадцати Вилс мог с уверенностью сказать, что вскоре цена эта резко сиганет вверх. Интересно, думал он, способно ли УФР определить по его жесткому диску, сколько времени он провел, всматриваясь в выведенные на экран показатели Ассоциированного королевского? Впрочем, даже если кто-нибудь и сумеет воссоздать всю последовательность его действий, обвинить Вилса все равно будет не в чем: он всего лишь смотрел на экран.
У Вилса появилось смешанное чувство – такое он впервые испытал еще подростком: душевный подъем, вызванный тем, что к нему потекли деньги, а за ним самодовольство – как-никак это был результат принимавшихся им по наитию решений, – и следом, почти равное первым двум по силе, чувство совсем иного рода: тошнотворная тревога, страх того, что в его операции присутствует некая сторона, которую он не смог принять во внимание, поворот, предвидеть который не удалось даже ему.
Во многих отношениях наиболее счастливым, наиболее легким этапом карьеры Джона Вилса был самый первый. В унылой школе Северного Лондона Джон состоял не на лучшем счету, однако его успехи в математике позволили ему поступить в университет из «сереньких», где он волей-неволей изучал право. Вилс вытерпел два года, а после ушел, подыскав для себя место клерка в конторе биржевого маклера. Эта работа наделила его чувством рынка, хотя сама по себе была скучна, а принятая в ней система фиксированных комиссионных представлялась Джону давно устаревшей. Затем, в 1982-м, когда ему было двадцать два года, в Сити появилось нечто более близкое Вилсу по духу: Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов. Вилс сказал отцу, который, как и его отец, управлял в Хендоне похоронной конторой, что перерос работу клерка и хочет заняться торговлей фьючерсами. Моррис Вилс испугался. Его сын принадлежал всего лишь к третьему британскому поколению семьи, и Моррис радовался, видя Джона в толпе клерков фондовой биржи в их непременных котелках: такая работа вполне могла оказаться пожизненной и позволила бы сыновьям Джона учиться в частных школах и в Оксфорде. Однако Джону удалось уломать отца – с помощью дяди-букмекера, Гарри, сказавшего, что он знаком с биржевым брокером, который как раз начинает работать в ЛМБФФ после двадцати лет, отданных им оптовой торговле рыбой в Биллингсгейте. Его брокерской фирме, сказал Гарри, требуется толковый посыльный.
– Считать твой племянник умеет? – спросил торговец рыбой.