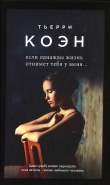Текст книги "Неделя в декабре"
Автор книги: Себастьян Чарльз Фолкс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 29 страниц)
«Штык» оглянулся и увидел направлявшуюся к ним Аманду.
– Вторая половинка… Чего? А, ну конечно. Очень красивая особа.
Роджер чуть не покатился со смеху:
– Да это я не о собаке сказал. О моей жене.
– Тад, – произнесла Оля. – Тут один мужчина на меня как-то странно смотрит.
– Который?
Оля указала на Джона Вилса.
– Кто этот мужчина? – поинтересовался «Штык».
– Вон тот? – переспросил Роджер. – Это Джон Вилс. Хозяин хедж-фонда. Он на всех как-то странно смотрит. Не обращайте внимания. Гляньте-ка, нам еще выпивку тащат.
Патрик Уоррендер появился с опозданием, принес Софи извинения, огляделся в поисках Р. Трантера и увидел его отходившим от людей, которые окружали Джона Вилса.
– Я тебе кое-что принес, Ральф. – Патрик взял его за локоть, провел через выходящую на лестничную площадку дверь и достал из внутреннего кармана конверт. – Надеюсь, тебе понравится. Хочешь – посмотри сейчас.
– А что это? – Первой реакцией Трантера стал испуг, вызванный мыслью, что его лишают положения – так, собственно говоря, никем и не утвержденного – литературного обозревателя газеты Патрика.
Патрик улыбнулся:
– Давай-давай. Конверт не кусается. Вскрой его. Я попросил Арабеллу отпечатать этот документик, пока она сегодня воскресный номер готовила. Специально за ним в редакцию заезжал.
Трантер следка подрагивавшими руками вскрыл конверт. И увидел предложение о работе: официальное предложение ежемесячной оплаты его услуг. Глаза Трантера, быстро пробежавшись по тексту, зацепились за деталь весьма существенную: 25 000 фунтов стерлингов в год.
Он постарался скрыть охватившее его изумление:
– Выглядит неплохо. Спасибо. Но почему именно сейчас? Вот уж чего не ожидал. Меня вполне устраивала наша прежняя договоренность.
– Знаю, – ответил Патрик. – Просто я подумал, что это поможет тебе пережить разочарование, вызванное историей с «Пицца-Топпинг».
– Ты имеешь в виду «Пицца-Палас»?
– «Пицца-Как-Скажешь», – улыбнулся Патрик. – Похоже, я слепил два приема в один. В общем, мы предлагаем тебе ежемесячную оплату трех обзоров в месяц. Если трех подходящих книг не наберется, деньги ты все равно получишь те же. Если их окажется четыре, плата возрастет pro rata. [66]66
Пропорционально (лат.).
[Закрыть]
– Звучит прекрасно.
– И еще одно, Ральф. – Патрик начал прогуливаться по площадке, сцепив за спиной руки, – совершенно как школьный учитель, объясняющий что-то любимому ученику. – Начиная с этого времени ты будешь писать только о девятнадцатом веке.
– Как это? – Трантер снова заподозрил какой-то подвох.
– С нынешними авторами тебе больше связываться не стоит. – Патрик кашлянул. – Это же, на самом-то деле, не твое, верно? А биографии, письма, поэзия, путевые заметки, все, что угодно, написанное задолго до твоего рождения, – вот это подходит тебе в самый раз, ведь так? Я, собственно, о чем – если честно, Ральф, сочинения наших современников, они… Они для тебя хуже горькой редьки, правда?
Трантер уставился в пол. Им понемногу овладевало странное чувство, говорившее: твоя жизнь достигла поворотной точки. А еще более странно, думал Трантер, что он понимает, произошло именно это – ведь, как правило, такие штуки осознаются лишь задним числом. Голова его немного кружилась от облегчения, от опьянения взявшимися невесть откуда деньгами: всего за тридцать шесть часов на него свалились с неба 47 500 фунтов в год. И нужна ему теперь «Пицца-Палас»? Головокружение подстрекало Трантера к честности. Однако обзавестись привычкой к правдивому изложению своих реакций он пока не успел и потому ступил на этот путь не без опаски.
– Ну, – начал он, – я, э-э… Я думаю, что ты, может быть, и прав.
Он примолк – посмотреть, не обрушится ли на него потолок, не расхохочется ли во все горло Патрик. Нет, ничего такого не произошло, и Трантер, набравшись смелости, пошел чуть дальше.
– По правде говоря, – сказал он, – у меня от современной мути с души воротит. Извини, я отлучусь ненадолго. Мне нужно глотнуть воздуха.
Он торопливо спустился в вестибюль, а из него еще ниже, на кухню, миновал множество усердно трудившихся, взятых напрокат поваров, открыл застекленную дверь в патио, за которой курил сигарету самый главный из них, и вышел на лужайку.
Добравшись до конца парка, он присел на низенькую кирпичную стену и постарался совладать с бурей бушевавших в его груди чувств. Почти 50 000 фунтов в год за то, что он будет жить только в девятнадцатом веке… Какая радость, как это интересно, как весело! Возможно, он заведет еще одного кота – будет Септимусу компания! Он сможет поехать в отпуск, сможет принять приглашение прочесть лекцию на круизном лайнере, который скоро отправится в плавание по Балтийскому морю. «Троллоп. Писатель для писателей»; «Альфред Хантли Эджертон. Неизвестный викторианец».
И никаких тебе Седли, никакой псевдоирландской мутотени, никакого Сомерсета Моэма для бедных с его прискорбно неправдоподобными ключевыми моментами. Ни этого, обратившего «анальность» в «банальность». Не будет больше возвышенных подделок, разбавленной водичкой Барбары Пим, пустозвонства и той пишущей километрами бабы… Отныне и навек – только Браунинг, Теккерей, Эджертон, Джордж Гиссинг и милый старый Уильям Гаррисон Эйнсворт.
Трантер отбросил носком коричневого ботинка последние из уцелевших осенних листьев, вытер мокрое лицо рукавом. Через минуту он вернется в дом, в толпу глумливо улыбающихся людей и будет, глядя на них, чувствовать, как желудок его согревают сорок семь «кусков».
Наверху Назима аль-Рашид разговаривала с мужчиной по имени Марк Лоудер. Он почему-то решил, что Назима лишь недавно прибыла в страну из другой части света, а ей не хватило духу объяснить, что родилась она в Брэдфорде.
– Вам здесь нравится? – осведомился Лоудер, беззастенчиво вглядываясь в кого-то, находившегося за спиной Назимы и явно представлявшего для него гораздо больший интерес.
– В Лондоне?
– Да.
– Мы перебрались сюда не так уж и давно. Но, в общем, да, нравится.
– Такой большой город. Перенаселенный. – Взгляд Лоудера продолжал обшаривать толпу гостей в поисках какого-нибудь соплеменника.
– В Лондоне очень много людей, – прибавил он голосом более громким.
– Да, это верно. Но мы живем за городом. В Хейверинг-Атте-Бауэре.
– Где это?
– По дороге на Ипсуич, – ответила Назима.
– А, понятно, – сказал Марк Лоудер.
– Вы тоже политик? – поинтересовалась Назима. – Как Ланс?
– Боже упаси.
Поскольку Лоудер ничего к этому не прибавил, Назима спросила:
– Так кто же вы?
– Математик. – Он произнес это как-то странно: «метеметик». Похоже, профессия его была Лоудеру весьма и весьма по душе.
Назима улыбнулась:
– Когда я училась в школе, мне очень нравилась математика. Она была моим любимым предметом. А где вы преподаете?
– Я не преподаю, – ответил Лоудер с видом человека, обвиненного в мелком, но очень некрасивом проступке. – Я управляю фондом.
– И на что вы собираете деньги?
Лоудер недовольно поморщился, однако мигом успокоился, решив, по-видимому, дать этой малограмотной иммигрантке еще один шанс.
– Говоря точнее, – сказал он, – я управляю фондом фондов.
– Фондом?..
– Мне просто здорово повезло, – сообщил Лоудер, сняв с проплывавшего мимо подноса канапе и бросив короткий взгляд на Назиму. – Я проработал несколько лет в хедж-фонде, который принадлежал моему давнему приятелю. Работа была трудная. Аналитика. А потом один американский банк сделал нам предложение, от которого мы ну никак не смогли отказаться. И мы продали фонд. Джонни сохранил в нем место консультанта. А я вроде как ушел на покой. – Он приложился к своему бокалу. – Но мне было всего лишь тридцать шесть. И спустя пару лет я вроде как заскучал. Ну вы понимаете. Конечно, я купил построенный еще при ком-то из Георгов дом приходского священника, присобачил к нему плавательный бассейн и прочее и прочее…
– Так что же вы в итоге сделали? – спросила Назима.
– Договорился с парочкой друзей, и мы основали фонд. Точнее говоря, фонд фондов. Видите ли, кое-кто считает, что хедж-фонды, просуществовав некоторое время, утрачивают связь с действительностью. Происходит деформация стиля. А людям хочется идти все дальше, не терять темп. Кроме того, даже самые лучшие из хедж-фондов не способны уследить за всем сразу. В результате многие рассовывают свои деньги по нескольким разным фондам. Это очевидный способ максимилизации дохода. Освежения капитала.
– Я понимаю, – сказала Назима.
– Фонд у нас небольшой, – продолжал Лоудер. – Инвесторов совсем немного. Однако он позволяет мне не закисать. Я отдаю ему пару дней в неделю. В общем, мне повезло.
Подошел и представился обоим Габриэль.
– О боже, – сказал он, когда Назима назвала свое имя. – Софи просила меня не разговаривать с вами, поскольку за столом мы будем сидеть бок о бок.
Назима улыбнулась:
– Тогда вам стоит, наверное, поговорить с мистером Лоудером. По его словам, он руководит фондом фондов.
– Правда? – спросил Габриэль. – А что это такое?
– Извините, – сказал Лоудер, – мне нужно переговорить с хозяйкой дома.
– Это такой способ, позволяющий сохранять ваш капитал в свежем виде, – ответила за него Назима. – И избегать деформации стиля. У вас какие-нибудь деньги в фонде фондов лежат?
– Да я в нем все мои богатства держу, – сообщил Габриэль. – Поступать как-то иначе было бы просто безумием. Правда, в последнее время я подумываю, не перебросить ли их в фонд фондов фондов.
Лоудер, увидев, что Софи Топпинг сама направляется в их сторону, остался стоять на месте.
– Можете смеяться сколько влезет, – сказал он, – но если между девятьсот восемьдесят шестым и две тысячи шестым вы были работоспособным человеком и не сумели нажить пятьдесят миллионов, ваши дети будут гадать, потрудились ли вы хоть раз за эти двадцать лет вылезти из кровати. Такого времени никогда еще не было – и никогда больше не будет. Его даже «Аль-Каиде» испортить не удалось. Посмотрите вон туда. Это Джейми «Доббо» Макферсон. Мы с ним в одной школе учились. Он закончил ее, сдав только два экзамена обычного уровня, причем один из них – по труду. Так даже Доббо и тот в конце концов ухитрился сколотить состояние. А вот как бог свят, мы думали, что ему это никогда не удастся. Однако в конечном итоге – в конечном – он продал свою долю «Кафе-Браво» и скупил гору доходной недвижимости. Господи, да он теперь делает деньги, финансируя постановку фильмов!У него сейчас сто с хвостиком миллионов. И если у васих нет, ваши дети и внуки захотят узнать – почему.
– А что, сейчас уже слишком поздно? – спросил Габриэль.
Однако Лоудер отошел от него, не ответив. Габриэль поставил пустой бокал на поднос, взял полный, выскользнул из гостиной и спустился вниз, чтобы поискать выход из дома. Ему хотелось глотнуть свежего воздуха. К тому же его мучил голод, а сырая рыба оказалась не лучшим для пустого желудка подарком. Дойдя до задней части дома, Габриэль толкнул приоткрытую дверь, ведшую, решил он, в кабинет. И увидел стену, увешанную фотографиями разных лет, на каждой из которых Ланс Топпинг пожимает руку какому-нибудь известному человеку. На одной он беседует с бойким экономистом – его недолгое время прочили в лидеры партии, а ныне этот господин преподает в Университете третьего возраста; на другой – с тогдашним лидером партии, впоследствии спятившим и оказавшимся в доме престарелых; на третьей – с прежним министром финансов, который, лишившись своего поста, занялся сочинением детективных романов. Из всей этой публики только Ланс и остался ныне действующим членом парламента.
Габриэлю казалось, что он забрел в мир, совершенно ему непонятный. Люди, подобные Марку Лоудеру и, пусть и на иной манер, Лансу Топпингу, просто играли по другим правилам. И в этом мире деньги каким-то образом стали единственным, что бралось в расчет. Когда это произошло? Когда образованные люди перестали смотреть на деньги и на приобретательство сверху вниз? Когда цивилизованный человек начал усматривать в деньгах уже не средство достижения разного рода приятных целей, но собственно цель? Когда именно люди респектабельные стали отдавать все свое время подсчету нулей? И почему, черт возьми, никто не поставил Габриэля в известность о том, что этот решающий миг наступил?
Рядом с письменным столом он увидел стеклянную дверь, открывавшуюся на маленький балкон. Габриэль сдвинул ее шпингалеты, верхний и нижний, вышел на воздух. Закурил сигарету, затянулся, глотнул холодного шампанского. В дальнем конце парка одиноко сидел на низенькой кирпичной ограде какой-то мужчина.
Не успев ничего обдумать, Габриэль вытащил мобильник и отправил Дженни сообщение: «Застрял на приеме. Сплошь дрочилы. Встретимся звтр? Обсудим важные аспекты 2 дела… Целую Г.».
Нажимая на «Отправить», Габриэль вдруг обнаружил, что у него слегка кружится голова. Возможно, из-за того, что начал отвыкать от никотина – мест, где можно было покурить, теперь почти не осталось, а баловаться сигаретами дома он себе не позволял. Или же весь этот мир закачался и ему, состоящему с ним в разладе, придется теперь вечно страдать морской болезнью? Была ли Дженни его спасительным кругом? По крайней мере, походило на то. Она казалась словно бы вросшей в почву, надежно заземленной. Габриэль улыбнулся: едва ли не каждая его мысль о ней была так или иначе связана либо с поездами, либо с электричеством. И все же что-то присущее этой женщине наполняло его настоятельным желанием жить, которого он прежде не знал.
Сверху неслись звуки громкого людского говора. «Попойки шумом оглашалась ночь…» – подумал Габриэль.
Байрон, «Канун Ватерлоо». Эти слова с почти болезненной ясностью вернули ему ощущение от книги «Стихи, которые стоит запомнить», от желтой ткани обложки под его, одиннадцатилетнего мальчика, пальцами, от жаркого послеполуденного часа, проведенного им в классной комнате школы, от его стараний втиснуть их в свою память.
– Сэр. Прошу прощения.
Из кабинета выглядывал на балкончик официант, лицо его выражало сочувствие – так полицейский, которому предстоит отправить за решетку старого рецидивиста, слегка сожалеет, что долгие поиски завершились, и дает старику еще десять минут свободы.
– Кушать подано, сэр.
Габриэль уронил сигарету, затоптал ее. Официант ждал, наблюдая за ним.
«Все в порядке, суперинтендент, – пробормотал он в воображении Габриэля, обращаясь к лацкану своего пиджака. – На этот раз осложнений с задержанным не будет».
Габриэль молча покинул балкон. Выйдя в вестибюль, он увидел женщин, осторожно сходивших на высоких каблучках по лестнице и сворачивавших в сторону ярко освещенной столовой.
– Если кому-то нужен туалет, – раздался голос Софи, – он там, в конце вестибюля.
На лестнице образовалось что-то вроде затора, и Джон Вилс обнаружил рядом с собой высокого галантного мужчину в вельветовом костюме шоколадного цвета и пурпурном галстуке.
– Здравствуйте, – сказал мужчина и протянул руку. – Патрик Уоррендер.
– Джон Вилс.
– Я видел, как вы разговаривали с одним из моих лучших рецензентов, с Ральфом Трантером.
– Да, – ответил Вилс. И, помолчав, прибавил: – Озлобленный мелкий мудак, это он?
Патрик кашлянул:
– Оценка несколько поспешная.
– Работа у меня такая, – сказал Вилс. – Анализировать и оценивать. К тому же вы, как я вижу, ее не опровергаете.
– Ну, нельзя не признать, что у Ральфа имеются кое-какие проблемы с… э-э, с современными авторами.
– Вот именно, – согласился Вилс. – Если бы он был шоколадкой, так сам бы себя, на хер, слопал. Даже в моем бизнесе…
Однако закончить фразу Вилс не успел – Патрик увидел перед собой брешь в стене спускавшихся гостей и улизнул сквозь нее.
Пустые комнаты переходили одна в другую, соединяясь сводчатым проходом, пробитым в разделявшей их прежде стене. Сквозь него протянулся длинный стол с белой, до пола скатертью, по которой были расставлены свечи и чаши с цветочными лепестками. Голос Софи пробивался сквозь гул других голосов, подсказывая замешкавшимся гостям их места. Рядом с Софи маячил официант, куда менее дружелюбный, похожий не столько на достойного труженика, сколько на школьного инспектора, который наблюдает – скорее в печали, чем в гневе – за попытками учительницы утихомирить ее подопечных.
Сквозившая в общем разговоре пронзительная нотка неискренности действовала на гостей подобно наркотику. Ни один из них не желал садиться первым – а ну как все подумают, что он подчинился распоряжениям Софи. Почти всем им пришлось преодолевать, каждому в своей области, сильную конкуренцию, доказывать, что они обладают большей, нежели у прочих, проницательностью, жадностью либо жестокостью, и потому ни один из них не хотел уступать в происходившей здесь игре в показную веселость.
Габриэль отодвинул для Назимы взятый напрокат банкетный стул (на краткий, болезненный миг напомнивший ему тот, на котором он сидел при первой встрече с Каталиной), представился женщине, присевшей справа от него, – Клэр Дарнли, той самой, что разговаривала с Саймоном Портерфилдом о новом пакете телевизионных услуг.
– Мне понравилось, как вы его отчитали, – сказал Габриэль. – Вы очень хорошо смотрелись бы на моем месте. Свидетели у вас по струнке ходили бы.
Клэр его слова, похоже, не позабавили.
– Вы когда-нибудь смотрели эту чушь? Совершеннейший ужас. Люди претенциозные почему-то видят особый шик в том, чтобы уверять, будто она им нравится. А скажи, что ты на самом деле думаешь, и тебя сочтут снобом.
– Но вас это не пугает?
– Нет, конечно, – ответила Клэр. – Должен же кто-то и правду говорить. Такое телевидение – это порочная эксплуатация глупых и невежественных людей бессердечными богатыми негодяями. Позор нашего общества.
Габриэль прикусил губу:
– Вам следовало бы вести газетную колонку.
– Это уже вторая работа, какую вы мне предлагаете. Вы, часом, не подрабатываете в свободное время агентом по трудоустройству?
– Нет, решаю кроссворды и читаю поэтов. Начинаю, впрочем, думать, что для заполнения пустынь великой вечности, из которых состоит мое свободное время, и кроссвордов придумано недостаточно, и поэтических строк написано мало.
– Марвелл, – отметила Клэр.
– Да.
– Но почему у вас так много свободного времени?
– Потому что я веду слишком мало дел.
– А почему же вы…
– Не знаю. Я непопулярен. И контора моя тоже. Работой там никто особо не завален, – кроме хозяина. Ну и еще одного королевского адвоката, который ведет только торговые дела.
– Вряд ли причина только в этом.
– Да, тут вы, наверное, правы. Причина, я думаю, зарыта поглубже. Возможно, солиситоры чувствуют, что мне недостает энтузиазма. Однако это меняется. Мне кажется, что я перевернул какую-то страницу. Я уже получил на следующий год четыре дела. В январе одно из них пойдет в апелляционный суд, и думаю, это многое переменит.
– А скажите, вы голосовали за Ланса на дополнительных выборах? – спросила Клэр.
– Нет. Я из другого избирательного округа.
– Как и сам Ланс.
– Да и в любом случае я не знаю, во что он верит, – сказал Габриэль. – Мне всегда казалось, что он мог бы состоять в любой партии. Возможно, он просто вступил в университете не в тот клуб. Подбросил монетку, когда выбирал его. Думаю, все, к чему он стремится, – это власть. Ему хочется управлять.
– Ну, возможно, придет и его день. С миссис Уилбрехем он уже явно нашел общий язык.
– Что же, надеюсь, этот день придет уже скоро. Для его же пользы.
– Красное или белое, сэр? – Над плечом Габриэля изогнулся, вглядываясь в недоеденный салат и некрасиво разломанный ломоть ржаного хлеба, «школьный инспектор».
– Красное, пожалуйста, – сказал Габриэль.
Он решил, что пора бы ему побеседовать и с женщиной, сидевшей от него слева, с Назимой аль-Рашид. И разговор их быстро переключился с ее остававшегося пустым винного бокала на вопросы веры.
– Вы очень религиозны? – спросил Габриэль.
Назима улыбнулась:
– Да нет. Моя семья никакой религиозностью не отличалась. Я была самой обычной йоркширской девушкой. А вот семья Молотка – моего мужа – состояла из глубоко верующих людей. И сам он такой же. И мой сын. Сын с детства пел и читал Коран в мечети, пока не увлекся политикой. Но теперь, по-моему, возвращается к исламу.
– Вы этим довольны?
– Конечно.
Что-то не выглядит она такой уж довольной, подумал Габриэль. Брови Назимы сдвинулись, карие глаза словно затуманились. Красивая женщина, думал он, но выглядит почему-то печальной – возможно, ей кажется, что ее оттолкнули на обочину и она лишь наблюдает за жизнью других, но не участвует в ней.
– Так или иначе, – сказал он, – Коран – книга занятная, верно? Не комичная, разумеется, но странноватая.
– Вы имеете в виду, занятная тем, что не похожа на другие?
– Да. И тем, что напрочь лишена структуры.
– Он писал то, что ему диктовалось.
– Я знаю. Архангелом Джабраилом. Однако мой тезка никакой практически повествовательной дисциплиной не отличался. Эта книга просто набрасывается на читателя, правда? И в ней на удивление мало собственно рассказа. Одни утверждения.
– Еще красного вина, сэр? Сейчас подадут баранину.
– Да. По-прежнему красного, спасибо.
Габриэль почувствовал, что «инспектор», до середины пополнив его бокал бургундским Ланса Топпинга, мысленно поставил против его школы пометку «сомнительная».
Он повернулся к Клэр, однако та уже разговаривала со своим соседом справа; Назима повернулась к соседу слева, и это дало Габриэлю несколько минут передышки. Слухом он обладал на редкость острым и даже при том шуме, какой создавали гости, мог на краткое время подключаться к разговорам и отключаться от них.
Магнус Дарк склонялся над столом к сидевшему напротив него Ричарду Уилбрехему:
– Так каким образом вы хотели бы ограничить иммиграцию?
Уилбрехем неловко улыбнулся:
– Я полагаю, правило Чатем-Хауса [67]67
Правило Чатем-Хауса– «правило конфиденциальности», согласно которому запрещено делать ссылки и упоминать содержание дебатов, их характер и имена их участников.
[Закрыть]остается в силе и здесь?
Дарк пожал плечами и покраснел, – как если бы Уилбрехем усомнился в его чести, – но, впрочем, не отступился:
– Назовите хотя бы примерные цифры.
Софи Топпинг:
– Не будьте таким приставалой, Магнус.
Уилбрехем:
– Видите ли, вы должны понимать, что в этом году семьдесят пять процентов лондонских рожениц сами родились в других странах.
Индира Портерфилд:
– Как человек, тоже родившийся не здесь, могу сказать, что…
«Штык» Боровски:
– Если вам нужен прекрасный футбол, вы не можете составлять команду только из английских игроков.
Оля:
– Да, Тадеуш платит большие налоги.
Роджер:
– Нет, от добавки не откажусь. Где вы берете это бургундское, Ланс?
Слушать никто никого не желал, и на лице Ричарда Уилбрехема обозначилось умиротворенное облегчение – гомон, поднятый людьми, бубнившими каждый свое, не позволял Дарку и дальше лезть к нему с вопросами…
Хасан аль-Рашид сидел в последнем вагоне поезда, шедшего на запад по линии «Дистрикт». Между его ног стоял на полу плотно набитый нейлоновый рюкзак. Одежду Хасана составляли темно-синяя шерстяная шапочка, анорак, джинсы и горные ботинки с толстыми носками. Он побрился, чтобы выглядеть как можно более неприметным, и теперь крепко сжимал левой ладонью правую. Чего она жаждет, эта ладонь, думал Хасан, почему он стискивает ее с такой силой?
Конец приближался, Хасан и вправду ехал к своей последней цели, и это немного успокаивало. Поезд довезет его почти до самого вокзала Ватерлоо, откуда он поедет к «Глендейлу», где сойдутся все остальные. Хасан полагал, что все они будут волноваться, бить друг друга по плечам, как регбисты перед матчем, чтобы проникнуться чувством локтя, подбодриться. Скоро он встретится со своими друзьями. То, что ими задумано, хорошо и правильно: чистое дело в грязном, сбившемся с пути мире.
Он цеплялся за обещавшие всем мученикам вечную жизнь слова Корана – просто потому, что слова «Хадисов», сборников мудрых изречений Пророка, произнесенных им в течение всей его жизни, были куда менее утешительными. Они без всяких оговорок объявляли самоубийство грехом и уверяли, что тот, кто его совершит, так и будет раз за разом накладывать на себя руки в загробной вечности. О «Хадисах» Хасан старался не думать.
Чтобы не привлекать к себе подозрительных взглядов, он старался смотреть прямо перед собой, но без чрезмерной угрюмости. Старался выглядеть усталым, но не одурманенным чем-либо; не желающим вступать в какие бы то ни было отношения с окружающими, но лишь потому, что так в этом городе принято. И прежде всего – выглядеть совершенно спокойным. В этом, был уверен Хасан, ему поможет одежда: будничная, безликая, но чистая и добротная – любопытные взгляды отскакивают от такой, точно мячик от стены. Хасан был сейчас воплощением мистера Лондонца, временно впавшего в оцепенение человека, каждая пора которого твердит: «Оставьте меня в моем собственном маленьком мире, в моей якобы жизни – относитесь ко мне с уважением, но близко не подходите».
Поезд шел слишком быстро. Кто его ведет? Они уже выбрались из Эссекса и катили, минуя Степни, Боу, Майл-Энд, по старому Ист-Энду – когда-то оплоту кокни, теперь мусульман. Хасан тяжело вздохнул, подумав о тянувшихся над его головой узких улицах, на которых торговали халялем, о рыночных тележках, ростовщиках, продавцах паранджи. Смогут ли эти люди создать крепкое основное ядро, фундамент второго халифата? Хватит ли им для этого сил?
Да, машинист его поезда не ведает жалости. Куда он так спешит? Поезд уже ворвался в финансовый мир, раскинувшийся вокруг станции «Монумент», затем миновал Кэнон-стрит и Мэншн-Хаус, где кафиры, лихорадочно работая по двенадцать часов в день, отчаянно пытаются перетащить какие-то деньги из одного фонда в другой… Горе всякому хулителю-поносителю, который собрал богатство и приготовил его! Думает он, что богатство его увековечит. Так нет же! Будет ввергнут он в сокрушилище, в огонь воспламененный…
Все свои три университетских года Хасан пересаживался на Северную линию на станции «Набережная», однако, заглянув недавно в атлас Лондона, понял что до моста Ватерлоо лучше всего добираться от «Темпл», станции очень приятной – у выхода из нее торговали цветами, а чтобы оказаться у реки, достаточно было перейти улицу. Салим сказал им, что на метро ехать до Ватерлоо не стоит, – вокзал большой, международный, значит, там везде понатыканы видеокамеры системы наблюдения.
Хасан, приготовившись к последним десяти минутам своего пути, провел проездным билетом по щели считывателя, вернул эту карточку в карман, подумав, что больше она ему не понадобится, и вышел в ночь.
Обед у Топпингов никакого удовольствия Джону Вилсу не доставлял. Пока остальные гости расправлялись с главным блюдом, он обменивался, держа телефон под столом, текстовыми сообщениями с Кираном Даффи. Его всегда раздражало обыкновение нью-йоркской и лондонской бирж закрываться на предрождественские уик-энды. Да так ли уж много среди тамошних брокеров христиан, черт бы их всех побрал?
Кроме того, ему действовало на нервы присутствие Магнуса Дарка. Знатоком финансов этот писака не был, его колонка содержала обычно комментарии, посвященные двум-трем недавним событиям, и, когда Райман в должное время подкинет ему вторую, более правдивую часть информации, о Дарке можно будет и вовсе забыть. Статья его была написана недурно, вреда ему никакого не принесла. И все же смотреть на него, сидевшего по другую сторону стола, Вилсу было как-то неловко. Отодвигая от себя баранину с рататуем, Вилс ощущал тяжесть в желудке, которая, это он знал по опыту, не покинет его вплоть до успешного завершения операции. Нет, но какого хера Ланс Топпинг пригласил этого жалкого борзописца? Уж не хотел ли Ланс припугнуть его, Вилса?
И как будто всего этого было мало, чтобы испортить для него обед, откуда ни возьмись объявилась та самая русская девка. Впервые заметив ее на другом конце гостиной, Вилс машинально кивнул ей, как давней знакомой, однако ответного кивка не дождался. Девушка смотрела на него как на человека совершенно ей незнакомого, да еще и бровь приподняла, словно не понимая, почему он вообще на нее пялится.
Вилс минут двадцать прорылся в памяти, прежде чем сообразил, что не там ищет. Эта девица принадлежала к другому миру. Она нереальна – просто экранная фикция, компьютерный персонаж. Ах, чтоб меня, подумал Вилс. Он никогда по-настоящему не верил, что эти бабы живут где-то, дышат да и вообще существуют. Девушка оказалась более молодой, чем выглядела, раздеваясь, и куда более трехмерной. Уж не пополнела ли она немного? – подумал Вилс. А что, ей это идет. Худо уже и то, что Ланс Топпинг зазвал на свой обед Магнуса Дарка, приведя мир слухов, вранья и абстрактных цен в столкновение с миром осязаемых вещей, но выдернуть из киберпространства эту состоящую из пикселей цифровую шлюшку и оживить ее, чтобы она облила его, Вилса, презрением, – это… Он никак не мог отделаться от мыслей о форме ее чуть крупноватых грудей, знакомых ему так же хорошо, как кисти его собственных рук.
Вилс снова опустил взгляд под стол, к светящемуся экранчику своего телефона.
Софи Топпинг откинулась на спинку стула, предоставив гостям продолжать свои пересуды. Общий разговор обратился для нее в приятный рокот. Магнус Дарк отцепился от Ричарда Уилбрехема и теперь обменивался какими-то задушевностями с Амандой Мальпассе. Взгляд Роджера словно прилип к ложбинке между грудей Оли. Фарук аль-Рашид смаковал газированную воду, умело изображая интерес к планам Бренды Диллон, касавшимся будущего проваливших экзамены выпускников средней школы. Р. Трантер рассказывал озадаченной Джиллиан Фоксли о романах Уолтера Аллена.
Джон Вилс, заметила Софи, украдкой поглядывает на экран карманного компьютера, который держит под столом. Он, как и Роджер, казался зачарованным Олей, хотя не обязательно по одной и той же причине. Саймон Портерфилд обхаживал Дженнифер Лоудер – прежде за ним такого не водилось. Возможно, его просто заинтересовала женщина, примерно такая же богатая, как он сам. Собственно говоря, денег у Дженнифер было меньше, но если сложить ее доход с доходом Марка… Марк недавно предложил властям города, в котором он родился, оплатить строительство нового крыла тамошней картинной галереи, а когда власти ответили ему отказом, пообещал еще и купить стартовую коллекцию картин, чтобы пристройка не пустовала.
Странно, думала Софи, как это получилось, что в последнее время едва ли не каждый, с кем ты сводишь знакомство, оказывается не просто богатым, но богатым безумно, несказанно, безмерно? Сотни миллионов перетекают со счетов этих людей в хедж-фонды и инвестиционные компании, которым уже не удается подыскивать хоть какую-нибудь собственность, которую стоило бы на их деньги купить. До поры до времени Софи и Ланса считала богатым человеком – его жалованье и наградные давали пару миллионов в год, – но теперь точно знала, что в сравнении с другими Ланс был неудачником: рядом с этими людьми они, Топпинги, выглядели почти нищими. Впрочем, ее это не тревожило. Их денег хватит и на эту жизнь, и на полдюжины следующих, а в том, чтобы терять связь с избирателями, многие из которых – это она знала наверняка – зарабатывают от силы несколько тысяч в месяц, хорошего тоже мало.