Собрание сочинений. Т. 1
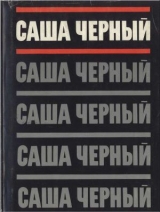
Текст книги "Собрание сочинений. Т. 1"
Автор книги: Саша Черный
Соавторы: Анатолий Иванов
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
Садик. День. Тупой, как тумба,
Гость – учитель Ферапонт.
Непреклоннее Колумба
Я смотрю на горизонт.
Тускло льются переливы.
Гость рассказывает вслух
По последней книжке «Нивы»
Повесть Гнедича «Петух».
Говори… Чрез три недели
Сяду в поезд… Да, да, да! —
И от этой канители
Не останется следа.
Садик. Вечер. Дождик. Клумба.
Гость уполз, раскрывши зонт.
Непреклоннее Колумба
Я смотрю на горизонт.
<<1911>><1922>Кривцово
Художник в парусиновых штанах,
Однажды сев случайно на палитру,
Вскочил и заметался впопыхах:
«Где скипидар?! Давай, – скорее вытру!»
Но рассмотревши радужный каскад
Он в трансе творческой интуитивной дрожи
Из парусины вырезал квадрат
И… учредил салон «Ослиной Кожи».
<1922>
Если при столкновении книги с головой раздастся пустой звук, – то всегда ли виновата книга?
Георг Лихтенберг
Книжный клоп, давясь от злобы,
Раз устроил мне скандал:
«Ненавидеть – очень скверно!
Кто не любит, – тот шакал!
Я тебя не утверждаю!
Ты ничтожный моветон!
Со страниц литературы
Убирайся к черту вон!»
Пеплом голову посыпав,
Побледнел я, как яйцо,
Проглотил семь ложек брому
И закрыл плащом лицо.
Честь и слава – все погибло!
Волчий паспорт навсегда…
Ах, зачем я был злодеем
Без любви и без стыда!
Но в окно вспорхнула Муза
И шепнула: Лазарь, встань!
Прокурор твой слеп и жалок,
Как протухшая тарань…
Кто не глух, тот сам расслышит,
Сам расслышит вновь и вновь,
Что под ненавистью дышит
Оскорбленная любовь.
<1922>
(«Я пришел к художнику Миноге…»)
Я пришел к художнику Миноге —
Он лежал на низенькой тахте
И, задравши вверх босые ноги,
Что-то мазал кистью на холсте.
Испугавшись, я спросил смущенно:
«Что с тобой, maestro? Болен? Пьян?»
Но Минога гаркнул раздраженно,
Гениально сплюнув на диван:
– Обыватель с заячьей душою!
Я открыл в искусстве новый путь,—
Я теперь пишу босой ногою…
Все, что было, – пошлость, ложь и муть.
– Футуризм стал ясен всем прохожим.
Дальше было некуда леветь…
Я нашел! – и он, привстав над ложем,
Ногу с кистью опустил, как плеть.
Подстеливши на пол покрывало,
Я колено робко преклонил
И, косясь на лоб микрокефала,
Умиленным шепотом спросил:
«О Минога, друг мой, неужели? —
Я себя ударил гулко в грудь,—
Но, увы, чрез две иль три недели
Не состарится ль опять твой новый путь?»
И Минога тоном погребальным
Пробурчал, вздыхая, как медведь:
«Н-да-с… Извольте быть тут гениальным…
Как же, к черту, дальше мне леветь?!»
<1922>
Говорите ль вы о Шелли, иль о ценах на дрова,
У меня, как в карусели, томно никнет голова,
И под смокингом налево жжет такой глухой тоской,
Словно вы мне сжали сердце теплой матовой рукой…
Я застенчив, как мимоза, осторожен, как газель,
И намека, в скромной позе, жду уж целых пять недель.
Ошибиться так нетрудно, – черт вас, женщин, разберет,
И глаза невольно тухнут, стынут пальцы, вянет рот.
Но влачится час за часом, мутный голод все острей, —
Так сто лет еще без мяса настоишься у дверей.
Я нашел такое средство – больше ждать я не хочу:
Нынче в семь, звеня браслетом, эти строки вам вручу…
Ваши пальцы будут эхом, если вздрогнут, и листок
Забелеет в рысьем мехе у упругих ваших ног,—
Я богат, как двадцать Крезов, я блажен, как царь Давид,
Я прощу всем рецензентам сорок тысяч их обид!
Если ж с миною кассирши вы решитесь молча встать —
И вернете эти вирши с равнодушным баллом «пять»,—
Я шутил! Шутил – и только, отвергаю сладкий плен…
Ведь фантазия поэта, как испанский гобелен!
Пафос мой мгновенно скиснет, – а стихи… пошлю в журнал,
Где наборщик их оттиснет под статьею «Наш развал»,
Почтальон через неделю принесет мне гонорар
И напьюсь я, как под праздник напивается швейцар!..
<1922>
Безглазые глаза надменных дураков,
Куриный кодекс модных предрассудков,
Рычание озлобленных ублюдков
И наглый лязг очередных оков…
А рядом, словно окна в синий мир,
Сверкают факелы безумного Искусства:
Сияет правда, пламенеет чувство,
И мысль справляет утонченный пир.
Любой пигмей, слепой, бескрылый крот,
Вползает к Аполлону, как в пивную, —
Нагнет, икая, голову тупую
И сладостный нектар, как пиво, пьет.
Изучен Дант до неоконченной строфы,
Кишат концерты толпами прохожих,
Бездарно и безрадостно похожих,
Как несгораемые тусклые шкафы…
Вы, гении, живущие в веках,
Чьи имена наборщик знает каждый,
Заложники бессмертной вечной жажды,
Скопившие всю боль в своих сердцах!
Вы все – единой Дон-Кихотской расы —
И ваши дерзкие, святые голоса
Все также тщетно рвутся в небеса
И вновь, как встарь, вам рукоплещут папуасы…
<1922>
Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью.
Кн. притч Соломоновых, гл. 15—17
ГОРЬКИЙ МЕД *
Пред каждым дураком душа пылает гневом.
Вот он – чудовище, владыка бытия!
Проклятый граммофон с затасканным напевом,
Безглазый судия…
В любой квартире, развалясь беспечно,
Он в сердце истины вбивает грубый кол —
И вежливо в ответ мычишь: «Да-да, конечно…»
А в горле вопль: «Осел!»
В искусстве – прокурор, все смял он, кроме моды,
В быту – надменный крот, обрел все «нет» и «да»,
И, словно саранча, зудит в садах природы
Бессчетные года!
Рак человечества, вовек неизлечимый,—
Лишь он блажен в житейском кабаре.
Стучится в дверь. Кипишь непримиримый,—
И говоришь: «Entrez!» [29]29
«Войдите!» (фр.).
[Закрыть]
<1922>
Любовь должна быть счастливой —
Это право любви.
Любовь должна быть красивой —
Это мудрость любви.
Где ты видел такую любовь?
У господ писарей генерального штаба?
На эстраде, – где бритый тенор,
Прижимая к манишке перчатку,
Взбивает сладкие сливки
Из любви, соловья и луны?
В лирических строчках поэтов,
Где любовь рифмуется с кровью
И почти всегда голодна?. .
К ногам Прекрасной Любви
Кладу этот жалкий венок из полыни,
Которая сорвана мной в ее опустелых садах…
<1911>
Тридцать верст отшагав по квартире,
От усталости плечи горбя,
Бледный взрослый увидел себя
Бесконечно затерянным в мире.
Перебрал всех знакомых, вздохнул
И поплелся, покорный, как мул.
На углу покачался на месте
И нырнул в темный ящик двора.
Там жила та, с которою вместе
Он не раз убивал вечера.
Даже дружба меж ними была —
Так знакомая близко жила.
Он застал ее снова не в духе.
Свесив ноги, брезгливо-скучна,
И, крутя зубочисткою в ухе,
В оттоманку вдавилась она.
И белели сквозь дымку зефира
Складки томно-ленивого жира.
Мировые проблемы решая,
Заскулил он, шагая, пред ней,
А она потянулась, зевая,
Так что бок обтянулся сильней —
И, хребет выгибая дугой,
По ковру застучала ногой.
Сел. На плотные ноги сурово
Покосился и гордо затих.
Сколько раз он давал себе слово
Не решать с ней проблем мировых!
Отмахнул горьких дум вереницу
И взглянул на ее поясницу.
Засмотрелся с тупым любопытством,
Поперхнулся и жадно вздохнул,
Вдруг зарделся и с буйным бесстыдством
Всю ее, как дикарь, оглянул.
В сердце вгрызлись голодные волки,
По спине заплясали иголки.
Обернулась, зевая, сирена
И невольно открыла зрачки:
Любопытство и дерзость мгновенно
Сплин и волю схватили в тиски,
В сердце вгрызлись голодные щуки,
И призывно раскинулись руки…
…………………………………………………
Воротник поправляя измятый,
Содрогаясь, печален и тих,
В дверь, потупясь, шмыгнул воровато
Разрешитель проблем мировых.
На диване брезгливо-скучна,
В потолок засмотрелась она.
<1911>
Пришла блондинка-девушка в военный лазарет,
Спросила у привратника: «Где здесь Петров, корнет?»
Взбежал солдат по лестнице, оправивши шинель:
«Их благородье требует какая-то мамзель».
Корнет уводит девушку в пустынный коридор,
Не видя глаз, на грудь ее уставился в упор.
Краснея, гладит девушка смешной его халат.
Зловонье, гам и шарканье несется из палат.
«Прошел ли скверный кашель твой? Гуляешь или нет?
Я, видишь, принесла тебе малиновый шербет…»
«Merci. Пустяк, покашляю недельки три еще».
И больно щиплет девушку за нежное плечо.
Невольно отодвинулась и, словно в первый раз,
Глядит до боли ласково в зрачки красивых глаз.
Корнет свистит и сердится. И скучно и смешно!
По коридору шляются – и не совсем темно…
Сказал блондинке-девушке, что ужинать пора,
И проводил смущенную в молчанье до двора…
В палате венерической бушует зычный смех,
Корнет с шербетом носится и оделяет всех.
Друзья по койкам хлопают корнета по плечу,
Смеясь, грозят, что завтра же расскажут все врачу.
Растут предположения, растет басистый вой,
И гордо в подтверждение кивнул он головой…
Идет блондинка-девушка вдоль лазаретных ив,
Из глаз лучится преданность, и вера, и порыв.
Несет блондинка-девушка в свой дом свой первый сон:
В груди зарю желания, в ушах победный звон.
<1910>
I
Окруженный кучей бланков,
Пожилой конторщик Банков
Мрачно курит и косится
На соседний страшный стол.
На занятиях вечерних
Он вчера к девице Керних,
Как всегда, пошел за справкой
О варшавских накладных —
И, склонясь к ее затылку,
Неожиданно и пылко
Под лихие завитушки
Вдруг ее поцеловал.
Комбинируя событья,
Дева Керних с вялой прытью
Кое-как облобызала
Галстук, баки и усы.
Не нашелся бедный Банков,
Отошел к охапкам бланков
И, куря, сводил балансы
До ухода, как немой.
II
Ах, вчера не сладко было!
Но сегодня, как могила,
Мрачен Банков и косится
На соседний страшный стол.
Но спокойна дева Керних:
На занятиях вечерних
Под лихие завитушки
Не ее ль он целовал?
Подошла, как по наитью,
И, муссируя событье,
Села рядом и солидно
Зашептала, не спеша:
«Мой оклад полсотни в месяц,
Ваш оклад полсотни в месяц,—
На сто в месяц в Петербурге
Можно очень мило жить.
Наградные и прибавки
Я считаю на булавки,
На Народный Дом и пиво,
На прислугу и табак».
Улыбнулся мрачный Банков —
На одном из старых бланков
Быстро свел бюджет их общий
И невесту ущипнул.
Так Петр Банков с Кларой Керних
На занятиях вечерних,
Экономией прельстившись,
Обручились в добрый час.
Ill
Проползло четыре года.
Три у Банковых урода
Родилось за это время
Неизвестно для чего.
Недоношенный четвертый
Стал добычею аборта,
Так как муж прибавки новой
К Рождеству не получил.
Время шло. В углу гостиной
Завелось уже пьянино
И в большом недоуменье
Мирно спало под ключом.
На стенах висел сам Банков,
Достоевский и испанка.
Две искусственные пальмы
Скучно сохли по углам.
Сотни лиц различной масти
Называли это счастьем…
Сотни с завистью открытой
Повторяли это вслух!
* * *
Это ново? Так же ново,
Как фамилия Попова,
Как холера и проказа,
Как чума и плач детей.
Для чего же повесть эту
Рассказал ты снова свету?
Оттого лишь, что на свете
Нет страшнее ничего…
<1911>
В городской суматохе
Встретились двое.
Надоели обои,
Неуклюжие споры с собою,
И бесплодные вздохи
О том, что случилось когда-то…
В час заката,
Весной, в зеленеющем сквере,
Как безгрешные звери,
Забыв осторожность, тоску и потери,
Потянулись друг к другу легко, безотчетно и чисто.
Не речисты
Были их встречи и кротки.
Целомудренно-чутко молчали,
Не веря и веря находке,
Смотрели друг другу в глаза,
Друг на друга надели растоптанный старый венец
И, не веря и веря, шептали:
«Наконец!»
Две недели тянулся роман.
Конечно, они целовались.
Конечно, он, как болван,
Носил ей какие-то книги —
Пудами.
Конечно, прекрасные миги
Казались годами,
А старые скверные годы куда-то ушли.
Потом
Она укатила в деревню, в родительский дом,
А он в переулке своем
На лето остался.
Странички первого письма
Прочел он тридцать раз.
В них были целые тома
Нестройных жарких фраз…
Что сладость лучшего вина,
Когда оно не здесь?
Но он глотал, пьянел до дна
И отдавался весь.
Низал в письме из разных мест
Алмазы нежных слов
И набросал в один присест
Четырнадцать листков.
Ее второе письмо было гораздо короче,
И были в нем повторения, стиль и вода,
Но он читал, с трудом вспоминал ее очи,
И, себя утешая, шептал: «Не беда, не беда!»
Послал «ответ», в котором невольно и вольно
Причесал свои настроенья и тонко подвил,
Писал два часа и вздохнул легко и довольно,
Когда он в ящик письмо опустил.
На двух страничках третьего письма
Чужая женщина описывала вяло:
Жару, купанье, дождь, болезнь мама,
И все это «на ты», как и сначала…
В ее уме с досадой усомнясь,
Но в смутной жажде их осенней встречи,
Он отвечал ей глухо и томясь,
Скрывая злость и истину калеча.
Четвертое письмо не приходило долго.
И наконец пришла «с приветом» carte postale [30]30
Почтовая открытка (фр.).
[Закрыть],
Написанная лишь из чувства долга…
Он не ответил. Кончено? Едва ль…
Не любя, он осенью, волнуясь,
В адресном столе томился много раз.
Прибегал, невольно повинуясь
Зову позабытых темно-серых глаз…
Прибегал, чтоб снова суррогатом рая
Напоить тупую скуку, стыд и боль,
Горечь лета кое-как прощая
И опять входя в былую роль.
День, когда ему на бланке написали,
Где она живет, был трудный, нудный день —
Чистил зубы, ногти, а в душе кричали
Любопытство, радость и глухой подъем…
В семь он, задыхаясь, постучался в двери
И вошел, шатаясь, не любя и злясь,
А она стояла, прислонясь к портьере,
И ждала, не веря, и звала, смеясь.
Через пять минут безумно целовались,
Снова засиял растоптанный венец,
И глаза невольно закрывались,
Прочитав в других немое: «Наконец!..»
<1911>
(Роман)
Мечтают двое…
Мерцает свечка.
Трещат обои.
Потухла печка.
Молчат и ходят…
Снег бьет в окошко,
Часы выводят
Свою дорожку.
«Как жизнь прекрасна
С тобой в союзе!»
Рычит он страстно,
Копаясь в блузе.
«Прекрасней рая…»
Она взглянула
На стол без чая,
На дырки стула.
Ложатся двое…
Танцуют зубы.
Трещат обои
И воют трубы.
Вдруг в двери третий
Ворвался с плясом —
Принес в пакете
Вино и мясо.
«Вставайте, черти!
У подворотни
Нашел в конверте
Четыре сотни!!»
Ликуют трое.
Жуют, смеются.
Трещат обои,
И тени вьются…
Прощаясь, третий
Так осторожно
Шепнул ей: «Кэти!
Теперь ведь можно?»
Ушел. В смущенье
Она метнулась,
Скользнула в сени
И не вернулась…
Улегся сытый.
Зевнул блаженно
И, как убитый,
Заснул мгновенно.
<1910>
Это было в провинции, в страшной глуши.
Я имел для души
Дантистку с телом белее известки и мела,
А для тела —
Модистку с удивительно нежной душой.
Десять лет пролетело.
Теперь я большой…
Так мне горько и стыдно
И жестоко обидно:
Ах, зачем прозевал я в дантистке
Прекрасное тело,
А в модистке
Удивительно нежную душу!
Так всегда:
Десять лет надо скучно прожить,
Чтоб понять иногда,
Что водой можно жажду свою утолить,
А прекрасные розы для носа.
О, я продал бы книги свои и жилет
(Весною они не нужны)
И под свежим дыханьем весны
Купил бы билет
И поехал в провинцию, в страшную глушь…
Но, увы!
Ехидный рассудок уверенно каркает: «Чушь!
Не спеши —
У дантистки твоей,
У модистки твоей
Нет ни тела уже, ни души».
<1910>
(Для мужского голоса)
Мать уехала в Париж…
И не надо! Спи, мой чиж.
А-а-а! Молчи, мой сын,
Нет последствий без причин.
Черный гладкий таракан
Важно лезет под диван.
От него жена в Париж
Не сбежит, о нет, шалишь!
С нами скучно. Мать права.
Новыйгладок, как Бова,
Новыйгладок и богат.
С ним не скучно… Так-то, брат!
А-а-а! Огонь горит.
Добрый снег окно пушит.
Спи, мой кролик, а-а-а!
Все на свете трын-трава…
Жили-были два крота…
Вынь-ка ножку изо рта!
Спи, мой зайчик, спи, мой чиж,—
Мать уехала в Париж.
Чей ты? Мой или его?
Спи, мой мальчик, ничего!
Не смотри в мои глаза…
Жили козлик и коза…
Кот козу увез в Париж…
Спи, мой котик, спи, мой чиж!
Через… год… вернется… мать…
Сына нового рожать…
<1910>
Под липой пение ос.
Юная мать, пышная мать
В короне из желтых волос,
С глазами святой,
Пришла в тени почитать —
Но книжка в крапиве густой…
Трехлетняя дочь
Упрямо
Тянет чужого верзилу: «Прочь!
Не смей целовать мою маму!»
Семиклассник не слышит,
Прилип, как полип,
Тонет, трясется и пышет.
В смущенье и гневе
Мать наклонилась за книжкой:
«Мальчишка!
При Еве!»
Встала, поправила складку
И дочке дала шоколадку.
Сладостен первый капкан!
Три блаженных недели,
Скрывая от всех, как артист,
Носил гимназист в проснувшемся теле
Эдем и вулкан.
Не веря губам и зубам,
До боли счастливый,
Впивался при лунном разливе
В полные губы…
Гигантские трубы,
Ликуя, звенели в висках,
Сердце, в горячих тисках,
Толкаясь о складки тужурки,
Играло с хозяином в жмурки,—
Но ясно и чисто
Горели глаза гимназиста.
Вот и развязка:
Юная мать, пышная мать
Садится с дочкой в коляску —
Уезжает к какому-то мужу.
Склонилась мучительно близко,
В глазах улыбка и стужа,
Из ладони белеет наружу —
Записка!
Под крышей, пластом,
Семиклассник лежит на диване
Вниз животом.
В тумане,
Пунцовый, как мак,
Читает в шестнадцатый раз
Одинокое слово: «Дурак!»
И искры сверкают из глаз
Решительно, гордо и грозно.
Но поздно…
<1911>
(Повесть)
Арон Фарфурник застукал наследницу дочку
С голодранцем студентом Эпштейном:
Они целовались! Под сливой у старых качелей.
Арон, выгоняя Эпштейна, измял ему страшно сорочку,
Дочку запер в кладовку и долго сопел над бассейном,
Где плавали красные рыбки: «Несчастный капцан!»
Что было! Эпштейна чуть-чуть не съели собаки,
Madame иссморкала от горя четыре платка,
А бурный Фарфурник разбил фамильный поднос.
На утро очнулся. Разгладил бобровые баки,
Сел с женой на диван, втиснул руки в бока
И позвал от слез опухшую дочку.
Пилили, пилили, пилили, но дочка стояла, как идол,
Смотрела в окно и скрипела, как злой попугай:
«Хочу за Эпштейна». – «Молчать!!!» – «Хо-чу за Эпштейна».
Фарфурник подумал… вздохнул. Ни словом решенья не выдал,
Послал куда-то прислугу, а сам, как бугай,
Уставился тяжко в ковер. Дочку заперли в спальне.
Эпштейн-голодранец откликнулся быстро на зов:
Пришел, негодяй, закурил и расселся, как дома.
Madame огорченно сморкается в пятый платок.
Ой, сколько она наплела удручающих слов:
«Сибирщик! Босяк! Лапацон! Свиная трахома!
Провокатор невиннейшей девушки, чистой, как мак!..»
«Ша… – начал Фарфурник. – Скажите, могли бы ли вы
Купить моей дочке хоть зонтик на ваши несчастные средства?
Галошу одну могли бы ли вы ей купить?!»
Зажглись в глазах у Эпштейна зловещие львы:
«Купить бы купил, да никто не оставил наследства…»
Со стенки папаша Фарфурника строго косится.
«Ага, молодой человек! Но я не нуждаюсь! Пусть так.
Кончайте ваш курс, положите диплом на столе и венчайтесь —
Я тоже имею в груди не лягушку, а сердце…
Пускай хоть за утку выходит – лишь был бы счастливый ваш брак,
Но раньше диплома, пусть гром вас убьет, не встречайтесь,
Иначе я вам сломаю все руки и ноги!»
«Да, да… – сказала madame. – В дворянской бане во вторник
Уже намекали довольно прозрачно про вас и про Розу —
Их счастье, что я из-за пара не видела кто!»
Эпштейн поклялся, что будеть жить, как затворник,
Учел про себя Фарфурника злую угрозу
И вышел, взволнованным ухом ловя рыданья из спальни.
Вечером, вечером сторож бил
В колотушку, что есть силы!
Как шакал, Эпштейн бродил
Под окошком Розы милой.
Лампа погасла, всхлипнуло окошко,
В раме – белое, нежное пятно.
Полез Эпштейн – любовь не картошка:
Гоните в дверь, ворвется в окно.
Заперли, заперли крепко двери,
Задвинули шкафом, чтоб было верней.
Эпштейн наклонился к Фарфурника дщери
И мучит губы больней и больней…
Ждать ли, ждать ли три года диплома?
Роза цветет – Эпштейн не дурак:
Соперник Поплавский имеет три дома
И тоже питает надежду на брак…
За дверью Фарфурник, уткнувшись в подушку,
Храпит баритоном, жена – дискантом.
Раскатисто сторож бубнит в колотушку,
И ночь неслышно обходит дом.
<1910>
За тяжелым гусем старшим
Вперевалку тихим маршем
Гуси шли, как полк солдат.
Овцы густо напылили,
И сквозь клубы серой пыли
Пламенел густой закат.
А за овцами коровы,
Тучногруды и суровы,
Шли, мыча, плечо с плечом.
На веселой лошаденке
Башкиренок щелкал звонко
Здоровеннейшим бичом.
Козы мекали трусливо
И щипали торопливо
Свежий ивовый плетень.
У плетня на старой балке
Восемь штук сидят, как галки, —
Исхудалые, как тень.
Восемь штук туберкулезных,
Совершенно не серьезных,
Ржут, друг друга тормоша.
И башкир, хозяин старый,
На раздольный звон гитары
Шепчет: «Больно караша!»
Вкруг сгрудились башкирята.
Любопытно, как телята,
В городских гостей впились.
В стороне худая дева
С волосами королевы
Удивленно смотрит ввысь.
Перед ней туберкулезный
Жадно тянет дух навозный
И, ликуя, говорит —
О закатно-алой тризне,
О значительности жизни,
Об огне ее ланит.
«Господа, пора ложиться,—
Над рекой туман клубится».
«До свиданья!» «До утра!»
Потонули в переулке
Шум шагов и хохот гулкий…
Вечер канул в вечера.
А в избе у самовара
Та же пламенная пара
Замечталась у окна.
Пахнет йодом, мятой, спиртом,
И, смеясь над бедным флиртом,
В стекла тянется луна.
<1910>








