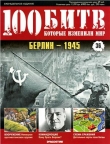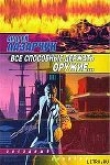Текст книги "Мой фюрер, вы — шудра (СИ)"
Автор книги: Салават Булякаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц)
Глава 12. Метрология смерти
26 октября 1934 г., Берлин.
Утро после присяги было хмурым и холодным. Фабер надел новую форму. Ткань всё ещё пахла казармой и сукном. Он осмотрел себя в зеркало. Чёрный китель сидел безупречно. Петлицы с рунами «зиг» и погоны лейтенанта СС лежали ровно. Он надел фуражку, поправил её под нужным углом. Отражение в зеркале было чужим.
Он вышел из своей новой квартиры в Шарлоттенбурге. По улице шли люди. Некоторые бросали на его форму быстрые, уважительные взгляды. Другие отводили глаза. Он шёл ровным шагом, как и требовала форма. Сапоги чётко стучали по тротуару.
Здание на Дармштеттерштрассе выглядело по-прежнему. Обычный бюргерский дом. Но теперь над входом, рядом со старой вывеской «Общество по изучению наследия предков», висела новая, более строгая табличка. На ней было написано: «Forschungs– und Lehrgemeinschaft das Ahnenerbe e.V.» и ниже мелким шрифтом: «Der SS unterstellt» («В подчинении СС»).
Внутри в прихожей стоял Вирт. Он был в своём обычном помятом пиджаке, с растрёпанными волосами. Увидев Фабера, его лицо осветилось восторженной улыбкой.
– Фабер! Дорогой коллега! – воскликнул он, протягивая руку. Его взгляд скользнул по форме. – Поздравляю! Поздравляю! Форма вам… очень к лицу. Теперь вы не просто наш сотрудник. Вы – наш представитель в самой сердцевине новой Германии!
Фабер пожал ему руку. Вирт не замечал или не хотел замечать холодности в его взгляде.
– Я рад, что вы здесь, герр доктор, – сухо сказал Фабер. – Мне нужно понять, как строится работа.
– Конечно, конечно! Сейчас всё устроится! Идёмте, я покажу ваш кабинет!
Вирт повёл его по знакомому коридору. Но теперь в здании было больше движения. Мелькали люди в чёрной или серой форме с нашивками СС. Слышались негромкие, деловые голоса. В воздухе висел запах свежей краски и новой мебели.
Кабинет, который показал Вирт, находился на втором этаже здания. Он был небольшим, но уже обставленным. Дубовый стол, два шкафа для бумаг, кресло. На столе лежала стопка чистых бланков и несколько папок.
– Это ваше рабочее место, – с гордостью объявил Вирт. – Пока скромно, но главное – суть работы! Мы ведь с вами продолжим поиск духа! Теперь с настоящей поддержкой!
Дверь кабинета была открыта. В ней появилась фигура в чёрной форме. Это был Вольфрам Зиверс. Он вошёл без стука. Вирт замолчал, его улыбка стала немного напряжённой.
– Унтерштурмфюрер Фабер, – ровным голосом произнёс Зиверс, глядя на Фабера. – Я вижу, вы приступили к ознакомлению.
– Так точно, штурмбаннфюрер, – отчеканил Фабер, вставая по стойке «смирно». Рефлекс сработал сам собой.
– Прекратите, – холодно сказал Зиверс, слегка махнув рукой. – Здесь пока ещё научное учреждение, а не плац. Садитесь.
Фабер сел. Вирт остался стоять, теребя лацкан своего пиджака.
– Герр доктор Вирт говорил вам о духе, – продолжил Зиверс, подходя к столу. Он положил на него тонкую папку. – Это важно. Но сейчас, в конце ноября, полевой сезон закончен. Земля мёрзлая, экспедиции невозможны до весны. Поэтому ваша первая задача – работа здесь, в Берлине.
Он открыл папку. Внутри лежали несколько отчётов, исписанных мелким почерком, и стопка фотографий. На фотографиях были черепа. Они лежали на белом фоне, сбоку лежала линейка для масштаба.
– Это материалы из наших предварительных сборов, – сказал Зиверс. – Из раскопок в Восточной Пруссии, Силезии, Померании. Антропологические данные.
Он перевернул страницу. Там были таблицы. Колонки цифр: продольный диаметр, ширина, высота черепа, лицевой угол, носовой указатель.
– Ваша задача – систематизировать этот материал. Создать единую методику описания и классификации. Метрологию. На её основе нужно будет вывести статистически обоснованные расовые типы. Чёткие, измеримые. Нордический, фальский, динарский, альпийский, восточно-балтийский.
Зиверс посмотрел на Фабера. Его взгляд был плоским, как стекло.
– Нам нужны не рассуждения, а цифры. Цифры, которые можно положить на стол рейхсфюреру. Цифры, которые будут доказательством. Доказательством нашего исторического права на землю. Доказательством превосходства. Ваш отдел должен дать этим доказательствам научную форму. К весне 1935 года у нас должен быть готовый инструмент.
Вирт, слушавший всё это, нахмурился.
– Но, герр Зиверс, – вмешался он, – это же сухая статистика! Где же здесь дух наследия? Где сакральная топография? Мы должны искать следы…
– Следы ищут в поле, герр доктор, – холодно сказал штурмбаннфюрер Зиверс, не поворачивая головы. – Сейчас не сезон. Сейчас – время кабинетной работы. Время сбора и систематизации аргументов. Без них все ваши «следы» так и останутся сказками для дилетантов.
Он снова посмотрел на Фабера.
– Вы справитесь, унтерштурмфюрер? Это требует аккуратности, педантичности и понимания цели.
Фабер сидел неподвижно. Внутри у него всё сжалось. Он смотрел на фотографии черепов, на эти таблицы. Он понимал, что от него хотят. Ему поручали создать псевдонаучный фундамент для расизма. Взять человеческие останки, свести их к набору цифр и натянуть на эти цифры политическую доктрину. Это была работа палача, только палачом здесь выступала не веревка или пуля, а штангенциркуль и логарифмическая линейка.
Но он был в форме. Он дал присягу. Он был в ловушке.
– Я справлюсь, герр штурмбаннфюрер, – сказал он, и его голос прозвучал ровно, без колебаний. – Я изучу материалы и представлю план работы.
– Отлично, – кивнул Зиверс. – Вам выделят другой кабинет и сотрудников. Сроки жёсткие. – Он взял папку и протянул её Фаберу. – Начинайте сегодня же. Докладывайте о ходе работ еженедельно.
Зиверс развернулся и вышел из кабинета. Его шаги быстро затихли в коридоре.
28 октября 1934 г., Берлин.
Кабинет отдела расовых исследований на Дармштеттерштрассе был просторным, но мрачным. Высокие окна выходили во внутренний двор. Вдоль стен стояли дубовые шкафы с глухими стеклянными дверцами. В них тесными рядами лежали папки, книги, карты в тубусах. В центре комнаты – большой стол, заваленный бумагами. В кабинете, кроме Фабера, сидели за своими столами три человека. Гражданские сотрудники. Его отдел.
Доктор Артур Ландсберг, антрополог. Пожилой, с дрожащими руками и нервным тиком глаза. Он пришел сюда из университета, когда кафедру расовой гигиены возглавил партийный выдвиженец. Ландсберг не спорил. Он просто перестал говорить на собраниях. Теперь он целыми днями молча листал отчёты о раскопках, ища в описаниях черепов «нордические признаки». Его работа была бессмысленной, и он это знал. Он сидел сгорбившись, будто старался стать меньше, невидимым и часто просто делал вид, что работает. Это вполне устраивало Макса.
Доктор Альбрехт Рюдигер, историк. Молодой, энергичный, с вечно недовольным выражением лица, с партийным значком на лацкане пиджака. Он был карьеристом чистого типа. Он видел в Аненербе трамплин. Он не интересовался истиной. Его интересовало, что именно хочет услышать начальство, он уже настойчиво предлагал «интерпретировать находки в ключе преемственности германского духа» или «акцентировать определенные признаки в ущерб другим», чтобы «удревнить» германское присутствие. Максу приходилось все время одергивать его чрезмерную энергичность, что того очень злило.
И фрау Марта Браун, секретарша. Немолодая женщина в строгом платье. Она печатала на машинке, вела журналы, приносила кофе. Она смотрела на всех троих мужчин с одинаковым, застывшим выражением лица. Она не понимала сути их работы. Она видела только форму, сроки, тон начальственных распоряжений. Она боялась опоздать, сделать ошибку в документе и боялась потерять это место.
Она была вдовой «старого бойца», погибшего ещё в 1923-м, во время Пивного путча. Её государственная пенсия была скудной, а почётная грамота от партии не грела в холодной комнате. Но работа здесь, в аппарате СС, была не просто работой. Это была привилегия. Она давала Dienstzuteilungen (служебные пайки), ежемесячную доплату «на детей» (хотя детей не было), талон на пару добротных чулок раз в квартал и – самое главное с ноября по март – ордер на уголь, которые сама бы она никогда не выбила.
Работа в теплом помещении с государственным пайком была мечтой многих. Но и этого не хватало. По вечерам, в холодной комнате её Dachkammer (мансардной комнаты под самой крышей), гудел и подрагивал чугунный «Zinger» – швейная машинка, доставшаяся в наследство от матери. Под его иглой рождались простенькие блузки и детские платьица. Готовую работу она тайком относила в маленькую лавку на задворках Веддинга**, где хмурая владелица отсчитывала ей несколько марок, вечно ворча на качество строчки. Это был унизительный и изматывающий круг: днём служить идеям тысячелетнего рейха, ночью – шить одежду для детей соседок, чтобы хватило на маргарин и уголь для той же мансарды. Она выжила в голодные двадцатые и боялась вернуться в ту промозглую, бездровную пустоту больше всего на свете.
Ещё фрау Браун до ужаса боялась черной формы СС Фабера. Максу казалось, что прикажи он ей встать на стол, задрать платье и запеть, то фрау Браун тут же без вопросов сделает это. Будет стоять на столе, плакать и петь. То, что для Макса Фабера образца 2025 года было не реальным табу, для Йоганна Фабера образца 1935 года было простой, веселой не наказуемой шуткой над женщиной.
Ближе к обеду зашел Вирт. Сначала он поздравил Макса, но было видно, что его радость наиграна. Вирт тяжело вздохнул. – Цифры… – пробормотал он с отвращением глядя на таблицы на столе Фабера. – Они всё сведут к цифрам. Вы же понимаете, Фабер? Вы не должны позволить им зарыть дух в эти таблицы!
Вирт смотрел на него с надеждой.
– Вы ведь найдёте способ… вложить в эту работу более глубокий смысл? – спросил он тихо.
– Моя задача – выполнить приказ, герр доктор, – сухо ответил Фабер, не отрываясь от бумаги. – Я создам самую точную и подробную методику из возможных. Как того требует от меня Рейх.
Вирт ушел расстроенный, Фабер принялся за работу. Он открыл папку. Перед ним лежала фотография. Череп. Пустые глазницы смотрели в никуда. Этот человек, кто бы он ни был, жил, любил, боялся, надеялся. А теперь он был объектом измерения. Данными для расовой теории.
Он отложил фотографию. Он взял блокнот и карандаш. Он должен был начать работать. Систематизировать. Классифицировать.
Он начал читать первый отчёт. Описание раскопок кургана под Кёнигсбергом. Археолог подробно описывал слои, керамику, расположение костяка. Фабер делал выписки, но его пальцы двигались автоматически. Весь его разум был занят другим: как сделать эту работу бесплодной?
Методика. Её можно сделать чрезмерно сложной. Ввести десятки лишних параметров для измерения. Усложнить классификацию до абсурда. Требовать для каждого черепа не три фотографии, а двадцать, под разными углами. Настаивать на дублировании замеров разными операторами. Требовать оригиналы полевых дневников, сверять каждую цифру. Находить противоречия в существующих классификациях и требовать их разрешения, прежде чем двигаться дальше.
Это будет выглядеть как научная добросовестность. Как педантичность. А на деле – будет тормозить работу. Бесконечно тормозить.
Он написал на чистом листе заголовок: «Предложения по унификации антропометрической методики для отдела полевых исследований „Аненербе“». Под ним он начал составлять список. Пункт первый: «Разработка единого бланка описания, включающего не менее 50 измерительных и 30 описательных признаков». Пункт второй: «Обязательное фотографирование каждого объекта по 12 стандартным проекциям». Пункт третий: «Создание трёх независимых экспертных групп для перекрёстной проверки всех замеров».
Он писал быстро, чётким почерком. Каждый новый пункт добавлял слои бюрократии, требовал времени, людей, ресурсов. Работа по созданию «инструмента» должна была увязнуть в бесконечных согласованиях, уточнениях и проверках.
Он дописал последний пункт и поставил подпись: «Унтерштурмфюрер СС д-р И. Фабер». Потом отложил лист в сторону. Он не собирался создавать расовую теорию. Он собирался создать для неё такое болото из правил и требований, чтобы она в нём утонула, не успев родиться.
Это была его первая, тихая диверсия. Диверсия бюрократа. Единственное оружие, которое у него сейчас было.
Он открыл следующую папку и снова взялся за карандаш.
31 октября 1934 г., Аненербе.
Макс уже несколько дней занимался тем, что ему было глубоко противно. Он сидел за своим столом, расположенном в самом удобном месте. Он сидел, видел всех перед собой в комнате, а они видеть то, что пишет Макс не могли. Перед ним лежала стопка книг. Гобино. Чемберлен. Журналы «Архив расологии и социальной биологии». Отчеты экспедиций в Тибет и Исландию. Его задача, поставленная Зиверсом, была проста: создать связный научный труд. Труд, который доказывал бы историческое право арийской расы на господство и необходимость «жизненного пространства» на Востоке.
Фабер открыл книгу Гобино. Читал. Закрыл. Открыл отчёт антрополога из Мюнхена. Там были таблицы: ширина черепа, выступание затылочного бугра, форма нёба. Цифры должны были доказывать превосходство. Они доказывали только то, что люди разные. Он отложил отчёт.
– Рюдигер, – сказал Фабер, не глядя на него. – Этот отчёт по Восточной Пруссии. Вы уверены в стратиграфии?
Рюдигер встрепенулся.
– Абсолютно, герр унтерштурмфюрер. Данные из довоенных немецких исследований. Совершенно надёжные.
– Довоенных, – повторил Фабер. – То есть до 1914 года. Методики с тех пор изменились. Требуется перепроверка. Запросите оригинальные полевые дневники экспедиции. Все. Если их нет, выводы считать предварительными.
Рюдигер замер. Его лицо выразило недоумение, почти обиду.
– Но… это займёт месяцы! Исследования проводились ещё при кайзере, архивы могли быть утрачены…
– Тем более, – холодно сказал Фабер. – Наша работа должна быть безупречной. Нас будут читать. Нас будут критиковать враги рейха. Каждая цифра должна выдерживать проверку. Иначе весь труд обесценивается. Вы же этого не хотите, доктор Рюдигер?
В голосе Фабера не было угрозы. Только ровная, деловая интонация. Но Рюдигер понял. Это был приказ. Приказ тормозить. Он кивнул, побледнев.
– Я… я запрошу, герр унтерштурмфюрер.
– Ландсберг, – Фабер повернулся к старику. – Ваш анализ черепов из Шлезвига. Вы используете классификацию Фишера?
Ландсберг вздрогнул, оторвавшись от бумаг.
– Да… да, классификация Фишера. Стандартная…
– Она устарела, – отрезал Фабер. – Есть работа Рейхеля из Вены. Более точная. Нужно пересчитать всё по новой методике. Составить сравнительные таблицы. Без этого данные неконкретны.
Лицо Ландсберга стало серым. Пересчитать сотни измерений. Это была каторжная, тупая работа на многие недели. Работа без смысла и результата.
– Я… попробую найти работу Рейхеля, – прошептал он.
– Не попробуете, а найдете, – поправил Фабер. – И приступите. Это приоритет.
Он снова углубился в бумаги. Его тактика была простой. Он не отказывался от работы. Он увязал её в бесконечных, невыполнимых требованиях к точности. Каждый факт нужно было проверить десять раз. Каждую методику – согласовать с гипотетическим, самым строгим критиком. Каждую ссылку – подтвердить оригинальным источником, который, возможно, сгорел в архиве.
Это был саботаж бюрократией. Он заваливал свой же отдел горой бессмысленной, технической работы. Вместо того чтобы сочинять бред о превосходстве, они неделями искали в библиотеке книгу, которая никому не была нужна. Вместо фабрикации данных они перепроверяли чужие, сомнительные данные, находя в них противоречия, которые тут же требовали нового витка проверок.
Фрау Браун принесла почту. Фабер взял конверт со штампом СС. Вскрыл. Это было напоминание от Зиверса. «Ускорить подготовку материалов. К марту ожидается черновик первых глав».
Фабер положил письмо в сторону. Он посмотрел на своих сотрудников. Ландсберг, сгорбившись, что-то исступлённо чертил на листе бумаги. Рюдигер, сжав губы, писал запрос в архив. Фрау Браун стучала на машинке, заполняя журнал учёта рабочего времени.
Он осознал это ясно. Бороться с безумием, сохраняя видимость усердной работы, – это адская, изматывающая умственная работа. Требует железной дисциплины, холодного расчёта и постоянного напряжения. Нужно думать на два шага вперёд, предугадывая, какую чушь могут потребовать, и заранее подставлять под неё логическую мину. Нужно контролировать подчинённых, одних сдерживая, других подталкивая, чтобы вся их энергия уходила в песок бесконечных уточнений. Это была война на истощение. Война с системой, внутри системы. И его единственным оружием были не лопата и кисть, а канцелярские требования, ссылки на методику и мнимый перфекционизм.
Он взял следующий отчёт. Начал читать. Его лицо было бесстрастным. Только глаза, бегающие по строчкам, выдавали невероятную, ежесекундную работу мысли: где слабое место? Какое требование можно выдвинуть, чтобы затормозить это? Какую цитату из какого авторитета можно использовать, чтобы забраковать эти выводы?
Рабочий день шёл своим чередом. В комнате было тихо. Слышался только скрип пера Рюдигера, стук машинки фрау Браун и тяжёлое, прерывистое дыхание доктора Ландсберга, который перелистывал карточки таблиц. Фабер делал свою работу. Он создавал видимость научного поиска. Это было всё, что он сейчас мог сделать. И это отнимало все силы.
–
**Веддинг (Wedding) – один из центральных (внутригородских) районов Берлина, и в 1930-е годы он был классическим пролетарским, бедным кварталом, своего рода берлинским аналогом лондонского Ист-Энда или парижских окраин.
Глава 13. Самайн
31 октября 1934 года, Берлин, 20:00.
Фабер вышел из здания на Дармштеттерштрассе, тяжело вздохнув. Холодный октябрьский воздух, пахнущий дымом и гниющими листьями, обжёг лёгкие, но принёс облегчение. День, проведённый в «метрологии смерти», давил тяжелее свинцовой шинели. Он задрал голову, вглядываясь в прореху между крышами. Ночное небо было чёрным и чистым, звёзды – острыми, ледяными иглами. Самайн. Ночь, когда истончается завеса между мирами. Ирония была горькой, как полынь: он, учёный, играющий в мистика среди фанатиков, вспомнил о кельтском празднике в сердце возрождающегося германского рейха.
Он двинулся по тротуару, намереваясь раствориться в берлинской ночи, дойти до своей квартиры и выпить. Шаги его были ровными, сапоги чётко отбивали ритм по камню.
– Йоханн! Йоханн Фабер! Дружище!
Голос прозвучал сзади, негромко, но очень отчётливо, смягчая твердое произношение Йоганн его имени на Йоханн. Он был неестественно тёплым, почти панибратским. Фабер вздрогнул и обернулся.
Из тени угла дома, что он прошел, вышел мужчина. Невысокий, плотный, в качественном, но не парадном пальто и фетровой шляпе. В слабом свете уличного фонаря Фабер успел заметить худощавое, почти квадратное лицо с тяжёлым подбородком и маленькими, невыразительными глазами. Ничего примечательного.
Мужчина поравнялся с ним, и на его лице расплылась улыбка. Неискренняя, вымученная, как у плохого актёра, но от этого не менее опасная.
– Простите за фамильярность, унтерштурмфюрер, – сказал он, и голос его потерял дружеский тон, став ровным, деловым. Он слегка приподнял шляпу. – Оберштурмфюрер Мюллер. Генрих Мюллер. Из гестапо. Мюллер сделал крошечную паузу, давая Фаберу осознать вес этих слов. Гестапо. Принц-Альбрехт-штрассе, 8.
Ледяная игла прошла по спине Фабера. Сотрудник СД, окликающий офицера СС по имени, да ещё и «дружище»… Это было нарушением всех неписаных правил. Это было как тихий выстрел в безмолвной войне ведомств.
– Я видел ваши документы, когда оформляли ваш доступ, – продолжил Мюллер, его глаза, как два тусклых стеклышка, впились в Фабера. – Мюнхен. Родной город. Я сам оттуда. Перебрался сюда только в апреле**. – Он махнул рукой, словно отмахиваясь от берлинской суеты. – Когда всё уже поделили. Пришлось вгрызаться в чужую берлинскую глину. Увидел земляка, да ещё и в нашей организации… Не удержался. Должны же мы, баварцы, держаться вместе в этом холодном берлинском муравейнике.
– Это… неожиданно, оберштурмфюрер, – осторожно сказал Фабер, выбирая слова. – Да, я тоже из Мюнхена.
– Вот видишь! – Мюллер снова попытался улыбнуться, и это получилось у него ещё более жутко. – Я как раз собирался промочить горло. Не сойдётся ли ваш путь с моим до старой доброй пивной? Только, чур, не этой берлинской бурды. Будем вспоминать настоящее, мюнхенское. Что скажешь?
31 октября 1934 года, Берлин. 20:30.
Стеклянная дверь пивной «У трёх дубов» захлопнулась за ними, отсекая промозглый осенний ветер. Внутри пахло влажным сукном, прокисшим солодом и тоской. Мюллер, не глядя, выбрал столик в дальнем углу, спиной к стене – привычка полицейского, превращённая в инстинкт. Фабер последовал за ним, чувствуя, как каждый шаг отдаётся глухим стуком в висках. Они сняли верхнюю одежду, повесили на деревяные вешалки.
– Два тёмных, – кивнул Мюллер официанту, даже не удостоив его взгляда. Он достал портсигар, предложил Фаберу. Тот отказался. Мюллер пожал плечами, закурил сам, выпустив струйку едкого дыма в застоявшийся воздух. Его пальцы, короткие и цепкие, лежали на столе неподвижно.
Пиво принесли быстро. Пена была жидкой, желтоватой. Мюллер поднял тяжелую гранёную кружку, посмотрел на свет пену – недоверчиво, оценивающе, как эксперт на сомнительный товар.
– Ну, Йоханн, давай, за встречу – начал он
Они пригубили пиво, Мюллер сморщился.
– Согласись, не то. Это же не пиво. Это помои. Берлинские помои. – и в его голосе появились, едва уловимые нотки баварского выговора, нарочито грубоватые, домашние.
Он снова отхлебнул, сморщился – гримаса была настолько искренней, что на миг скрыла каменную непроницаемость его лица.
– Вспомни «Хофбройхаус». Настоящую тяжесть кружки. Настоящий шум, гул, который в груди отдаётся. – Он прищурился, и его маленькие, светлые глаза, словно две приплюснутые пули, впились в Фабера. – Эти здешние умники думают, что всё началось и кончилось в двадцать третьем. Раз – путч, два – провал, фюрер в тюрьме, книгу пишет. Для галочки в учебнике.
Мюллер сделал паузу, дав словам повиснуть в воздухе, густым от дыма и лжи.
– А для нас, мюнхенцев, это был не конец. Это было… дыхание. Дыхание, которое только разгоралось. В двадцать девятом, в тридцатом… – он медленно провёл рукой над столом, словно очерчивая невидимую линию времени. – В тридцать первом, например. Уже другая уверенность была. Уже не бунт, а… сила, которая знает, что своё возьмёт. Народ уже не кипел – он созревал. Как наше пиво в подвале. Ты ведь должен помнить, Йоханн. Ты же там был. Старый борец.
Он кивнул в сторону Фабера, точнее – на его рукав где был нашит шеврон «Alter Kämpfer». Жест был одновременно уважительным и проверочным.
– Я… – начал Фабер, чувствуя, как язык становится ватным. – Атмосферу, конечно, помню. Это не забывается.
– Именно, атмосферу! – подхватил Мюллер, и в его голосе прозвучала странная, почти учительская удовлетворённость. – А где именно ты её ловил, эту атмосферу в двадцать третьем?* у Фельдхернхалле, когда стреляли? Или у Бюргербройкеллера?
Пауза, возникшая после вопроса была очень напряженной. Фабер слышал только стук собственного сердца и далёкий грохот трамвая за стеной. Его мозг лихорадочно метался между датами и событиями "Пивного путча" 1923 года – это опасно. Там слишком много конкретики, следствия, имён погибших, маршрутов колонн. Фабер почувствовал, как сердце ушло в пятки. Он знал о путче всё – как историк. Но не как участник. Он лихорадочно рылся в памяти, выуживая детали из архивных документов и мемуаров. Выдавливая из себя энтузиазм, он начал говорить об общей атмосфере, о толпе, о чувстве исторического момента. Но когда Мюллер задал уточняющий вопрос Фабер запнулся. Ошибка была мелкой, почти незаметной для постороннего, но не для мюнхенского полицейского, который, вероятно, потом годами разбирал это дело по косточкам.
Лицо Мюллера слегка дрогнуло пониманием того, что Фабер фальшивка. Но он не стал переспрашивать. Он понял, что Фабер какой-то проект Гиммлера и ломать чужую легенду не стоит. Генрих просто медленно, почти благодушно, кивнул, отхлебнул из своей кружки.
– Да ладно, не будем о прошлом. А детали… – он махнул рукой, широким жестом, стирающим неловкость. – Детали путаются. Особенно когда столько работы с бумагами. Мы с тобой не историки, Йоханн. Мы – практики. Для нас важнее, что из всего этого вышло. А вышло – вот мы здесь сидим.
– Да… память, она такая, – пробормотал Фабер, и спрятал лицо в кружке, отхлебнув пива. – Главное – дух того времени помнить. А детали… детали путаются. Особенно когда столько лет прошло и столько работы.
Мюллер отставил кружку и наклонился через стол чуть ближе, его лицо снова стало серьёзным, голос стал тише, доверительнее. Ловушка захлопнулась беззвучно. Фабер даже не понял, провалился ли он в неё полностью или лишь задел края. Но Мюллер давить, срывая полностью маски не стал. Свой человек в окружении Гиммлера Мюллеру был гораздо ценнее, чем правда, что Йоганн Фабер не совсем тот человек, за которого себя выдает.
– Вот видишь, Йоханн, мы с тобой одной крови. Не по бумажкам, а по духу. Прагматики. Я тут в Берлине смотрю – кругом одни идеологи да мечтатели. Гиммлер со своими рыцарями-призраками, твой Вирт с духами из земли… Они могут не понять чего-то настоящего, ценного. – Он сделал многозначительную паузу. – Если ты или твой отдел найдёте что-то… значимое. Не только черепки. Что-то, что может повлиять на… на текущие дела. На понимание истории. Ты понимаешь? Неси сначала мне. Земляку. Я помогу это правильно преподнести. Осторожно обойти острые углы. Чтобы твоя находка пошла на пользу Рейху, а не утонула в бюрократии или не была извращена этими… снобами с Принц-Альбрехт-штрассе.
Это было предложение о шпионаже. Прикрытое заботой о «земляке» и «пользе Рейха». Мюллер вербовал его в свою сеть внутри СС. Делал своим агентом.
– И, кстати, Йоханн, раз уж мы заговорили по-дружески, – Мюллер откинулся на спинку стула, его лицо снова стало непроницаемым. – Эта твоя антропометрия… эти черепа, размеры. У тебя же там будут некие… идеальные параметры? Нордические?
Фабер кивнул, не понимая, к чему он ведёт.
– Так вот. Когда будешь составлять свои таблицы… можешь немного… скорректировать диапазоны. Расширить. Чуть-чуть. – Мюллер провёл рукой по своему квадратному, откровенно не «нордическому» лицу. – Чтобы и люди с правильной душой, но не совсем идеальной… геометрией, тоже могли чувствовать себя комфортно. Чтобы не дай бог, какой-нибудь фанатик из твоего же «Аненербе» не начал ко мне придираться. Мы же с тобой не педанты, Йоханн. Мы – практики. Практикам иногда нужно немного… гибкости в правилах. Тем более землякам.
Фабер внимательно посмотрел на Мюллера: темноволосый, с карими глазами – он мало соответствовала арийским канонам Генриха Гиммлера. Гениально. Мюллер не просто вербовал. Он сразу давал Фаберу первое, мелкое, компрометирующее задание. Подделать научные данные. Сделать его соучастником. И делал это под предлогом личной просьбы, почти как одолжение между друзьями. Макс смотрел на него. На этого человека, который только что предложил стать предателем и фальсификатором – и всё это с лицом провинциального бухгалтера, тоскующего по мюнхенскому пиву. Внутри всё кричало от ужаса.
«Он понял, что я фальшивка. И не сдал. Значит, я ему нужен. Как инструмент. Как источник влияния в „Аненербе“. Он будет меня прикрывать – пока я полезен. А задание… задание я и так собирался делать. Только в гораздо больших масштабах».
– Генрих, – сказал Фабер, впервые назвав его по имени, и вложил в это слово нужную смесь доверительности и подобострастия. – О формальностях беспокоиться не стоит. Я прекрасно понимаю, что главное – дух, а не миллиметры. Баварская солидарность для меня не пустой звук. Рассчитывай на меня.
Мюллер изучающе посмотрел на него несколько секунд, затем кивнул, удовлетворённый. Он добился своего. Они допили своё отвратительное пиво, обменялись ещё несколькими фразами о тоске по Баварии, и Мюллер, благодушно разрешив Фаберу заплатить за его пиво, сославшись на дела, исчез в ночи так же незаметно, как и появился.
Макс долго шёл по пустынным улицам. Холод пробирал даже сквозь шинель. Он поднял глаза к небу. Звёзды, те самые, что видели друидов и кельтов, теперь смотрели на него, унтерштурмфюрера СС, только что заключившего сделку с будущим палачом Европы.
Самайн, – пронеслось в его голове с горькой, чёрной иронией. Ночь, когда духи приходят в мир людей. Ну что ж, духи откликнулись. Прислали мне в „друзья“ самого Генриха Мюллера. Какая изощрённая, какая чудовищная шутка.
Он зашёл в свою казённую квартиру, не зажигая света, подошёл к окну. Берлин внизу лежал в тёмных пятнах, кое-где прорезаемых жёлтыми нитями фонарей. Где-то там, в одном из таких тёмных зданий, Мюллер уже заносил его имя в какую-то особую картотеку. Не как врага. Пока ещё нет. Как ценный актив. Как земляка.
Фабер прислонился лбом к холодному стеклу.
Я сам собирался подделать данные, чтобы как можно больше людей прошли фильтры расового контроля, а теперь от меня просто требуют подделать эти данные. Я не диверсант, я – фальшивомонетчик в сумасшедшем доме.
Игра что перешла на новый уровень. Теперь у него было две маски: одна для СС и «Аненербе», другая – для гестапо. И под обеими нужно было продолжать свою тихую, одинокую диверсию.
–
*«Пивной путч» (или Мюнхенский путч) – это неудачная попытка государственного переворота, предпринятая Адольфом Гитлером и НСДАП в Мюнхене 8–9 ноября 1923 года с целью свергнуть правительство Веймарской республики.
**20 апреля 1934 года Гиммлер, получив должность инспектора и заместителя начальника тайной полиции Пруссии, назначил Гейдриха начальником управления тайной полиции. В тот же день Мюллер, вместе с 37 коллегами переведённый из Мюнхена в Берлин, стал штурмфюрером СС (личный номер 107043) и был зачислен в ряды главного управления СД, однако его принадлежность к СД оставалась формальной, так как работал Мюллер в управлении гестапо в главном отделе II. 4 июля 1934 года он был повышен до оберштурмфюрера СС, хотя непосредственного участия в расправах над штурмовиками СА в «Ночь длинных ножей» 30 июня 1934, скорее всего он не принимал.