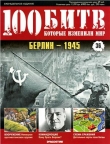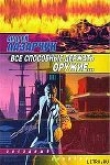Текст книги "Мой фюрер, вы — шудра (СИ)"
Автор книги: Салават Булякаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 28 страниц)
Глава 25. Мазаль тов
19 июля 1935 года. Зал на Принц-Альбрехт-штрассе 8.
Тот же зал, те же тёмные деревянные панели. Но на сей раз в нём пахло не воском и ожиданием, а сырой глиной, озоном от фотоспышек и холодным, тусклым металлом. Воздух был тяжёл, словно пропитан вековой пылью подвалов. Сохранялась торжественная тишина, нарушаемая только сухим механическим щёлканьем фотографов Геббельса, скрипом сапог по паркету, сдавленным покашливанием.
На том самом месте, где месяц назад под стеклом лежал римский панцирь, теперь стоял длинный стол, заваленный небрежной, нарочитой грудой. Это не было выставкой. Это был показ трофея.
Но в протоколе это будет записано иначе: «Официальный отчёт 352/А, подписанный оберштурмбаннфюрером СС, гласил: «Операция завершена. Материальные ценности… изъяты и возвращены в собственность немецкого народа».
Свет софитов падал на эту груду, и она отвечала ему глухим, разрозненным сиянием. Здесь не было бархата, этикеток, порядка. Три тысячи с лишним серебряных монет, вышедших из-под прессов турнозских монетных дворов при Капетингах, были сгружены, как уголь. Они переливались тусклым серым блеском, и среди них, как сплющенные слизни, лежали четырнадцать серебряных слитков – «короли литья», отмеченные клеймом архиепископа Майнца. Майнцкое колесо – символ духовной власти, превращённый в меру чистого серебра.
На этом металлическом хаосе покоились вещи. Одиннадцать серебряных сосудов – кувшин, чаши, мензуры – были свалены в кучу, словно посуда после пира призраков. Их изящные формы, предназначенные для вина и меда, казались неуместными, почти постыдными в этом сыром беспорядке.
Но взгляд невольно цеплялся за другое. Восемь брошей, выхваченные светом из общего хаоса. Они не просто лежали – они кричали. Три из них, XIII века, были ажурными садами из филигранных зверей, цветного стекла и речного жемчуга. Ещё одна – с луком, стрелой и знаменем, на котором угадывалась полустёртая готическая вязь: «OWE MINS H(ERZ)». «Убейте мое сердце». Любовный девиз, выгравированный семь веков назад, звучал в этом зале леденящей душу иронией.
Стоящие вокруг люди в чёрных и серых мундирах смотрели на эту груду молча. Они видели не искусство, не историю, не трагедию. Они видели 28 килограммов серебра и горсть золота. Они видели материальное подтверждение тезиса о «еврейском богатстве», нажитом «паразитизмом». Они видели успешную операцию. Они видели цифры в отчёте. В их бесстрастных глазах не отражались ни драконы на кольце, ни готическая вязь. Их взгляд скользил по поверхности, как щуп по рудной жиле, оценивая только удельный вес и пробу.
Свет софитов горел на камнях брошей, на гранях монет. Он дробился на тысячу бликов, но не мог рассеять тяжёлую, гнетущую атмосферу зала. Это было не торжество открытия. Это было вскрытие. Вскрытие капсулы времени, которая принесла из прошлого не ответы, а ещё более мучительные вопросы, на которые никто в этом помещении не хотел и не собирался отвечать.
Тень банкира Кальмана незримо витала над столом с его сокровищами. А поверх этой груды, на самой его вершине, лежало, выделяясь, золотое кольцо. Его обручальное кольцо, его «мазаль тов», лежало среди слитков и монет как немой укор, как вещественное доказательство того, что история – это не сборник мифов для пропаганды, а бесконечная цепь потерь, страха и непогребённых надежд.
Оно не пыталось слиться с грудой. Оно было инородным телом. Массивное, лишённое камней, оно было сделано из чистого, тёплого золота. На широком венце, под увеличительным стеклом, можно было разглядеть два мастерских миниатюрных шедевра: по бокам – два крылатых дракона, несущих на спинах крошечный, изысканный готический храм. А в основании, на внутренней, скрытой от посторонних глаз стороне – две сцеплённые руки. Древнейший символ союза, верности, договора.
И вокруг, по ободу, чёткой, невероятно мелкой вязью была вырезана надпись на иврите: «מזל טוב» – «Мазаль тов». «Доброй удачи». Свадебное благословение.
Это обручальное кольцо было не просто драгоценностью. Это была капсула времени, сохранившая не металл, а чувство. Надежду, веру, любовь и мольбу о счастье человека по имени Кальман из Виэ, богатого банкира, который в марте 1349 года, слыша за стенами своего дома гул погрома, спешно закапывал своё состояние в яму во дворе. Он пытался спасти не богатство, а будущее. И проиграл. Через несколько дней он погиб в эрфуртской резне.
И это золотое кольцо, это «мазаль тов», лежащее поверх немецкого серебра, как язва на здоровой коже, было тем самым камешком, что должен был споткнуть орлиный взгляд, бросаемый на добычу. Гиммлер намеренно положил иудейский символ поверх германского металла – не как часть клада, а как пробный камень для фюрера. Кольцо лежало поверх немецкого серебра. Окружающие офицеры видели этот нарочитый символизм и теперь ждали реакции фюрера.
Тишина в зале стала абсолютной, когда Гитлер остановился перед столом. Его взгляд, скользнув по груде слитков и поблёскивающих монет, на секунду задержался на них с выражением холодного удовлетворения. Молчание, длившееся с момента входа Гитлера, было взорвано не криком, а странным, сдавленным звуком, похожим на шипение. Гитлер замер перед столом, и его лицо, освещённое снизу софитами, исказила гримаса глубочайшего, почти физиологического отвращения. Он смотрел не на серебро, не на монеты – его взгляд, словно магнит, притянуло жёлтое пятно кольца на сером фоне.
– Это… что это? – вырвалось у него, и голос сорвался на высокую, визгливую ноту. Он сделал шаг вперёд, его рука дрогнула, но не потянулась к кольцу, а отшатнулась, как от гадюки. – Кто это положил? Кто допустил, чтобы эта… золотая поганка… лежала здесь? На нашем серебре?!
Он обернулся к Гиммлеру, и в его глазах плясали бешеные огоньки паранойи.
– Вы что, не понимаете? Это не находка! Это – насмешка! Они и из могилы смеются! Свои символы суют в наши сокровища! Это провокация!
Слюна брызнула с его губ. Он задыхался от ярости, тыча пальцем в безмолвное золото.
– Уберите! Уничтожьте! Не прикасайтесь голыми руками – сожгите! Пусть плавится! Пусть испаряется! Я не хочу, чтобы его тень падала на достояние рейха! Ни тени! Вы слышите?!
В зале никто не смел дышать. Геббельс застыл с камерой в руках, забыв о снимке. Геринг смотрел с плохо скрываемым любопытством. Гиммлер стоял, опустив глаза, но в уголках его губ играла тончайшая, ледяная ниточка удовлетворения. Удар достиг цели. Фюрер не просто принял трофей – он в ярости отверг «скверну». А значит, операция по «очищению» и присвоению была признана необходимой и правильной. И провёл её он, Гиммлер.
Гитлер, отдышавшись, вытер ладонью рот.
В зале никто не смел дышать. Геббельс застыл с камерой в руках. Геринг замер, забыв о своём любопытстве. Слова фюрера, выкрикнутые хриплым, надорванным шёпотом, повисли в воздухе, как ядовитый туман.
И тут произошло то, чего не ждал никто. Гитлер, всё ещё тыча дрожащим пальцем в сторону кольца, вдруг смолк. Его лицо, багровое от ярости, внезапно побелело. Рот полуоткрылся, чтобы втянуть воздух, но вдох получился коротким, судорожным. Он схватился левой рукой за грудь, чуть левее сердца, и судорожно сжал ткань кителя. Правая рука, ища опоры, беспомощно повисла в воздухе.
– Мой… фюрер? – первым вырвалось у Геббельса, и в его голосе прозвучал неподдельный, животный страх – не за человека, а за символ, за центр всей системы.
Гиммлер, до этого стоявший с каменным лицом, сделал резкое движение вперёд, но его опередил один из адъютантов. Стул – массивный, дубовый, с высоко́й спинкой – подкатили к Гитлеру мгновенно, словно он ждал за кулисами именно этого момента. Фюрер грузно опустился на него, его плечи сгорбились, голова низко упала на грудь.
– Врача! Немедленно врача из личного штаба! – скомандовал Гиммлер, и его голос, впервые за весь день, дрогнул, но не от страха, а от ярости на непредвиденную помеху. Его безупречный спектакль власти дал трещину.
Пока дежурный врач СС, бледный как полотно, щупал пульс и суетливо доставал из чёрного чемоданчика ампулу, в зале царила паника, тщательно скрываемая ледяной дисциплиной. Чтобы освободить пространство вокруг фюрера, офицер из свиты небрежно, почти с отвращением, сгрёб рукой часть серебряных монет и слитков с края стола. Они с грохотом посыпались на пол, закатились под ноги стоящим. Никто не обратил на это внимания. Трофей, только что бывший центром вселенной, вмиг превратился в никчёмный хлам, мешающий уходу за живым идолом.
Через несколько минут, после укола, цвет постепенно вернулся на щёки Гитлера. Дыхание выровнялось. Он отстранил руку врача и медленно поднял голову. В его глазах уже не было бешенства. Был пустой, ледяной усталости осадок, а под ним – та самая, знакомая немногим, задумчивая, гипнотическая ярость, которая всегда была куда страшнее истерики.
Врач что-то тихо говорил о переутомлении, о необходимости покоя. Гитлер не слушал. Его взгляд упал на стол. Правая рука, та самая, что только что тыкала в кольцо, теперь лежала ладонью на прохладной груде серебра. Пальцы медленно, почти ласково, погрузились в неё. Он перебирал монеты, пропускал их сквозь пальцы, как ребёнок перебирает песок на пляже. Тусклый металл шелестел, позвякивал, перекатывался. В его прикосновении не было жадности коллекционера. Была странная, отстранённая заворожённость, как будто он чувствовал не вес сокровища, а вес самой истории – чужой, враждебной, но теперь физически подвластной ему.
Тишина в зале сгустилась, стала тягучей, как смола. Все ждали, когда он заговорит. Ждали приказа, крика, чего угодно.
Гитлер поднял глаза. Он смотрел не на Геринга, не на Геббельса. Его взгляд, острый и пронзительный, несмотря на минутную слабость, упёрся в Гиммлера.
– Гиммлер, – его голос был тихим, хрипловатым, но каждое слово падало, как отчеканенная монета. – Этот мусор… – он кивнул на стол, – он ведь не только в Эрфурте зарыт.
Он сделал паузу, снова пересыпая горсть монет. Звук был сухим, безрадостным.
– Они прятали веками. В каждом городе, где жили. В каждом доме. Они закапывали своё золото, своё серебро, свои… символы. – Он снова взглянул на то место, где лежало кольцо (его уже убрали, как труп). – Они думали, что спрячутся. Что отсидятся. А потом вернутся и откопают.
Он замолчал, и в этой паузе слышалось что-то древнее и страшное – не политическая целесообразность, а холодная, мифологическая убеждённость охотника, нашедшего тропу.
– Они не успеют, – тихо, почти ласково закончил Гитлер. – Мы найдём всё. До последней монеты. До последнего перстня.
Он убрал руку с серебра, отряхнул пальцы. Его лицо стало сосредоточенным, деловым. Слабость исчезла без следа, сожжённая новой, грандиозной идеей.
– У тебя есть эти приборы? Металлоискатели? – спросил он Гиммлера.
– Есть, мой фюрер. Несколько опытных образцов. На основе разработок гауптштурмфюрера Фабера, – чётко, без колебаний ответил Гиммлер, мгновенно оценив новый вектор.
– Несколько? – Гитлер почти улыбнулся, и в этой улыбке не было ничего человеческого. – Мало. Слишком мало. Мне нужно тысячи. Десять тысяч. Чтобы они гудели по всей Германии. От Рейна до Одера. Одновременно. Одна операция, один приказ, один день «Х». Чтобы они не успели перепрятать, не успели вывезти, не успели даже подумать. Мы вычерпаем их историю из-под земли. И вернём немецкому народу. Всё. Что они у него украли.
Он откинулся на спинку стула, его глаза горели холодным, методичным огнём. Приступ слабости, минуту назад казавшийся катастрофой, обернулся озарением. Частный успех в Эрфурте превратился в гигантскую, тотальную программу. Археология стала оружием массового грабежа, облечённого в патриотическую риторику.
– Разработайте план, – приказал Гитлер, уже глядя поверх голов, в будущее. – «Операция «Erntezeit» («Время жатвы»). Или… «Die Rückführung» («Возвращение»). Да. «Операция «Возвращение». Чтобы каждый фольксгеноссе знал – что было украдено, то будет возвращено. Начинайте с крупных общин. Франкфурт, Вормс, Кёльн… Берлин. Составьте списки. Мобилизуйте «Аненербе», инженеров, сапёров. Я хочу видеть график через неделю.
Гиммлер щёлкнул каблуками. В его голове уже крутились цифры, штабы, структуры. Личная обида, минутный испуг – всё было забыто. Фюрер только что дал ему мандат на беспрецедентную операцию, которая на десятилетия вперед делала СС и «Аненербе» ключевыми игроками в гигантском перераспределении собственности. Серебро на столе потускнело. Настоящим сокровищем был этот приказ.
– Так точно, мой фюрер. Будет исполнено.
Геббельс, быстро сообразив, какую пропагандистскую бомбу ему только что вручили, уже делал в блокноте пометки: «Всенародное возвращение награбленного… Ночь длинных… лопат?…».
Геринг хмурился, подсчитывая, сколько ресурсов и контроля утечёт к СС, но спорить было бесполезно. Фюрер говорил языком исторической мести, а не экономики.
Гитлер медленно поднялся со стула. Он больше не смотрел на стол с трофеем. Он смотрел сквозь стены, представляя себе картину: тысячи людей в чёрной форме с щупающими землю приборами, снующие по дворам и подвалам немецких городов. Гигантский, тотальный грабёж, освящённый высшей целью. Возвращение. Последний, решающий акт в войне с призраками прошлого, которые теперь, благодаря горсти серебра и золотому кольцу, обрели плоть и стали мишенью.
– Уберите это, – равнодушно бросил он в сторону стола, поворачиваясь к выходу. – Отправьте в переплавку. А отчёт… пусть будет кратким. Только цифры.
Приказ повис в воздухе.
На лице Геббельса, который уже мысленно видел сенсационные снимки целого клада для мировой прессы, мелькнула тень профессиональной досады. Он, как никто, понимал пропагандистскую силу цельного артефакта.
Геринг, чей практичный ум мгновенно оценил груду не в килограммах, а в потенциальных рейхсмарках на лондонском аукционе, едва заметно покачал головой. Было иррационально – превращать уникальную историческую ценность, за которую западные коллекционеры заплатили бы бешеные деньги, в безликий слиток. Но ни один из них не проронил ни слова. Стоило ли спорить из-за «еврейского хлама» с фюрером, в котором говорил уже не стратег, а одержимый, для которого физическое уничтожение символа врага было важнее любой выгоды? В его мифологической картине мира очищение огнём было единственно правильным итогом. Прагматика отступала перед потребностью в сакральном акте возмездия.
Гиммлер, напротив, оставался непроницаем. Его расчёт был иным. Он добился главного: фюрер лично отверг «еврейскую скверну» и утвердил принцип: всё, что добыто, принадлежит аппарату (СС) для «очистки» и утилизации. Контроль над процессом – вот что было его настоящей добычей. Пусть даже эта утилизация была экономически не оптимальной. Власть над символами была важнее биржевых котировок.
Гитлера увели, поддерживая под руки, но теперь он шёл твёрдо. Слабость прошла, оставив после себя не раскаяние, а железную, экспансионистскую решимость. Война за историю только что перешла в новую, тотальную фазу. И первой её жертвой, даже не зная об этом, стал гауптштурмфюрер Фабер, чья работа должна была служить науке, а стала инструментом великого, санкционированного сверху разбоя.
Глава 26. Презумпция виновности
Июль 1935 года. Берлин.
Воздух в техническом отделе СС на Принц-Альбрехт-штрассе был густ от запаха паяльной смолы, чернил и нервного напряжения. Чертежи, рождённые за одну бессонную неделю, лежали стопками на кульманах. Устройство, которое в полевых условиях собирал Шульц под руководством Фабера, теперь обрело официальные контуры и кодовое имя: «Erntegerät» – «Жатвенный прибор». Его схема была до примитивности проста: генератор, катушка-датчик, батарейный отсек, наушники. Гениальность была не в сложности, а в самой идее.
Инженер-оберштурмфюрер, отвечавший за проект, докладывал Гиммлеру, сжимая в потной руке кальку:
– Рейхсфюрер, производство одной тысячи единиц – вопрос шести-восьми недель на заводах концерна «Сименс». Они уже получили спецификации. Проблема не в станках. Проблема в людях. Каждому такому прибору нужен оператор. Не просто солдат, а человек, который сможет отличить сигнал от ржавой банки от сигнала от монеты, который будет методично, сантиметр за сантиметром, прочесывать дворы и подвалы. Таких нужно найти, обучить, свести в команды. Нам потребуются сотни инструкторов. Сам «Эрнтегерат» – это лишь лопата. Главный инструмент – это человек с катушкой в руках и нужной установкой в голове.
Гиммлер слушал, постукивая подточенным карандашом по стеклу стола. Его мысль уже ушла дальше технических спецификаций.
– Начните с подготовки инструкторов немедленно. Используйте сапёрные школы СС. А людей… людей мы найдём. – В его голосе прозвучала та леденящая уверенность, которая не допускала возражений. Приборов может быть и тысяча, и десять тысяч – но каждый из них будет лишь продолжением воли системы.
Пока на заводах «Сименс» перестраивали конвейеры под новый, странный военный заказ, в других кабинетах Берлина шла менее шумная, но не менее важная работа. Между министерством пропаганды на Вильгельмштрассе и штабом СС на Принц-Альбрехт-штрассе установилась прочная, молчаливая связь. Йозеф Геббельс и Генрих Гиммлер, два мастера манипуляции, нашли друг в друге идеальных союзников. Их симбиоз был точен, как работа часового механизма.
Гиммлер поставлял сырьё – не абстрактные идеи, а холодные, осязаемые факты. В кабинет Геббельса ложились акты: вес изъятого в Эрфурте серебра – 28 килограммов 420 граммов. Фотографии потускневших монет с лилиями Капетингов. Крупным планом – ажурная брошь с надписью «Убейте мое сердце». Каждый предмет был материальным доказательством.
Геббельс же был виртуозом превращения. Его перо делало из килограмма серебра – символ векового угнетения, из броши – доказательство изощрённой чуждой эстетики. «Фёлькишер беобахтер» и десятки подконтрольных газет начали ежедневную, методичную кампанию. Заголовки кричали не о безработице или унижениях Версаля – они кричали о «грабителях», которые столетиями «прятали в немецкой земле награбленное у честных ремесленников и крестьян». История переписывалась не в академических трудах, а на страницах дешёвой газетной бумаги. Общественное недовольство, эта грозная и неконтролируемая сила, искусно перенаправлялась. Враг был найден. Он был богат, коварен и жил где-то рядом, а его сокровища лежали буквально у всех под ногами. Геббельс и Гиммлер понимали друг друга без слов: один копал яму, другой мастерски направлял в неё толпу.
Этой направленной толпе требовались проводники. И Гиммлер, педантичный архитектор собственной империи, взялся за строительство нового инструмента. Структура «Наследия предков» («Аненербе») подверглась срочной и радикальной реорганизации. В её недрах были созданы «Sonderkommandos zur kulturellen Wiederherstellung» (зондеркоманды по культурному восстановлению). Звучало наукообразно и благородно.
Их набирали из особого человеческого материала: молодые эсэсовцы с дипломами историков или археологов; техники, разочарованные в рутинной службе; фанатичные выпускники школ СС, горевшие желанием служить не только мечом, но и «лопатой, воскрешающей историю». Их курс был интенсивным и двойственным. С одной стороны – практика: сборка-разборка «Эрнтегерата», чтение сигналов, основы топографической съёмки, упаковка хрупких находок. С другой – идеология: каждая будущая находка преподносилась не как трофей, а как акт высшей исторической справедливости, возвращение немецкому духу того, что у него коварно похитили.
И здесь педантичный ум Гиммлера совершил тихий, но значительный подлог. Гневный приказ фюрера – «всё переплавить!» – был принят к исполнению. Но с одной оговоркой: перед уничтожением каждый предмет должен быть тщательно оценен и каталогизирован. На этапе этой «экспертизы» поток разделится. Безликие слитки и грубые монеты действительно отправятся в ненасытные печи заводов Круппа, пополняя стратегические запасы рейха. Но изящные брактеаты, уникальные чеканы, тончайшей работы филигрань, старинные печати – всё это исчезнет из официальных описей. Оно попадёт в дипломатические багажники, в чемоданы курьеров СД и уплывёт в нейтральный Цюрих. Там, через сеть подставных фирм и сговорчивых банкиров, история превратится в наличность – в швейцарские франки, американские доллары, британские фунты. Часть этого потока, равная цене металла по весу переплавленного лома, «очищенного» от позорящего прошлого, возвратится в Германию для финансирования всё более грандиозных проектов самого СС. А некая, строго учтённая часть осядет на засекреченных счётах, доступ к которым имеет лишь узкий круг лиц во главе с рейхсфюрером. Его мечты – от тибетских экспедиций до мистического орденского замка Вевельсбург – требовали независимого финансирования. Фюрер мог быть щедр на танки для вермахта и самолёты для Геринга, но его терпение к «расовой мистике» Гиммлера имело свои границы. Теперь эти границы можно было финансировать в обход.
Однако в тени этой новой, быстрорастущей империи СС затаился грозный и обойдённый вниманием хищник – Герман Геринг. Он смотрел, как Гиммлер строит свою финансовую и идеологическую машину, и его могучее тело сжималось от холодной ярости. Поток, который должен был обогащать рейх, будет утекать в карманы «чёрного ордена». Но Геринг был слишком опытен, чтобы бросаться в открытую атаку. Он выбрал момент для точечного удара, наткнувшись на Гиммлера якобы случайно в полутемном коридоре рейхсканцелярии после долгого совещания.
– Генрих, – начал он, разминая затекшую шею, его голос звучал устало-созерцательно. – С металлом всё ясно. Прагматично. Полезно для промышленности. Но скажи мне как человек, ценящий прекрасное… а что с другим? С теми находками, которые не переплавишь? С картинами, гобеленами, старинными манускриптами? Их же тоже будут извлекать из тайников. Вам потребуется быстрый, безопасный и, главное, незаметный транспорт. Грузовики трясёт, на поездах – таможня и любопытные глаза… А мои «Юнкерсы»… – Он сделал паузу, давая словам висеть в воздухе. – Мои «Юнкерсы» созданы для скорости и секретности. Они могут доставить хрупкий груз из любого угла Германии в Берлин за несколько часов. Без вопросов, без следов.
Гиммлер замер, его взгляд за стеклами пенсне стал остекленелым, как у змеи. Геринг, не дожидаясь ответа, продолжил, снизив голос до доверительного тона заговорщика:
– Люфтваффе, как самый современный род войск, должен нести не только военную, но и культурную миссию. Мы могли бы взять под нашу опеку… сохранение и учёт таких художественных ценностей. Создать при министерстве авиации специальный фонд. Или даже – выставочную галерею. Чтобы эти сокровища не канули в неизвестность, а служили воспитанию эстетического вкуса у будущих поколений пилотов и инженеров. Мы могли бы выступить их… кураторами.
Он не стал говорить открыто о разделе добычи. Он предложил партнёрство, прикрытое благородной риторикой: Гиммлер обеспечивает «культурные находки», а Люфтваффе – технологии их логистики, скорость и крышу в прямом и переносном смысле. Последнее слово – «кураторы» – прозвучало с особым, жирным ударением. Намёк был прозрачен, как горный воздух: картины не должны пройти мимо меня. Гиммлер, после долгой паузы, во время которой его лицо ничего не выражало, коротко кивнул. Он презирал эту грубую, солдафонскую алчность, но был прагматиком. Отказать Герингу означало обречь всю «Операцию Возвращение» на саботаж со стороны человека, чьи самолёты могли быть незаменимы, а влияние – смертельно опасно. Война за сокровища только что обрела нового, могущественного акционера с собственными взлётно-посадочными полосами.
Так, в душные летние недели июля 1935 года, приказ, рождённый в кабинете фюрера из приступа ярости и слабости, начал обрастать плотью и кровью. Он превратился в чертежи на заводах «Сименс», в ядовитые передовицы Геббельса, в учебные планы для идеологических копателей в «Аненербе», в тайные счета в швейцарских банках и в напряжённые договорённости между его заместителями. Гигантская машина, созданная для тотального изъятия чужого прошлого, была собрана. Её шестерёнки – алчность, идеология, страх и карьеризм – были смазаны и проверены. Оставалось лишь нажать главный рычаг и запустить конвейер воровства, освящённого государственным мифом.
Начало сентября 1935 года. Берлин и вся Германия.
Утром 4 сентября в разных концах рейха одновременно произошло одно и то же.
В Берлине, в казармах СС на улице Фридрихсхайн, выстроились и получили папки с документами пятьдесят семь человек. В Мюнхене, в бывших королевских конюшнях, теперь учебном центре «Аненербе», – ещё сорок восемь. В Дрездене, Гамбурге, Кёльне и Кенигсберге – по тридцать-сорок человек в каждом городе. Всего за одни сутки было поднято по тревоге, проинструктировано и отправлено на места триста двадцать человек, сведённых в пятьдесят четыре зондеркоманды.
Командиры зачитывали один и тот же приказ. Тон был ровным и не терпящим возражений. Цель – города по всему рейху: от Аахена на западе до Бреслау на востоке, от Фленсбурга на севере до Аугсбурга на юге. Не два-три города для пробы, а сразу двадцать восемь крупных населённых пунктов, где исторически были крупные еврейские общины.
Папки, которые вручали командирам, были тяжелыми от бумаг. Внутри лежал не только приказ Гиммлера и письмо министерства внутренних дел. Там была копия циркуляра от канцелярии Бормана, адресованная всем гауляйтерам без исключения. И отдельное предписание от главного управления полиции всем полицай-президиумам. Система работала на опережение: пока команды были в пути, телеграфные аппараты в местных партийных и полицейских управлениях уже отстукивали шифровки из Берлина: «Оказать полное содействие прибывающим командам СС. Запросы подлежат немедленному исполнению. Отчёт о предоставленных ресурсах – в течение суток».
Но главным в папке был не приказ, а план. Для каждого города служба безопасности (СД) подготовила свой. Это были не общие списки районов, а детальные схемы. На картах были обведены кварталы. К каждому кварталу прилагался перечень улиц, а к некоторым домам – даже старые планы подвалов, выкопанные из муниципальных архивов. Вторая часть плана – расписание. Работы во всех двадцати восьми городах должны были начаться одновременно, утром 6 сентября. Не поэтапно, а одним ударом.
Начальник учебного центра в Берлине, штандартенфюрер СС, закончив инструктаж, сделал паузу и добавил уже от себя, глядя в напряжённые лица:
– Помните, скорость – ваш главный союзник. Вы должны прибыть, предъявить документы и приступить к работе быстрее, чем поползёт слух. Если в каком-то доме начнётся паника или попытка что-то скрыть – это прямое указание, что вы на правильном пути. Действуйте жёстко, в рамках приказа. Ваша задача – не дать им времени на раздумье.
К полудню 4 сентября армейские грузовики, автобусы и несколько выделенных «Юнкерсов» Люфтваффе (для самых дальних направлений) начали развозить команды. Это был не тихий выезд нескольких групп. Это была скоординированная переброска сил. На главных автострадах и железнодорожных станциях можно было видеть колонны техники со знаками СС, движущиеся в разных направлениях. Масштаб перемещений был таким, что его можно было принять за начало крупных армейских манёвров.
Идея была проста и безжалостна. Не дать противнику – а именно так в сводках теперь именовались владельцы возможных тайников – ни единого шанса. Пока одна община в Франкфурте только успеет понять, что происходит, в Гамбурге, Мюнхене и Бреслау уже будут рыть землю. Слух не успеет обогнать событие. Система, действуя впервые с такой синхронностью, наносила удар не точечно, а по всей карте сразу. Не поиск, а облава. Не расследование, а конфискация. Подготовка закончилась. «Операция Возвращение» началась не с первого щелчка прибора, а с одновременного въезда пятидесяти четырёх команд в двадцать восемь немецких городов.
Середина сентября 1935 года. Франкфурт-на-Майне, район бывшего гетто.
Первые дни принесли успех. Из-под развалин старого дома на Юденгассе извлекли медный сундук, полный серебряных талеров XVII века. Через два дня в подвале соседнего здания «Эрнтегерат» запищал так громко, что у оператора зазвенело в ушах. Сапёры откопали керамический горшок с золотыми дукатами. Вес находок, их стоимость – всё это немедленно шифровалось и уходило в Берлин. В ответ приходили телеграммы: «Молодцы. Продолжать. Результаты впечатляют фюрера».
Но с каждым днём сигналов становилось меньше. Тщательно прочесанные дворы и подвалы больше не отзывались. Настроение в командах менялось. Азарт поиска сменился зудящим раздражением. Они знали, что должно быть больше. Цифры в исторических справках СД говорили о богатстве общин. А они выгребали лишь крохи. Мысль была очевидной: значит, прячут. Не в земле, так на себе.
Это не было приказом из Берлина. Это родилось на месте, в пыльном франкфуртском дворе, когда унтершарфюрер Шульце, командир зондеркоманды «Франкфурт-3», увидел, как у проходной в оцеплении задержали старика-еврея. Тот нервно поправлял пиджак.
– Проверь его, – коротко бросил Шульце охраннику. Тот грубо обыскал старика, вывернул карманы. Нашёл несколько рейхсмарок, носовой платок, ключи.
Но Шульце не отводил взгляда. Он взял у оператора «Эрнтегерат», включил его и медленно провёл катушкой вдоль сгорбленной фигуры старика. Прибор молчал. Тогда Шульце ткнул катушкой прямо в живот. Раздался тонкий, едва слышный писк. Старик побледнел.
– Открой рот, – приказал Шульце. Тот замотал головой. Двое охранников скрутили его, один железной хваткой разжал челюсти. На языке лежала золотая монета, старая, потемневшая от слюны.
Это был момент озарения. Не нужно было больше только копать. Цель была здесь, она ходила, дышала, пыталась пронести мимо них спрятанное богатство.
К вечеру того же дня приказ по зондеркоманде «Франкфурт-3» был изменён. Теперь охрана на периметре получила указание задерживать не только подозрительных, а всех евреев, пытающихся пройти в оцеплённый квартал или выйти из него. Их отводили в сторону, к стене склада. Туда же приносили прибор.
Процедура стала быстрой и привычной. Человека ставили к стене. Один охранник держал его сзади. Второй медленно, методично, как санитар на осмотре, проводил катушкой «Эрнтегерата» вдоль его тела: от головы, вдоль рук, по груди, животу, ногам, спине. Если раздавался писк, человека раздевали. Чаще всего находки были мелкими: монеты, зашитые в подкладку пальто или прятавшиеся в швах одежды, золотые зубные коронки, сплющенные в пластины украшения. Иногда люди пытались спрятать ценности в рот – за щеку, под язык. Им приказывали выплюнуть. Если отказывались – челюсти разжимали силой.