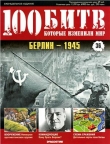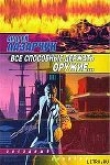Текст книги "Мой фюрер, вы — шудра (СИ)"
Автор книги: Салават Булякаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 28 страниц)
Он строил свои теории о чистоте крови, о мировом господстве, о тысячелетнем рейхе – но в его душе навсегда застрял голодный, озлобленный австрийский плебей из мужского общежития в Вене. Тот, кому отказывали в приёме в Академию художеств. Тот, кто завидовал чужому богатству, чужому положению, чужой утончённости. И теперь, получив в руки всю мощь государства, он использовал её не для того, чтобы созидать, а для того, чтобы выместить эту старую, грызущую зависть. Он не хотел управлять миром как брахман-философ. Он хотел его обокрасть. Присвоить себе его золото, его территорию, его статус – как этот слиток, который он сейчас сжимал в потной ладони.
И самое страшное, понял Фабер, что и он сам – такой же. Не брахман, пришедший исправить историю. Он – расчётливый шудра. Интеллектуальный вор, который подменил истину ложью, священную традицию – циничной мистификацией, а теперь водил по святыням других воров, ещё более мелких и пошлых, чем он сам. Они все здесь, в этом подвале, были одного поля ягода. Разного масштаба, разного ума, но одной, низкой, воровской породы.
Их «Валгалла», их возвращение наследия предков – было всего лишь грандиозным, кровавым налётом. Сагой, сочинённой нищими для самих себя.
Гитлер обернулся, и его взгляд, сияющий фанатичным счастьем, встретился с взглядом Фабера. В этот момент Фабер не увидел в нём ни пророка, ни фюрера, ни даже опасного безумца. Он увидел человека с синим, облезающим лицом, с глазами, горящими жадным блеском найденной на помойке игрушки.
– Фабер! – крикнул Гитлер, перекрывая шум. – Смотри! Это же… это же наше! По-настоящему наше!
Да, – подумал Фабер, чувствуя, как кислота этого осознания разъедает его изнутри.
– Ваше, мой фюрер. Ваше и таких, как вы. Вы наконец-то нашли своё.
Глава 42. Золотая лихорадка
11 февраля, примерно в 10:00–10:30, подвалы Храма Падманабхасвами
Гитлер перешёл в соседнее, более просторное подземелье. Сводчатый потолок здесь был выше. И в центре, на невысоком каменном помосте, стоял он.
Золотой трон.
Он не был похож на европейские троны. Это было массивное, приземистое сиденье из тёмного, почти чёрного дерева, сплошь покрытое чеканными золотыми пластинами. На спинке и подлокотниках были вычеканены слоны, цветы лотоса, мифические птицы. Трон был завален золотыми вещами, как прилавок барахолки: на нём лежали несколько цепей, пара небольших сосудов, какая-то пёстрая ткань, истлевшая от времени,
Гитлер остановился и простонал от восторга – коротко и беззвучно, лишь приоткрыв рот. Он указал на трон дрожащим пальцем.
– Вот он… – прошептал он. – Из видения. Тот самый.
Геринг, тяжёло дыша от непривычки к спёртому воздуху, подошёл сзади. Его глаза оценивающе скользнули по золоту.
– Колоссально, мой фюрер. Просто колоссально. Знаете, его бы прекрасно поставить в Рейхстаге. В зале заседаний. Вы очень бы… импозантно смотрелись на таком.
Гитлер отмахнулся, не оборачиваясь. Его взгляд был прикован к трону.
– Не говорите глупостей, Герман. Народ не поймёт. Он увидит в этом не величие, а позолоту. Барокко. Это… это всего лишь золото.
Но в его голосе не было отказа. Была жажда. Страшная, детская, почти физиологическая жажда – прикоснуться, присвоить, попробовать на вкус эту сказку. Сесть на трон древних властителей. Хотя бы раз.
Он оглядел суетящихся вокруг солдат. Они, согнувшись, таскали мешки, не глядя на него, поглощённые азартом грузчиков на сеновале. Никто не смотрел. На мгновение его лицо приняло то самое, знакомое по парадам и фотографиям выражение – отрешённое, величавое, исполненное непоколебимой воли. Он выпрямил спину, подбородок приподнялся. Голый по пояс, в синей краске он был похож на плохого актёра, готовящегося к роли короля смурфиков. Но в его собственной голове в этот момент, наверное, гремели фанфары.
Он медленно, почти церемониально, подошёл к помосту. На краю трона, на спинке, свисала какая-то тёмная верёвка или шнур – видимо, часть такелажа, который бросили десантники. Гитлер, не глядя, отмахнулся от неё левой рукой – жестом, полным презрения к этой бытовой помехе его моменту триумфа. Он хотел очистить трон от всего лишнего, от следов чужой, суетливой работы.
Фабер, стоявший в пяти шагах у входа, увидел это движение. И его мозг, заторможенный усталостью и отвращением, сработал с запоздалой, леденящей ясностью. Это была не верёвка.
В полумраке, в хаосе бликов от фонарей на золоте, было трудно разглядеть. Но когда рука Гитлера коснулась предмета, тот дрогнул. Это было не пассивное движение верёвки. Это было живое, упругое сокращение. И в следующий миг Фабер увидел форму: тонкое, не более полутора метров в длину, тело с тупыми плавными переходами, блестящую чешую цвета оливкового дерева с едва заметными поперечными полосами. Голова была маленькой, почти незаметной.
Индийский крайт. Bungarus caeruleus.** Одна из самых ядовитых змей на планете.

Рука Гитлера отбросила змею. Та мягко шлёпнулась на каменный пол у подножия трона, извилась и мгновенно, бесшумно скользнула в ближайшую щель между камнями, исчезнув из виду. Всё произошло за две секунды.
Гитлер даже не вздрогнул. Он, вероятно, вообще ничего не почувствовал. Укус большинства аспидовых, к которым принадлежит крайт, почти безболезнен. Два крошечных прокола, как от булавки, на внутренней стороне правого предплечья, чуть выше локтя. Капелька крови, смешавшаяся с синей краской и пылью. Фюрер даже не посмотрел на руку. Его внимание было целиком поглощено троном.
Он повернулся к нему спиной и медленно, с театральной важностью, опустился на сиденье. Золото скрипнуло под его весом. Он сидел, выпрямившись, положив руки на богато украшенные подлокотники, и смотрел вдаль, поверх голов суетящихся солдат, в сырой полумрак подвала. На его лице застыло выражение глубочайшего, почти мистического удовлетворения. Он сидел на троне ариев. Его мечта сбылась.
У Фабера внутри всё замерло. Сердце на секунду остановилось, а потом заколотилось с такой силой, что стало давить на рёбра. Воздух вылетел из лёгких. Он открыл рот. Слово – «Змея!» или «Фюрер!» – уже готово было сорваться с губ.
Но оно не сорвалось.
Внутри него поднялась другая сила, огромная, тихая и леденящая. Это не был страх. Это было знание. Не рациональное знание историка, а глубокое, костное понимание. Перед ним сидел не просто человек по имени Адольф Гитлер. Перед ним сидела идея. Абстракция. Источник бед, которые сожгут Европу, убьют миллионы, на десятилетия отравят саму душу его народа. Сидела в обличье человека с синими разводами на лице на чужом золотом троне.
Это был не пациент, которому нужна помощь. Это был вирус. Яд, уже пущенный в кровь истории. И другой яд, биологический, только что вошедший в его плоть, был не трагедией. Он был… симметрией. Случайной, дикой, но совершенной в своей справедливости.
Предупредить? Кричать? Поднимать панику? Зачем? Чтобы спасти это? Чтобы дать этому больше времени, больше власти, больше возможностей устроить тот кошмар, который Фабер знал как неизбежное будущее?
Мысль пронеслась мгновенно, не в словах, а в виде вспышки интуиции. Он знал про крайта. Яд нейротоксичен. Он не убивает мгновенно. Он действует медленно, от часа до двенадцати и более, парализуя нервную систему. Сначала – мышечная слабость, нечёткость зрения. Потом – трудности с глотанием и речью. Потом – паралич дыхательных мышц. Противоядие существует, но его нет здесь, в подвале индийского храма. Его нет и в Тегеране. Оно есть, возможно, в Бомбее, у британцев. Тех самых британцев, которых они сейчас обманывают.
Никто ничего не заметит. Сам Гитлер ничего не почувствует. До первых симптомов – возможно, час, два, возможно, больше. У них было время закончить погрузку. У них было время улететь.
А потом… потом начнётся. Не здесь. Где-то в небе.
Голос, готовый сорваться в крик, застрял у Фабера в горле, превратился в ком ледяной ваты. Он просто стоял. Смотрел на Гитлера, сидящего на троне. Смотрел на его руку, он знал, там были два крошечных прокола, глобально изменяющих историю.
Геринг что-то говорил фюреру, жестикулируя в сторону очередной груды. Гитлер кивал, его лицо всё ещё сияло торжеством. Он не чувствовал ничего, кроме упоения властью.
Фабер медленно, очень медленно, сомкнул губы. Он опустил взгляд на свои собственные руки, тоже испачканные синей краской. Он был соучастником. Он был палачом. Он был тем, кто привёл этого человека сюда. И теперь он становился свидетелем. Молчаливым свидетелем того, как слепая природа, древняя, как этот храм, выносила свой собственный, безжалостный приговор.
Он сделал шаг назад, растворившись в тени у стены. Его лицо в полумраке было абсолютно бесстрастным. Внутри же бушевала пустота. Не радость, не триумф, не ужас. Просто пустота огромного, беззвучного падения в бездну, которую он сам и вырыл.
Он не сказал ни слова.
11 февраля, около 11:00. Храм Падманабхасвами, у грузового люка.
Увиденное нужно было осмыслить. Думалось сразу всё и обовсем. Чтобы как то отвлечься от мыслей Фабер сосредоточился на самом простом, на погрузке сокровищ. Но сюрпризы не прекращались. Фабер, стоя в тени и отмечая в блокноте контейнеры, заметил движение. Десантник, только что передавший мешок с изумрудной крошкой, на секунду задержал руку у кармана брюк. Взгляд солдата на миг встретился с Фабером и тут же вильнул в сторону. Фабер перевёл взгляд на других. Всмотрелся.
Они делали это все. Абсолютно все.
Офицер, кричавший «Шнель!», наклонялся поправить сапог, и в этот момент в разрез голенища исчезала горсть рубинов в платке. Рядовой, тащивший слиток, прижимал его к груди, а другой рукой засовывал в карман брюк плоский, как лезвие, алмазный поясок. Даже обершарфюрер, надзиравший за погрузкой трона, с деловитым видом подобрал отлетевший из под ног сапфир, осмотрел и сунул в карман.
Золото в основном не трогали. Золото было тяжёлым, звонким, его сложно спрятать. Вероятно понимали, сто его обнаружат на контроле. А эти камешки… Эти алмазы, изумруды, рубины – они были в их глазах идеальной добычей. Невесомые, незвучные, невидимые. Один такой камешек, зашитый в подкладку, в подошву, – это был билет в сытую, тихую жизнь. На него можно было купить дом, вытащить семью из нищеты. Это был инстинкт нищеты. Инстинкт выживания, прорывавшийся наружу, когда вокруг лежали целые горы, на которые всем было наплевать.
«Это всего лишь золото», – сказал фюрер. Для него – да, но для этих людей, выросших в разрухе, каждый спрятанный камень был всем. Их личной, тайной «Валгаллой».
Фабер смотрел на них, и мысль, посетившая его внизу, у трона, обретала плоть.
Смотрите на ваших сверхчеловеков, мой фюрер. Они не творят историю. Они воруют. Как самые худшие шудры, крадущие крохи со стола господ.
Вот он, ваш Тысячелетний рейх. Его фундамент – не чистая идея. Это – краденные камушки в солдатских карманах. Страх и алчность, одетые в мундир.
Он закрыл блокнот. Предупреждать? Зачем? Потом обдумав мысль, не глядя, он сам ловким движением ссыпал в свой раскрытый портфель с документами горсть рубинов из разбитой шкатулки у ног. Холодный, незначительный вес. И я шудра, – безо всякой горечи констатировал он про себя. Все мы здесь вороватые шудры.
Мысль, змеившаяся в голове Фабера, нашла новую, ещё более ядовитую форму. Он смотрел на синелицых солдат, прячущих по карманам камни, на груды растоптанного золота, на священные изображения, заляпанные грязными сапогами.
Нет, мой фюрер. Мы ошиблись в самой классификации.
Пока мы служили Германии – её машине, её мифам, её порядку – мы ещё могли счесть себя шудрами. Низшими, но всё же слугами в чужом, великом, пусть и чудовищном, храме. Шудра знает своё место. Он не смеет войти в святилище.
Но мы вошли.
Он почувствовал холодный вес камней в портфеле, этот его скромный, циничный трофей.
Мы не просто украли. Мы осквернили. Мы вломились в самое сердце чужой веры, в её сокровенную тайну, и обращали святыни в лом, в сырьё, в валюту. Тогда получается мы даже не слуги. Мы – скверна. Та, что не имеет права даже приближаться. Ракшасы.
Шудра знает ритуал и соблюдает дистанцию. Ракшасы – это сама грязь, которую ритуал призван отринуть. И мы, ваша сверхчеловеческая элита, оказались именно этим – олицетворённой скверной в священном пространстве.
11 февраля, 08:42–13:47. Храм Падманабхасвами
Десантники сновали как муравьи, нагруженные мешками. Теперь, когда фюрер объявил находку «всего лишь золотом», всякая осторожность исчезла. Они работали быстро и грубо. Золотые слитки и украшения сгребали лопатами прямо с пола. Массивную статую божества разрубили топорами на удобные для переноски куски. Мелкие предметы высыпали в ящики.
Весь этот поток стекался из храма к месту высадки дирижабля. Там груз упаковывали в специальные прорезиненные контейнеры, сконструированные для этой операции в Берлине. Полные контейнеры цепляли к тросам лебедки, и они медленно поднимались в зев открытого грузового люка «Гинденбурга».
За пять часов немецкой пунктуальности были вычищены пять подземных хранилищ. Под конец солдаты даже подмели каменные полы, чтобы не осталось ни одной монеты, ни одного крошечного камня.
Шестую, последнюю дверь, украшенную резными змеями и не вскрытую в его времени, Фабер вскрывать запретил. Он указал на изображения и заявил, что согласно их разведданным, за этой дверью за века мог скопиться ядовитый газ или иные ловушки, которые могут убить всех, кто рядом. Рисковать людьми и срывать график операции из-за ещё одной комнаты он не стал. Все согласились.
Ровно в 13:47 последний контейнер был поднят на борт, а десантная группа вернулась в дирижабль. Грузовой люк захлопнулся. «Гинденбург», тяжело нагруженный, начал медленно подниматься, набирая курс на запад, в сторону Аравийского моря.
И только через полчаса после взлёта дирижабля Британский гарнизон в Тривандруме был поднят по тревоге. В город начали приходить перепуганные служители храма с известием о чуде. Для не грамотных индусов происходящее было ясным знаком: сам Вишну или его слуги спустились, чтобы забрать своё. Именно эту версию – о божественном вмешательстве – и услышат позже запоздало прибывшие на тревогу английские колониальные чиновники.
11 февраля 1936 года, около 15 часов. Трюм дирижабля LZ 129. Возвращение над Аравийским морем.
Воздух в грузовом отсеке был спёртым. Сильно пахло потом. Десантники сидели на ящиках, уставшие, с пустыми глазами. Они везли в карманах, в подкладках, в потайных кармашках на брюках свою личную добычу. Напряжение от этого знания висело в воздухе гуще запаха машинного масла и пота.
Фабер, делая вид, что проверяет крепления, остановился возле обершарфюрера Гюнтера. Тот сидел неподвижно, но его глаза не смотрели в пустоту. Они метались по лицам своих солдат, считывая ту же тревогу.
– Обершарфюрер, – тихо сказал Фабер.
Гюнтер медленно перевёл на него взгляд, будто возвращаясь из тяжёлого сна.
– Они не удержались, – констатировал Фабер без предисловий. – Напихали в карманы всё, что плохо лежало. Грезы кончились. Пора возвращаться на реальную землю.
Гюнтер молчал.
– Перед посадкой будет досмотр, – продолжил Фабер тем же ровным, не терпящим возражений тоном. – Не формальный. Полный. СД выставит рентген и металлоискатели. Любой слиток, любая монета – запищат. Камни не конечно запищят, но их все равно найдут. Любой камень будет виден на рентгене. СД очень хорошо научилась на евреях за последние месяцы находить спрятанное на теле человека. Скандал. Трибунал. Расстрел.
Он наклонился чуть ближе, чтобы его не услышали за грохотом двигателей.
– Твои люди – смертники. Если они сейчас же не избавятся от всего лишнего. Всё, что не вошло в наш вчерашний договор. Ты понял меня? Я пронесу только то, о чём мы с тобой говорили. Ровно два камня на человека. Ни грамма больше.
Гюнтер кивнул. Молча. Один раз, коротко.
– Понял, штурмбаннфюрер. Сделаю.
Он поднялся, и его спина вдруг выпрямилась. Усталость исчезла, её сменила опасная, сконцентрированная энергия. Он не стал кричать.
– Всем встать, – сказал Гюнтер негромко, но так, что слова прозвучали чётко в общем гуле. – Выкладываем. Всё. Что взяли. Сейчас.
Последовала секунда оцепенения. Потом кто-то попытался пробормотать: «Да мы ничего, обершарфюрер…» Гюнтер не дал договорить. Он двинулся к говорящему, и того, даже без удара, отшатнуло к стене. Больше вопросов не было.
Через пять минут в отсеке царила тихая, сосредоточенная деятельность, пахнущая страхом. Солдаты, отвернувшись друг от друга, выковыривали из карманов, отдирали от потайных застёжек, вытряхивали из голенищ утаённые камни, золотые монеты, мелкие слитки. Лица у них были серые, каменные. В другом конце трюма, в тени за грузовыми лебедками, куда отошел Гюнтер, он принимал «дань». К нему подходили по одному, протягивали зажатые в кулаке два отборных камня – свою законную, по договору, долю. Остальное, с тихим стуком или коротким звяканьем, сыпалось в оцинкованное ведро у его ног.
Фабер прошёл через отсек. Взгляды, которые раньше скользили по нему как по мебели, теперь на секунду задерживались. В них не было благодарности. Была звериная, немота отчаяния и тупая ненависть. У голодного отняли краюху хлеба. А что такое голод, они знали все. И они не верили Фаберу.
Гюнтер, поймав его взгляд, едва заметно кивнул. Ведро наполнялось.
Гул двигателей был одним и тем же и для фюрера в его каюте, где он, возможно, уже чувствовал первые странные покалывания в руке и сочинял речь о возвращении наследия, и для них здесь, в трюме, где сдавали краденое. Но это были два разных мира, летящих в одном корпусе. Один – в бреду величия. Другой – в страхе и ненависти.
–
**Индийский крайт (Bungarus caeruleus), или голубой бунгарус – крайне ядовитая змея из семейства аспидов, обитающая в Южной Азии. Укус часто безболезненный, что опасно задержкой диагностики и лечения. Из-за очень коротких клыков укус часто не оставляет местных отеков или некроза, и жертва (особенно спящая) может его не заметить. Обладает очень сильным нейротоксичным ядом (в 5 раз опаснее кобры), вызывающим паралич. В Индии входит в число самых опасных змей.
Глава 43. Завещание в небе
11 февраля, вечер. Индийский океан, затем Аравийское море.
Через два часа после взлета, где то за островами Лакшадвип они развернулись, и легли на обратный курс к Ирану. Дирижабль LZ 129 шёл на северо-запад, километр за километром, разрезая тёплый, спокойный воздух над океаном. На много миль вокруг не было ни одного мачтового огонька, ни одного дымка на горизонте. Казалось, сама удача, или те самые древние арии, чьё золото лежало теперь в трюме, благоволили им. Двигатели работали ровно, навигационные расчёты сходились. Всё было по плану. Дирижабль LZ 129 шёл в Иран, но для Фабера мир сузился до одной точки: каюты Гитлера. Он сидел в углу, делая вид, что изучает навигационные расчёты, а на самом деле отсчитывал минуты и прислушивался к звукам в коридорах и каютах. Он ждал начала агонии Гитлера. Фабер помнил каждый момент в подземелье: резкое движение в темноте, тонкое, чешуйчатое тело, юркнувшее в щель. Кайрат. Нейротоксин. Латентный период – от шести до двенадцати часов. И теперь Фабер ждал.
Примерно через три часа после смены курса Гитлеру стало хуже.
Сначала он списал это на спад адреналина, на откат после невероятного напряжения «набега». Он сидел в кают-компании и чувствовал необъяснимую, нарастающую слабость. Потом появилась сухость во рту, странная, вязкая. Он попросил воды. Чашка дрожала в его руке, вода пролилась на мундир. Потом началось двоение в глазах. Он пытался читать, но буквы поплыли, расплылись, как будто бумага подёрнулась масляной плёнкой. Он попытался встать – и чуть не упал, схватившись за край стола. Мышцы рук не слушались, были ватными, не его собственными. Появилось ощущение, будто кожа на лице и губах онемела, словно после укола новокаина, но только это онемение шло изнутри и не проходило.
Он позвал своего личного врача, Теодора Морелля. Тот встревоженный, начал обычный осмотр: пульс, давление, язык. Пульс был учащённым, давление в норме. Горло не красное. Лихорадки не было. Морелль, всегда уверенный в себе, растерялся. Он тыкал пальцем, просил проследить глазами, задавал вопросы о еде, о сне. Ответы были бессвязными. Гитлер жаловался на онемение губ, на то, что ноги словно чужие.
– Вероятно, сильнейшее нервное истощение, мой фюрер, – бормотал Морелль, но в его глазах читался чистый, животный страх. Он не понимал, что происходит. – Нужен полный покой. Инъекция витаминов…
Но с каждой минутой Гитлеру становилось всё хуже. Слабость накатывала волнами, сковывая тело. Речь стала замедленной, нечёткой. Он пытался что-то сказать Герингу, который, услышав шум, ввалился в каюту, и слова выходили путаными, спутанными.
Геринг замер на пороге, его пухлое лицо обезобразила гримаса ужаса. Он видел, как его фюрер, ещё утром сиявший энергией, теперь медленно погружался в какую-то тихую, беспомощную трясину. И этот ужас был двойным: за жизнь Гитлера и за себя. Он, Герман Геринг, был ответственным. Это он организовал этот полёт, это он был рядом. Если фюрер умрёт здесь, в небе над океаном, в этой жестяной банке… Вопрос о преемственности решится не в его пользу. В Берлине остались Гиммлер и Геббельс. У них будут руки чисты, а у него – труп вождя на руках. Но это были мысли на завтра. Сегодняшний, немедленный ужас был проще и страшнее: экипаж дирижабля состоял не только из его людей. Здесь были и эсэсовцы Гиммлера. Если новость вырвется наружу, пока они ещё в воздухе, бунт или паника были неминуемы. А в панике на борту перегруженного, летящего на пределе топлива дирижабля умирали все. Сразу.
Четверо телохранителей СС из личной охраны «Лейбштандарта», услышав движение, тихо заняли позиции по углам каюты. Они не двигались, не задавали вопросов. Они стали молчаливыми, каменными свидетелями разворачивающейся на их глазах трагедии. Их тренированные лица были непроницаемы, но в их позах читалась скованность абсолютного шока.
Гитлер тоже боялся. Но его страх был иного рода. Он не боялся смерти как конца. Он боялся этой унизительной, ползучей слабости. Организм, который он всегда заставлял служить своей титанической воле, теперь отключался кусками, без его согласия. И в его помутневшем сознании, привыкшем к мистическим объяснениям, сложилась страшная картина. Это было наказание. Они что-то не доделали. Оскорбили духов места. Неправильно забрали золото. Или… не забрали что-то важное. Проклятие древнего храма настигло его здесь, в небе.
Ночь на 11 февраля. Каюта фюрера.
Силы покидали его быстро. Дышать становилось труднее, каждый вдох требовал усилия. Голова отяжелела, он не мог её держать прямо. Геринг, сидя на краю койки, держал его за безвольную руку, и его пальцы дрожали.
Гитлер собрал последние остатки воли. Его голос был хриплым, слова давились, но смысл был ясен, слова услышали все присутствующие.
– Герман… – выдохнул он. – Ты… был со мной… в последнем походе. Не Генрих… не Йозеф… Ты.
Он с трудом перевёл дух, его глаза, остекленевшие, пытались поймать взгляд Геринга.
– Если я… умру… Ты. Ты должен… возглавить Рейх. Боевому вождю… и править… Понимаешь?
Геринг кивал, не в силах вымолвить ни слова. В его голове завывала сирена тревоги и ликования. Это было оно. Законное право. Устное завещание вождя, сказанное перед свидетелями. Но устного мало. Нужен документ.
– Мой фюрер… – его собственный голос звучал сипло от волнения. – Нужно… оформить. Приказ. Чтобы не было сомнений. Позвольте…
Он оглянулся. Нужна была бумага с печатью. Но её не было. Тогда он схватил планшет что лежал на столе, взял чистый лист. Рука дрожала, но почерк он выводил чёткий, каллиграфический, как у писаря, стараясь, чтобы каждая буква была законченным юридическим фактом. В верхнем углу он крупно написал: «Приказ фюрера № 1/воздух». Дата. Координаты, которые он сгоряча взял с потолка: «Аравийское море, широта… долгота…».
«По причине резкого ухудшения здоровья и в условиях нахождения вне территории рейха, я, Адольф Гитлер, фюрер и рейхсканцлер Германии, настоящим назначаю министра авиации Германа Геринга своим единственным преемником на посту руководителя государства, верховного главнокомандующего и лидера НСДАП. Он облекается всей полнотой моей власти до дальнейшего распоряжения. Дано собственноручно в полёте. Адольф Гитлер».
Он протянул лист и перо Гитлеру. Подпись у Гитлера получилась кривой, размазанной, похожей на падающую молнию. Но она была.
– Капитан, доктор, парни, – резко сказал Геринг, оборачиваясь к телохранителям. – Ваши подписи.
Капитан, врач и телохранители, бледные как полотно, по очереди подошли. Каждый, щёлкнув каблуками, ставил свою подпись, звание и номер удостоверения СС. Они подписывали смертный приговор своему фюреру и рождение нового хозяина. Никто не посмел отказаться.
Гитлер молчал, тяжело дыша. Но его стекленеющий взгляд блуждал по каюте, искал что-то. Пальцы беспомощно пошевелились на одеяле.
– Оружие… – прошептал он с невероятным усилием, и слово вышло спутанным, но понятным. – Без оружия… в Валгаллу… не пустят.
В каюте все замерли, пораженные не только физическим крахом, но и этим последним, ясным проблеском его сознания, уцепившегося за древний миф. Он думал не о рейхе. Он думал о том, что ждёт его после.
Один из молодых телохранителей СС, стоявший у двери, понял первым. Его рука потянулась к бедру, к чёрным ножнам парадного кортика с эмблемой «Мёртвая голова». Но он замешкался, его взгляд в панике метнулся к Герингу – можно ли?
Геринг действовал молниеносно. Он резко шагнул к солдату, и его движение было лишено обычной тяжеловесности – только властная целеустремлённость.
– Давай, – бросил он не приказным тоном, а каким-то низким, густым, не терпящим ни секунды промедления.
Телохранитель, побледнев ещё больше, дрожащими руками расстегнул крепление и протянул кортик. Геринг выхватил его. На мгновение он задержал взгляд на узкой полоске полированной стали, на рукояти, с орлом. Это было не просто оружие. Это был символ. И теперь он, Герман Геринг, вручал его.

Он повернулся к койке, опустился на одно колено, чтобы быть на уровне глаз угасающего вождя. Его движения вдруг обрели какую-то странную, почти рыцарскую церемониальность.
– Мой фюрер, – его голос охрип от сдерживаемых эмоций. – Ваше оружие. Вы воин. Вы всегда им были.
Он вложил рукоять кортика в слабеющую, почти нечувствительную руку Гитлера. Пальцы не сомкнулись. Геринг обхватил его кисть своими могучими ладонями, сложив их вокруг холодной рукояти, зафиксировав хватку. Так и остался на коленях, держа руки фюрера в своих, словно совершая последний, страшный обряд посвящения или передачи власти.
Гитлер повернул голову. Его взгляд, уже почти невидящий, скользнул по стали, по рукам Геринга, держащим его собственные. На его губах, потерявших чувствительность, дрогнуло нечто вроде тени, попытки кивка или улыбки. Страх в его глазах на мгновение сменился чем-то иным – признанием, смирением, готовностью. Он сжимал оружие, которое держал для него другой. Это был последний, немой договор: Я принимаю свою судьбу воина. Ты принимаешь моё царство.
Только после этого, убедившись, что кортик зажат в неподвижных пальцах, Геринг медленно отпустил его руки и поднялся. Его лицо было мокрым. Теперь он мог думать о документе, о власти, о будущем. Ритуал был соблюдён. Фюрер мог уходить в свою Валгаллу. А ему, Герингу, предстояло править в мире живых.
Через час Адольф Гитлер умер, сжимая кортик в руках. Это не была агония. Это было медленное, тихое угасание. Дыхание становилось всё реже, всё поверхностнее, пока не остановилось совсем. Он сидел, откинувшись на подушки, его глаза были открыты и смотрели в стальной потолок каюты, невидящие. Морелль, который до последнего слушал сердце стетоскопом, весь как-то поник, плечи опустились в понимании своего бессилиия. Он отстранился, машинально сложив инструмент в саквояж. В каюте повисла гробовая тишина, нарушаемая лишь гулом моторов. Все стояли и молча смотрели на того, кто совсем не давно сравнивал себя с богами. Геринг, оглушенный собственным сердцебиением, заметил деталь: на неподвижном лице Гитлера застыла не маска покоя, а странная, едва уловимая гримаса – не то удивления, не то лёгкого, горького недоумения. Как будто в последнюю секунду он увидел что-то совершенно неожиданное и теперь уносил эту тайну с собой.
Геринг стоял неподвижно, глядя на мёртвое лицо. Потом медленно оглядел присутствующих. Его лицо было мокрым от пота и, возможно, слёз, но в глазах уже горел жёсткий, холодный огонь ответственности и власти.
– Ни слова, – сказал он телохранителям и Мореллю. Его голос был низким и не терпящим возражений. – Ни слова, пока мы не в Берлине. Фюрер отдыхает после тяжёлой миссии. Понятно?
Все кивнули.
Он вышел из каюты, прошёл в рубку управления, где капитан Леманн и штурман с тревогой ждали новостей.
– Курс на Берлин, – отрезал Геринг. – Прямой. В Тегеране не останавливаемся. Максимальная скорость. Топливо?
– Его ещё много, господин министр, – доложил Леманн. – Если не будет сильного встречного ветра… должно хватить.
– Тогда молитесь, чтобы ветра не было, – отрезал Геринг. – И слушайте приказ: никаких радиосообщений в Берлин. Радиоэфир – полное молчание. Никаких запросов о погоде, никаких сеансов связи. Переведите рацию на режим только приёма. Мы – призрак.
Леманн открыл было рот, чтобы возразить: без сводок погоды они летели вслепую, но взглянул в лицо Геринга и понял – это был уже не приказ министра, а закон нового правителя. Они должны были исчезнуть из эфира, чтобы никто в Берлине не мог заподозрить катастрофу раньше времени. Цена этой скрытности могла стать новая катастрофа – метеорологическая. Но альтернатива – гражданская война в воздухе – была страшнее.
Тайну сохранить не удалось. Слишком тесен был дирижабль, слишком велик шок. Доктор Морелль, окончательно потеряв голову, выбежал из каюты, бормоча что-то невразумительное о «невозможной диагностике» и «параличе». Четверо телохранителей СС, оставшись наедине с телом Гитлера, уже не были безликими автоматами. Они были молодыми парнями, напуганными до смерти. Один из них, унтершарфюрер, не выдержал – его вырвало прямо в углу каюты от нервного срыва. Другой молча лил слёзы, глядя на неподвижное лицо фюрера.
Весть расползалась по стальным коридорам быстрее любого приказа. Шёпотом от уха к уху, от отсека к отсеку: «С фюрером плохо». Потом: «Врач ничего не понимает». Толчком стал вид доктора Морелля. Выйдя из каюты, он не пошёл, а поплёлся, как пьяный, по коридору, натыкаясь на переборки. Он что-то бессвязно бормотал себе под нос: «Паралич… центральной нервной системы… токсин… но откуда? Есть ли антидот?» А потом, увидев смотрящего на него молодого механика, вдруг громко, на весь отсек, выкрикнул: «Я не могу установить причину! Понимаете? Не могу!» И разрыдался, сползши по стене. В этот момент все, кто его видел, поняли: фюрер не просто «плохо себя чувствует». И наконец, леденящий душу шёпот, в котором уже не было сомнений: «Фюрер умер».