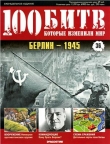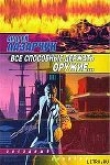Текст книги "Мой фюрер, вы — шудра (СИ)"
Автор книги: Салават Булякаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 28 страниц)
Глава 19. Ссылка
25 апреля 1935 г., Аненербе.
Утром в 9-00 Фабер стучал в кабинет Зиверса
– А, Фабер, входите. Поздравляю. Вот ваш новый приказ. – После вручения он помахал рукой, отмахиваясь как от назойливой мухи, показывая, что аудиенция окончена и Фабер должен уйти.
Der Reichsführer-SS
Persönlicher Stab
Berlin, den 24. April 1935
ПРИКАЗ № 42/35-ПЛС
Гауптштурмфюреру СС Й. Фаберу.
В связи с исключительной государственной и научной важностью места Тевтобургской битвы для исторического сознания нации, Вам поручается и вменяется в обязанность **немедленно** выехать в район раскопок близ Калькризе (Оснабрюк) для проведения систематических полевых исследований неограниченной продолжительности.
Задача: Проведение исчерпывающих археологических изысканий, каталогизация находок и обеспечение сохранности памятника.
Отчётность: Ежемесячные письменные отчёты направлять непосредственно в секретариат рейхсфюрера СС.
Приказ вступает в силу немедленно. О прибытии к месту назначения доложить телеграфом в течение 24 часов.
За рейхсфюрера СС: [Подпись адъютанта Вольфа]
Это была не командировка. Это была ссылка. Элегантная, бесшумная, под благовидным предлогом. Его убирали из Берлина, с глаз фюрера и Геринга. Забрасывали обратно в тот самый лес, откуда он только что вырвался к славе.
– Приказ понятен. Герр Зиверс, скажите, что будет с моим отделом, – Макс вспомнил страх фрау Браун остаться без работы. – его расформируют?
– Нет, конечно же. Отдел продолжит работу, и даже штат будет увеличен. Его возглавит Рюдигер. Неделя в Дахау ему пошла на пользу. Он просто горит нетерпением работать в нужном нам направлении. Он взял за основу ваши труды и значительно, очень значительно их расширил. Рейхсфюреру понравилось. Всё, идите.
Фабер щёлкнул каблуками, сделал уже привычный гитлергрюсс и вышел из кабинета.
В хозяйственном отделе Фабер получил полевой комплект формы и билет до Ганновера в один конец. Ему подогнали по фигуре мундир и нашили новые погоны.
Сборы были быстрые, сложило вещи в чемодан, закрыл дверь на ключ и вечером, почти ночью пошел на вокзал. Он шел и размышлял. Он хотел изменить историю, а получил отлучение от мест принятия решений. И в этом забвении, среди холмов Калькризе, ему предстояло заново понять – кто он теперь? Винтик, выброшенный за ненадобностью? Или счастливчик?
Шел и крутил в пальцах утаённую в Борсуме римскую монету – его единственный символ выбора правды. Теперь у него было время. Время думать. Много времени.
25 апреля 1935 года, Берлин. Ночной вокзал.
Фабер стоял на почти пустом перроне Лертерского вокзала. Он курил, глядя, как дым растворяется в холодной ночной мгле под сводами станции, чемодан стоял между ног. Мысль работала с холодной, методичной ясностью, анализируя вечер в Каринхалле по крупицам. Он был слишком полезен Гиммлеру, чтобы его просто убрать. Но он стал слишком заметен другим – Герингу, а возможно, и самому фюреру после выставки. В аппаратной борьбе это смертный приговор иного рода. Не физическое устранение, а политическое. Ссылка – это не наказание за провал. Это карантин для непредсказуемого элемента, чья полезность перевешивается риском его самостоятельности.
Шаги раздались слева. Мужчина в обычном пальто, с поднятым от холода воротником и надвинутой на глаза шляпе остановился рядом.
– Не найдется ли закурить?
Голос был глуховатым, но знакомым. Фабер, не глядя, протянул пачку. Незнакомец взял сигарету, достал спички. Вспыхнувшее на мгновение пламя озарило худощавое, невыразительное лицо с пронзительными, всё запоминающими глазами – Мюллер.
Мюллер прикурил, затянулся, потушил спичку.
– Благодарю. Погода отвратительная.
Фабер молча кивнул. Внутри всё насторожилось. Допрос без протокола. Но кто сообщил так быстро? Рюдигер в Дахау. Из охраны Геринга? Или кто-то из свиты Гиммлера?
Они стояли, куря, глядя на темные пути.
– Удивляет оперативность? – спросил Мюллер, словно отвечая на его мысль. Его голос был ровным, бесцветным. – В аппарате много глаз. И не все они смотрят с восхищением на молодых выскочек, получивших доступ в салоны власти. Есть и такие, кто считает, что карьерный рост должен быть… более плавным. Без резких взлётов. И уж тем более – без фамильярности министров. Таких… слегка корректируют. Ставят на место. Надеюсь, вы понимаете разницу между коррекцией и ликвидацией.
Теперь Фаберу стало ясно. Это не помощь. Это констатация факта: его «подвинули» не потому, что он провалился, а потому, что он слишком преуспел и нажил завистников. Возможно, даже не напрямую в «Аненербе», а среди адъютантов или в аппарате самого Гиммлера. Мюллер здесь не как спаситель, а как наблюдатель, фиксирующий результат внутриаппаратной склоки. И проверяющий – не сломлен ли ценный актив.
– Приказ рейхсфюрера СС я принял к исполнению, – сухо сказал Фабер.
– Разумеется, – кивнул Мюллер. – Формальный повод безупречен: охрана памятника национального значения. Но между нами, как между земляками… что же там, у Геринга, произошло такого, что даже вашей полезности оказалось недостаточно? Что перевесило чашу весов в сторону… лесного уединения?
Фабер затянулся, оценивая риски. Молчать? Но Мюллер уже знает, что что-то было. Ложь будет немедленно разоблачена. Правда же… правда – это валюта. Её можно вложить.
– Министр авиации Геринг пожелал получить экспертизу своей художественной коллекции, – начал Фабер, стараясь говорить нейтрально. – Голландская школа, серебро… К сожалению, герр министр стал жертвой недобросовестных антикваров. Большая часть коллекции – искусные подделки. Кто-то из дарителей, видимо, не посчитал нужным быть щепетильным.
Мюллер не изменился в лице, но Фабер уловил едва заметное движение брови. Интерес. Не личный, а профессиональный. Компромат. Уязвимое место Геринга – его тщеславие и жажда статуса, которым нагло пренебрегли.
– Ясно, – произнес Мюллер тихо. – Не самый приятный сюрприз для хозяина. И рейхсфюрер СС был свидетелем?
– Был. Сохранял, как всегда, безупречную выдержку.
– Хм. То есть вы, сами того не желая, стали свидетелем и участником унижения второго человека в государстве в присутствии третьего. – Мюллер сделал паузу, выпуская дым колечком. – Да, этого оказалось достаточно. Слишком много света падает на того, кто стоит между двумя такими… фигурами. Особенно если этот свет обнажает неприглядные детали. Лучшее, что можно сделать с таким свидетелем – это отправить его туда, где темно и тихо. На время.
Вдалеке послышался гул и луч прожектора. Поезд.
– Надолго? – спросил Фабер, глядя на приближающийся свет.
Мюллер сделал паузу, выпуская дым колечком. Его пронзительные глаза, казалось, на секунду смягчились, в них мелькнула тень усталой понимающей улыбки, которой не коснулись губы.
– Лесное уединение… Знаете, Фабер, иногда это лучшая карта в колоде. Особенно когда за тобой следят слишком многие глаза. В столице шум, а здесь… здесь можно кое-что услышать. И кое о чём подумать. – Он снова затянулся. – Я, например, всегда ценил тишину. И людей, которые умеют её хранить.
В его словах не было ни угрозы, ни разоблачения. Было нечто похожее на предложение. Не союза – Мюллер ни с кем не вступал в союзы, – а молчаливого взаимопонимания. Он давал понять: я вижу, что твоя легенда – ширма. Мне интересно не то, что за ней, а то, насколько ты полезенмнепрямо сейчас, находясь за ней.
– Используйте время с пользой, – повторил он, тушил окурок. – Изучайте лес. И людей вокруг. Провинция – это отличная школа. Там все связи видны как на ладони. Если что-то…понадобится– знайте, что у вас есть земляк, который ценит ясный взгляд. Даже если этот взгляд иногда лучше прятать за очками учёного.
Он кивнул и растворился в тенях колонн так же незаметно, как и появился.
Поезд, шипя, остановился у платформы. Фабер взял чемодан. Слова Мюллера висели в воздухе: «появится ли потребность». Это не обещание помощи. Это констатация: ты инструмент. Сейчас тебя убрали в футляр, потому что им неудобно пользоваться. Но футляр – не могила. Инструмент могут достать снова. Если он останется острым.
Он сел в вагон. Берлин уплывал назад. Он не был уничтожен. Он был законсервирован. Отправлен на полку до лучших времён или до худших – когда его специфические навыки снова понадобятся для чьей-то грязной работы. Но эта полка – лес – давала ему то, чего не было в столице: время и относительную, призрачную свободу от ежесекундного наблюдения.
Он достал римскую монету, покрутил её в пальцах. Его война с системой не закончилась.
26 апреля 1935 года. Ганновер. Вокзал.
Поезд прибыл в Ганновер утром. Фабер сошел на платформу. Он зашел в вокзальный буфет, выпил кофе, съел бутерброд. Он не спешил. У него было время до следующего поезда. Он купил билет до Оснабрюка и газету.
Поезд на Оснабрюк был местным. Вагон был старым, с жесткими сиденьями. Пассажиров было мало: пожилая крестьянка с корзиной, торговец в помятом костюме, двое солдат вермахта. Фабер сел у окна. Он читал газету, не вникая в смысл. За окном проплывали поля, фермы, рощи. Все было зеленым и спокойным.
Оснабрюк. Полицай-президиум.
Он приехал в Оснабрюк после полудня. Город показался ему сонным и провинциальным. Он нашел здание «Der Leiter der Staatspolizeistelle Osnabrück» (Начальник управления государственной полиции Оснабрюка) – солидное каменное строение со свастикой над входом.
Внутри пахло дезинфекцией и старым деревом. За столом сидел унтер-офицер полиции в зеленой форме. Фабер положил перед ним свой SS-Dienstausweis (удостоверение СС, главный документом, покрывающим все остальное) и приказ на бланке личного штаба рейхсфюрера.
Унтер-офицер взял документы. Его лицо стало сосредоточенным. Он внимательно прочитал приказ, сверил фотографию в удостоверении с лицом Фабера. Он перечитал приказ еще раз, медленно, ища дату окончания командировки. Такой даты не было. Было слово «немедленно» и «неограниченной продолжительности». Унтер-офицер на секунду поднял глаза на Фабера, в них промелькнуло понимание. Он видел печать личного штаба рейхсфюрера. Он видел звание гауптштурмфюрера. И он видел бессрочный приказ о выезде в лес. Это была не командировка. Это было что-то другое.
Унтер-офицер резко встал.
– Одну минуту, господин гауптштурмфюрер. Сейчас будет комиссар.
Он ушел в соседнюю комнату. Через несколько минут вернулся в сопровождении полицейского чиновника в чине комиссара. Тот также изучил документы. Его отношение было вежливым, но в его взгляде читалась настороженность. Он кивнул унтер-офицеру, и тот вышел.
– Всё в порядке с документами, – сказал комиссар. – Мы зарегистрируем ваше прибытие.
Он взял экземпляр приказа Фабера, поставил на нем штамп с датой и входящим номером, расписался. Затем вернул документ.
– Вам нужно отправить телеграмму в Берлин, как указано. Это можно сделать здесь. И после этого вам нужно проследовать к месту раскопок. Без задержек.
Комиссар подошел к двери, позвал унтер-офицера.
– Фельдфебель, организуйте для гауптштурмфюрера транспорт до Энгтера. Немедленно. И сопровождение.
Унтер-офицер щелкнул каблуками и вышел. Комиссар повернулся к Фаберу.
– Это для вашего удобства и для соблюдения сроков. Чтобы вы не искали попутный транспорт. Вы должны прибыть на место сегодня.
Фабер понял. Это была не забота. Комиссар, поставив штамп о прибытии, взял на себя ответственность. Теперь он должен был обеспечить, чтобы Фабер не исчез после отметки. Машина и водитель были не услугой, а конвоем. Чтобы снять с себя ответственность за возможный побег.
– Благодарю, – сухо сказал Фабер.
Комиссар дал ему бланк телеграммы. Фабер написал краткий текст: «Гауптштурмфюрер СС Фабер прибыл к месту службы в район Оснабрюк для исполнения приказа № 42/35-ПЛС. 26.04.1935. Фабер.»
Чиновник взял бланк.
– Она будет отправлена в течение часа. Ваш водитель ждет у выхода. Удачи, господин гауптштурмфюрер.
Тон был вежливым, но в словах «к месту службы» и «удачи» звучала плохо скрытая ирония. Служба в лесу. Удачи в ссылке.
Во дворе у выхода стоял старый армейский легковой «Adler Standard 6» с солдатом за рулем.

Солдат, увидев Фабера, выскочил, взял под козырек.
– Обер-ефрейтор Шмидт, господин гауптштурмфюрер! Приказано доставить вас в Энгтер.
Фабер кивнул, бросил чемодан на заднее сиденье, сел рядом с водителем.
Машина тронулась.
Он смотрел на улочки Оснабрюка, уплывавшие назад. Приказ был исполнен. Отметка поставлена. Телеграмма уйдет. Теперь он был официально привязан к этому месту. Местные власти поспешили отправить его подальше от себя. Цепочка ответственности была выстроена безупречно.
«Адлер» выехал на дорогу, ведущую к Брамше. Впереди ждал лес, лагерь и бессрочное ожидание. Начинался новый этап. Этап изоляции
Энгтер. Окраина деревни.
«Адлер» остановился на окраине Энгтера, у того же самого места, где четыре недели назад начиналась тропа в лес. Здесь теперь была импровизированная конечная точка: пара землянок, натянутый брезентовый тент, штабель ящиков с пайками. Возле землянки, прислонившись к стене курил унтершарфюрер СС Шульц – тот самый сапер, который работал с металлоискателем. Увидев машину, он бросил окурок, лениво выпрямился и сделал под козырек, но без особой ретивости.
– Обер-ефрейтор, свободен, – кивнул Фабер водителю, который тут же развернул машину и поехал обратно в Оснабрюк – доложить об исполнении.
Шульц подошел, его лицо было усталым и загорелым.
– Господин гауптштурмфюрер. Вас ждали.
– Кто здесь старший?
– Пока что я, – пожал плечами Шульц. – Взвод охраны – десять человек. Все местного призыва. Я один из вашей берлинской команды. Меня оставили «на связи с техникой», – он кивнул на ящик под тентом, где, видимо, лежал разобранный металлоискатель.
– А где остальные? Из первой экспедиции?
– Унтершарфюрер Мюллер и солдаты отбыли в Берлин с первыми ящиками находок. Меня вот прикомандировали к охране. Временный командир поста – Oberscharführer (чин, примерно соответствующий фельдфебелю) Келер из местного охранного полка СС. Полк сейчас в лесу, на площадке. Лагерь там же.
– Есть связь?
– Рация есть. Но батареи садятся быстро. Сообщения передаем раз в сутки через нарочного в Оснабрюк. Комиссар из президиума требует ежедневный отчет о вашем… местонахождении. – Шульц произнес это без выражения, глядя куда-то поверх головы Фабера.
Стало окончательно ясно. Его не просто сослали. Его посадили под двойной замок: местный полицай-президиум фиксировал его прибытие и требовал подтверждений, а обершарфюрер Келер, кадровый охранник, вероятно, получил четкий приказ: гость из Берлина не должен покидать периметр раскопок. Научная деятельность превратилась в содержание под домашним арестом. Лесной арест.
– Покажите лагерь, – приказал Фабер.
– Сейчас, господин гауптштурмфюрер. Только вот… – Шульц поколебался. – Обершарфюрер Келер передал, что по прибытии вам надлежит ознакомиться с правилами внутреннего распорядка на памятнике. Без его визы вы не имеете права приказывать личному составу охраны. Только мне.
Фабер медленно кивнул. Так. Значит, его власть была ограничена еще на подходах. Он был «специалистом», но не командиром. Командиром был Келер. Это была продуманная система унижения и контроля. Его загнали в клетку, и даже в этой клетке у него не было свободы действий.
– Правила я изучу. Везите в лагерь.
Шульц махнул рукой одному из солдат. Тот лениво поднялся и подвел пару запряжённых в легкую повозку крепких лошадей-тяжеловозов. На такое бездорожье лучшего транспорта не было.
Дорога в лес была уже разбита и потребовалось больше часа чтобы выехать на поляну раскопа, которая неузнаваемо преобразилась.
Там, где месяц назад был заросший склон, теперь стоял настоящий военный лагерь. Две длинные брезентовые палатки для солдат, сколоченный из досок барак-столовая, уборная. В центре – большая палатка с дымящейся трубой, видимо, кухня. И отдельно, на небольшом возвышении, стояла одна офицерская палатка побольше – с деревянным полом и походной раскладушкой, видной через открытый клапан. Рядом был разбит большой брезентовый навес, под которым виднелись ящики с инструментами, лопаты, щетки. Это была уже не экспедиция, а постоянный гарнизон.
У входа в офицерскую палатку стоял высокий, сутулый обершарфюрер СС. Он курил трубку и что-то записывал в полевую книжку. Увидев тягач, он не торопясь закрыл книжку, сунул ее в карман кителя и пошел навстречу.
– Гауптштурмфюрер Фабер? – его голос был хриплым, голос курильщика. – Обершарфюрер Август Келер. Комендант охраны памятника.
Они обменялись формальным рукопожатием. Рука Келера была твердой, шершавой. Его лицо было изрезано глубокими морщинами, глаза смотрели спокойно и внимательно, без подобострастия. Взгляд опытного унтера, видавшего всяких столичных начальников и знавшего, что его сила – здесь, на этой земле, а их власть – где-то далеко.
– Вас ждали. Ваша палатка готова. – Келер кивнул на ту самую палатку с раскладушкой. – Правила внутреннего распорядка на столе. Ознакомьтесь. Выезд за пределы огороженного периметра – только с моего разрешения или по служебной необходимости с моим сопровождением. Распорядок дня – общий. Подъем в шесть, отбой в десять. Связь с внешним миром – через меня. Понятно?
Фабер смотрел на него. Этот человек не был врагом. Он был просто винтиком, получившим конкретную инструкцию: «Ссыльного специалиста держать в рамках». И он выполнял ее без злобы, но и без поблажек.
– Понятно, обершарфюрер. Но я здесь для работы. Для раскопок.
– Работать можете. В пределах периметра. С солдатами охраны – только через меня. Со специалистом Шульцем – как договоритесь. – Келер вынул изо рта трубку, постучал ею о каблук сапога. – Обед через час. Вечером – инструктаж по технике безопасности в лесу. Змеи, кабаны, болота. Местность опасная.
Он развернулся и пошел обратно к своей палатке, дав понять, что разговор окончен.
Фабер остался стоять рядом со своим чемоданом, который выгрузил Шульц. Он оглядел лагерь. Колючая проволока по периметру. Вышка с часовым. Солдаты косились на него с любопытством. И обершарфюрер Келер, который уже сидел на раскладном стуле у своей палатки и снова что-то писал в книжку. Надпись «комендант» была не просто словом.
Он вошел в свою палатку. На походном столе лежала папка с машинописным текстом: «ВРЕМЕННЫЙ РАСПОРЯДОК ДЛЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА И СПЕЦИАЛИСТОВ НА ОБЪЕКТЕ «АРМИНИЙ»». Объект получил кодовое имя. Его тюрьма стала секретным объектом.
Он сел на раскладушку. Она скрипнула. Через открытый клапан палатки был виден кусок неба над кронами сосен. Свободное небо. И колючая проволока внизу, у кромки леса.
Первый этап ссылки был завершен. Он прибыл. Его зарегистрировали. Его поместили в клетку. Теперь начинался второй этап: жизнь в этой клетке.
Глава 20. Между молотом и наковальней
26–29 апреля 1935 года. Лагерь «Арминий».
Внешне оберштурмфюрер – теперь гауптштурмфюрер – Фабер ничего не делал.
Он отказывался от предложений Шульца «пройтись с прибором», отмахивался от формальных запросов Келера составить «план исследовательских работ». Он был офицером, и он мог себе это позволить. Его занятием стали бесконечные прогулки по строго отмеренному периметру: от ворот лагеря до вышки на северо-востоке, вдоль колючей проволоки, мимо бруствера раскопа, к штабелю ящиков и обратно. Десять кругов утром, десять после полудня. Солдаты, глядя на него, перешёптывались: «Столичный. Сошёл с ума от скуки». Келер наблюдал за ним исподлобья, как лесник за странным зверем в загоне, и курил свою вечную трубку.
Внутри Фабера бушевала тихая, бешеная работа. Его сознание, лишённое внешних стимулов, обратилось вспять и начало пожирать себя. Оно зациклилось на одном вечере, раскручивая его, как киноплёнку, снова и снова, в поисках роковой развилки.
Кадр первый: каминный зал. Он видит себя, стоящего на ковре. Геринг спрашивает о картинах. И здесь плёнка останавливалась. Версия А (осторожная): «Герр министр, это тонкая работа. Мне потребуется больше времени и доступ к каталогам, чтобы подтвердить её происхождение». Ложь, но безопасная ложь. Он выигрывал время, оставался нейтральным. Версия Б (подхалимская): «Великолепная коллекция, герр министр,! Она говорит о вашем безупречном вкусе!» Быть может, это купило бы ему милость, но вызвало бы презрение Гиммлера.
Он мысленно выбирал Версию А. И плёнка катилась дальше, к неизбежному. Кадр второй: тот же зал, позже. Геринг мрачен, унижен. И он, Фабер, открывает рот. Из него выходят слова о радарах. Это был момент, где плёнку можно было разорвать. Версия Молчания: Просто покачать головой, сказать: «Нет, герр министр, больше ничего». И всё. Его бы сочли полезным экспертом, немного занудой, и отправили бы восвояси. Он остался бы в игре Гиммлера.
Но нет. Он сказал. И теперь в голове звучал не его голос, а холодная констатация Мюллера на вокзале: «Слишком много света падает на того, кто стоит между двумя такими фигурами». Он сам себя осветил прожектором. Кадр третий: взгляд Гиммлера. Этот кадр был статичен. Круглые стёкла пенсне. Не улыбка, а её муляж. И глаза – холодные, оценивающие, пересчитывающие. В этих глазах он читал приговор: «Ты не просто инструмент. Ты инструмент, который может работать на другого хозяина. И ты показал, что готов это сделать. Значит, ты опасен».
Цикл завершался. Начинался снова. Картины. Радар. Взгляд. Это был ад его собственного изготовления – ад бесконечного, бесплодного анализа. Он изнывал не от безделья, а от невозможности переиграть уже сыгранную партию, в которой он поставил на кон всё и проиграл в один ход.
К утру 30 апреля его форма была мята, под глазами – фиолетовые тени. Он забыл, когда брился в последний раз.
30 апреля. Вечер.
Келер, проходя мимо, бросил вполголоса:
– Завтра Tag der nationalen Arbeit (День национального труда)**, – сказал Келер. – Вся Германия слушает фюрера.
– Да, – сухо ответил Фабер. – Праздник труда.
Вечером, отказавшись от ужина, он заперся в палатке. В углу, в ящике из-под патронов, стояли непочатые бутылки шнапса – «сувенир» от Шульца. Фабер взял в руки одну. Стекло было холодным. Он открутил пробку. Резкий, сивушный запах ударил в нос.
Он пил не для забвения. Это был эксперимент. Логическое продолжение анализа. Что если изменить химию мозга? Разорвёт ли этот порочный круг? Смоет ли мысленный шум?
Первый глоток обжёг горло. Второй – принёс тяжёлую волну тепла. Но мысли не исчезли. Они стали тяжелее, липче, обрели физический вес. Тоска не кричала – она разлилась по жилам, как расплавленный свинец.
Он сидел на краю койки, бутылка между колен, и смотрел в полог палатки. Из памяти, сквозь алкогольную муть, всплывали слова песни Rammstein, заученные как-то наизусть в той благополучной жизни будущего. Внезапно его губы зашевелились, он запел.
Ich werde in die Tannen gehn (Я пойду в хвойную чащу, )
dahin wo ich sie zuletzt gesehn (Туда, где видел её в последний раз.)
Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land (Но вечер накидывает покрывало сумерек на лес)
und auf die Wege hinterm Waldesrand (И на тропинки в его окрестностях.)
Und der Wald der steht so schwarz und leer (А лес стоит такой чёрный и пустой.)
weh mir oh weh, und die Vögel singen nicht mehr (Мне больно, о, больно, и птицы больше не поют.)
Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich (Я не могу быть без тебя, без тебя.)
mit dir bin ich auch allein, ohne dich (С тобой я тоже один, без тебя.)
Ohne dich zahl ich die Stunden, ohne dich (Когда ты не рядом, я считаю часы, без тебя. )
mit dir stehen die Sekunden, Lohnen nicht… (Когда ты со мной, время останавливается, не вознаграждая…)
Он допил бутылку, открыл вторую, залпом выпил её, отбросил в сторону. Бутылка с глухим стуком упала на дощатый пол. Мысленный цикл, заглушенный песней остановился наконец, сменившись наконец пустотой в голове. Он повалился на койку в сапогах. Последним ощущением было всепроникающее, унизительное чувство грязи. Не физической – душевной. Интеллектуальной.
«…Ich bin der Geist, der stets verneint!» – прошипел он хрипло. Дух, всегда отрицающий. Мефистофель. И кто же здесь Фауст, продавший душу? Он продал её не чёрту, а системе. И получил не могущество, а ссылку в лес.
«…Und was der ganzen Menschheit zugeteilt ist, will ich in meinem innern Selbst genießen» – бормотал он дальнее, сбиваясь. «И что разделено между всем человечеством, я в моём внутреннем "я" хочу пережить». Ирония была убийственной. Его «внутреннее я» было теперь заперто в этом лесу, в этом мундире, с этой бутылкой.
1 мая. Утро.
Он проснулся от резкой, сухой боли в висках и спазма в желудке. Во рту был вкус медной проволоки и позора. Солнечный луч, пробивавшийся через щель в пологе, резал глаза.
Он лежал и слушал, как лагерь просыпается: окрики унтер-офицера, звон котелков, шаги. Голос из репродуктора на столбе – геббельсовская трескотня о единстве нации и воле фюрера.
И тогда, сквозь тошноту и боль, к нему пришла холодная, кристальная ясность. Она была похожа на решение математической задачи.
Выводы:
Алкоголь – депрессант. Он угнетает волю, затуманивает разум. Это ресурс, который система использует, чтобы держать миллионы в покорности. Он не может себе этого позволить. Это оружие против него самого. Анализ прошлого бесплоден. Нужен анализ настоящего. Контроль над тем, что можно контролировать. Чтобы выжить и остаться собой в этом аду, нужно построить свой собственный, меньший ад. Ад абсолютного порядка. Это будет его крепость.
Он поднялся. Движения были медленными, но точными. Первым делом он вынес бутылку и швырнул её далеко в кусты за палаткой.
Затем он взял бритвенный прибор. Вода в тазу была ледяной. Он намылил лицо и начал бриться, глядя в крошечное стальное зеркальце. Лезвие скользило по коже, снимая щетину и слой прошлой недели. С каждым движением проступало новое, жёсткое, собранное лицо.
Он умылся, вытерся насухо. Надел свежее бельё. Чистую рубашку. Тщательно, слой за слоем, нанёс ваксу на сапоги и начал полировать их тряпицей до зеркального, агрессивного блеска.
Он прицепил новые погоны гауптштурмфюрера, поправил воротник. Осмотрел себя. Безупречно.
Когда он вышел из палатки, Шульц, куривший у костра, замер с папиросой в пальцах. Даже Келер, проходивший мимо, на мгновение остановил взгляд. Это был уже не тот поникший, затравленный интеллигент. Это был офицер СС, выточенный из льда и стали.
– Обершарфюрер Келер, – голос Фабера был тихим, ровным, без единой ноты вчерашней хрипоты. – С сегодняшнего дня я приступаю к систематической каталогизации археологического материала. Мне потребуется стол, два ящика для сортировки, освещение после отбоя. И ежедневный отчёт о состоянии периметра охраны. Для моей работы по топографии местности.
Келер медленно кивнул, скрывая удивление. Это было не просьбой, а констатацией фактов.
– Будет исполнено, господин гауптштурмфюрер.
Фабер прошёл к навесу, где лежали находки. Он взял первый попавшийся обломок – ржавый кусок железа, возможно, пряжка. Вынул блокнот и карандаш. Под датой «1 мая 1935» он записал: *«Объект № 1. Найден в квадрате G-7. Вес: приблизительно 42 грамма. Размеры…»*
Его мир сузился до размеров стола, до граней обломка, до чёткости строк в блокноте. Каждая запись, каждый замер, каждый вычищенный до блеска сапог был кирпичиком в стене его новой, добровольной тюрьмы – тюрьмы педантичного, наблюдательного, безупречного порядка. Это был его способ не сойти с ума. Его новая, единственно возможная форма сопротивления.
Июль 1935 года. Рейхсканцелярия, Берлин.
Кабинет фюрера на Вильгельмштрассе был просторным, но воздух в нём, несмотря на открытое окно, казался спёртым и тяжёлым, как перед грозой. Четыре человека сидели за полированным дубовым столом. Адольф Гитлер откинулся в кресле, его руки с выдавленными белыми костяшками пальцев лежали на подлокотниках. Напротив него, как на смотру, сидели Геббельс, Геринг и Гиммлер. На столе, строго перед рейхсминистром пропаганды, лежали разложенные веером сметы, графики и финансовые отчёты с алыми грифами «Geheime Reichssache» (Секретное дело империи).
– Эти цифры – не планирование, а капитуляция, – голос Гитлера был приглушённым, но в нём слышалось шипение стали по стеклу. Он ткнул указательным пальцем в верхний лист. – Олимпийские игры через год. Весь мир приедет в Берлин. Они должны увидеть мощь, расцвет, триумф воли. А что они увидят? Экономию на гирляндах и фанерные колонны? Я хочу размаха! Величия! (Schwung! Größe!) Мир должен ахнуть! Или вы думаете, я позволю, чтобы нас считали нищими провинциалами?
Геббельс нервно поправил пенсне. Его худые пальцы быстро перебирали бумаги.
– Мой фюрер, бюджеты всех ведомств урезаны в пользу перевооружения. Финансовое управление рейха…
– Управление должно найти средства! – Гитлер перебил его, не повышая тона. – Или вы хотите, чтобы «Фёлькишер беобахтер» писал о празднике в духе благотворительного базара? Следующее. Что у нас по люфтваффе?
Все взгляды, словно по команде, обратились к Герингу. Тот тяжело вздохнул. Его мундир с золотыми нашивками туго обтягивал грудь.
– Каждый рейхсмарк, каждый килограмм стали, каждый литр горючего идут на вермахт. Отнимать у армии – это подпиливать сук, на котором сидим мы все. Мы готовимся к будущим победам, а не к карнавалу.
Он произнёс это с видом солдафона, с честью несущего свой крест. В кабинете возникла пауза, сидящие обдумывали слова Геринга, пытаясь понять, к чему можно было бы придраться. Пока таких моментов не было. Люфтваффе было сейчас любимой игрушкой Гитлера и траты на него были в приоритете перед всеми другими программами. Деньги на люфтваффе, как и на всё перевооружение, Гитлер изыскал через комбинацию финансовых афер, скрытого финансирования, прямого мошенничества и тотального контроля над экономикой. Самым главным и секретным инструментом финансирования были MEFO-векселя.*** Это позволило создать люфтваффе буквально «из воздуха». Это была гениальная (в криминальном смысле) схема, разработанная министром экономики Ялмаром Шахтом.
Геринг медленно перевёл взгляд на Гиммлера, сидевшего с каменным, бесстрастным лицом. Воспоминание о том вечере в Каринхале – об унизительно выставленных на показ подделках, о холодных, точных формулировках того самого археолога – было свежо, как синяк под глазом. Сейчас представился идеальный случай.
– Хотя, конечно, – Геринг заговорил задумчиво, растягивая слова, – существуют и иные… скажем так, статьи расходов. Не столь жизненно важные для обороны рейха. Но весьма, весьма затратные. Наука, например. Разного рода… изыскания.
Гитлер нахмурился, его брови сошлись у переносицы.
– Какие именно изыскания? Говорите прямо.