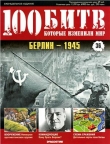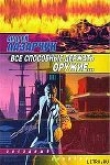Текст книги "Мой фюрер, вы — шудра (СИ)"
Автор книги: Салават Булякаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 28 страниц)
Глава 28. Дантист
Середина октября 1935 г., Берлин, «Аненербе».
Осенняя погода баловала. Воздух был прозрачным и холодным, пахнущим опавшей листвой и дымом из тысяч печных труб. В одну из таких тихих недель доктор Альбрехт Рюдигер, нынешний начальник отдела историко-топографического анализа «Аненербе», отправился на семейный ужин к своему дяде в Грюневальд.
Дядя, коммерсант средней руки, вёл дела с разными людьми. В тот вечер за столом, кроме родни, сидело семейство Айзенберг – почтенный пожилой господин, его жена и их сын, молодой человек лет тридцати. Звали его Юлиус. Он был дантистом, имел собственную небольшую практику в Шёнеберге. Разговор за столом был вынужденно светским, обходил политику, вращался вокруг погоды, цен и городских новостей.
Рюдигер на этом ужине чувствовал себя слегка неуютно. Он в Аненербе собирал данные о неполноценности этих людей и теперь сидел с ними за одним столом и вынужден был им улыбаться. Он пил суп и слушал. Разговор как-то сам собой свернул на городские неудобства – ремонт дорог, шум. И кто-то упомянул новые проверки в метро, эти странные приборы с катушками.
– Да, эти Ding an sich… металлоискатели, – негромко, но с отчётливой горечью произнёс Юлиус Айзенберг. Он играл вилкой, не глядя на собеседников. – Изобретение доктора Фабера. Чудо новой Германии. Теперь любой унтерштурмфюрер может поковыряться в твоём кармане, будто ты мусорная куча. Прогресс.
Имя прозвучало, как щелчок хлыста. Рюдигер вздрогнул, но не подал вида. Он медленно положил ложку.
После возвращения из Дахау Рюдигер панически боялся, что его снова заменят Фабером, вернувшимся в «Общество» после продолжительной командировки, и Альбрехта отправят обратно в Дахау. Альбрехт увидел шанс навсегда решить «проблему»:
– Вы знакомы с работами доктора Фабера? – спросил он вежливо, делая вид, что просто поддерживает беседу.
Юлиус взглянул на него. Взгляд был умным, усталым и полным скрытой ярости.
– Знаком ли я? – он коротко, беззвучно усмехнулся. – Его имя не сходит со страниц газет. «Гений германской науки», «возвращающий народу награбленное». Я читаю. Каждый день. Это… фабрикация. Циничная и опасная. Он не учёный. Он инженер ненависти. Его прибор – это не инструмент для поиска истории. Это отмычка для взлома частной жизни. И все аплодируют.
Отец Юлиуса, господин Айзенберг, тихо кашлянул, бросая сыну предостерегающий взгляд. Но молодой дантист уже не мог остановиться. Унижения, страх, нарастающее чувство ловушки вырвались наружу под маской светской беседы.
– Он даёт им оправдание, понимаете? – продолжал он, уже обращаясь скорее к самому себе. – Раньше они просто ненавидели. Теперь у них есть «научное обоснование». И прибор. Они могут тыкать этой штукой в живот твоей матери и говорить, что ищут «спрятанное золото». А он, этот Фабер, сидит в своём тёплом кабинете и рисует карты для новых грабежей. Гадина. Карьеристская гадина в мундире.
Рюдигер слушал, не перебивая. Внутри у него что-то холодное и тяжёлое сдвинулось с места. Он не испытывал ненависти к евреям – он презирал их, как нечто несущественное, помеху на пути. Но ненависть этого молодого человека к Фаберу была другой. Она была личной, острой, выстраданной. И абсолютно искренней.
Он запомнил это имя – Юлиус Айзенберг. И его профессию. После ужина, прощаясь, Рюдигер, якобы случайно, поинтересовался, в каком районе находится практика молодого коллеги. «Ах, на Груневальдштрассе, совсем недалеко отсюда», – с гордостью ответил старый Айзенберг, радуясь, что разговор наконец сошёл на нейтральную тему.
Через три дня доктор Рюдигер записался на приём к дантисту Юлиусу Айзенбергу. Он пожаловался на лёгкую боль в коренном зубе. Приём прошёл быстро и профессионально. Юлиус был холодно-вежлив, но в его движениях чувствовалась скованность рядом с клиентом, чья манера говорить и держаться выдавала в нём человека из системы.
Осмотр ничего серьёзного не выявил. Рюдигер заплатил, поблагодарил и, пожимая на прощание руку, «забыл» свой портфель из тёмной кожи на стуле в углу кабинета. Небольшой, добротный портфель. На его крышке, чуть ниже замка, был аккуратно вмонтирован небольшой металлический шильдик с орлом, держащим венок со свастикой – стандартная эмблема для аксессуаров высокопоставленных чиновников НСДАП или СС.
Рюдигер вышел на улицу и медленно пошёл. Его лицо было бесстрастным.
Если Фабер исчезнет, его архив, его связи, его статус «гения» освободятся. Кто, как не он, Рюдигер, самый преданный и понимающий, сможет их занять? Система любит замены. Нужно лишь помочь ей сделать выбор.
Юлиус Айзенберг обнаружил портфель через полчаса, уже закрывая практику. Он поднял его. Вес был невелик. Он собирался отнести находку в полицию, но его взгляд упал на шильдик. Орёл. Свастика. Рука сама сжала кожаную ручку. Вместо того чтобы отнести портфель, он запер его в нижний ящик своего стола. Сердце стучало часто и глухо.
Весь вечер портфель пролежал там. За портфелем не пришли. Юлиус чувствовал его присутствие, как чувствуют неразорвавшуюся бомбу. Вечером, уже в темноте, он достал его. Поставил на операционный стол под яркую лампу. Долго смотрел. Потом щёлкнул замки.
Внутри, среди газет, лежала папка. На первом листе документа из папки – невинная служебная пометка: «*Фабер, Й. Маршрут для согласования с транспортным отделом: ул. Вильмерсдорферштрассе, 17 – > Дармштеттерштрассе, 10. Время выезда 8:30. Возвращение пешком через Унтер-ден-Линден ~18:00 (при хорошей погоде). Копия – в дело.*» И подпись/печать отдела. Среди листков – фотография Фабера. Юлиус Айзенберг сел. Руки у него дрожали. Это была провокация. Грубая, явная. Его пытались втянуть в какую-то игру. Или подставить. Он должен был немедленно отнести это в полицию.
Он взял верхнюю газету. На второй полосе была статья о «блестящем успехе операции „Возвращение“». И снова упоминалось имя Фабера как создателя «революционного прибора». Рядом – карикатура: тощий, крючконосый человек с раздутым животом, из которого сыплются монеты, и фигура солдата СС с прибором, похожим на ручной миноискатель.
Юлиус отложил газету. Он снова посмотрел на фотографию. На это спокойное, сосредоточенное лицо человека, который, не подозревая, дал своим изобретением инструмент для ежедневного унижения таких, как он, Юлиус. Этот человек спокойно ходил по тем же улицам, дышал тем же воздухом. И чувствовал себя в безопасности.
Мысль возникла не сразу. Она зрела всю ночь, пока он сидел в тёмном кабинете, глядя на смутный квадрат окна. Это была не мысль даже. Это было физическое ощущение – ком в горле, сжатые кулаки, прилив горькой, безнадёжной ярости. Они сломали его отца, заставив того продать долю в бизнесе за гроши. Они запугивали его мать. Они каждый день напоминали ему, что он – человек второго сорта. И этот Фабер был одним из тех, кто выстроил для этой машины научный фундамент. Он был умнее и страшнее какого-нибудь тупого штурмовика.
К утру решение было принято. Оно было безумным, самоубийственным, но оно принесло странное, ледяное спокойствие.
Он не пошёл в полицию. Он аккуратно вынул из папки фотографию и листок с данными. Зажёг газовую горелку и один за другим сжёг бумаги над металлическим лотком, растирая пепел пальцами в пыль. Потом взял скальпель и с большим трудом, оставляя царапины на дорогой коже, содрал металлический шильдик с портфеля. Сам портфель он завернул в старую газету. Под утро, когда город только начинал просыпаться, он вышел из дома и прошёл несколько кварталов. Возле одного из помойных баков в бедном районе, где рано утром копошились старьёвщики, он бросил свёрток. Кто-нибудь подберёт, продаст или будет использовать. Следы терялись.
Пистолет «Вальтер РР» он купил на чёрном рынке два года назад, после первых погромов, для защиты семьи. Он лежал на антресоли, завёрнутый в промасленную тряпку. Юлиус разобрал его, почистил, зарядил обойму.
Он стал следить. Не каждый день, чтобы не привлекать внимания. Он узнал, что часто, особенно в хорошую погоду, Фабер возвращался пешком, в сопровождении женщины в форме СС. Маршрут был почти неизменным: по Унтер-ден-Линден к Бранденбургским воротам, а потом либо налево, к Тиргартену, либо направо, к дому на Вильмерсдорферштрассе.
Метро было слишком рискованно – эти проверки… Юлиус использовал велосипед. Это было быстро, маневренно и никому не интересно. Пистолет тяжело лежал во внутреннем кармане его добротного осеннего пальто.
24 октября 1935 года. Берлин. Унтер-ден-Линден.
У Йоганна Фабера действительно было хорошее настроение. После недель кропотливой работы в архивах, после ощущения, что он тонет в паутине собственной лжи, его осенило. Не глобальный план по спасению человечества, нет. Маленькая, почти микроскопическая идея. Направление мысли. Как через манипуляцию историческими картами и маршрутами миграций можно не укреплять миф о чистоте, а, наоборот, незаметно закладывать в него идею постоянного обмена, смешения, взаимодействия. Это была тонкая, почти ювелирная работа по саботированию фундамента изнутри. Он чувствовал призрачный вкус надежды. Впервые за долгие месяцы.
Выйдя из здания Имперской библиотеки, он предложил Хельге фон Штайн: – Прогуляемся? Пешком. До Бранденбургских ворот. Воздух хороший.
Хельга посмотрела на него с лёгким удивлением, но кивнула. Она заняла свою привычную позицию – чуть сзади и сбоку.
Они шли по широкой, почти пустынной в этот час аллее. Вечерние тени уже ложились на липовые кроны. Фабер говорил. Не о работе, не о картах. Он говорил о Бранденбургских воротах. О квадриге, об этой богине Победы на колеснице, которая когда-то смотрела в сторону города, а Наполеон заставил её смотреть на Париж, и как потом она вернулась.
– Она видела всё, – сказал он, подходя к песчаниковым колоссам. Они остановились, запрокинув головы. Лучи заходящего солнца золотили скульптуру. – Империи, республики, марши, тишину. Она – просто свидетель. Каменный свидетель. Идеи приходят и уходят, а она – остаётся.
Он говорил это с какой-то странной, почти личной грустью и надеждой одновременно. Хельга молча слушала, глядя то на квадригу, то на его профиль.
Юлиус Айзенберг увидел их за сто метров. Они стояли, повернувшись спиной к нему, у самого основания правой колоннады. Идеальная мишень. Тихая, почти безлюдная площадка. Сердце заколотилось, в висках застучала кровь. Он медленно подъехал ближе, чтобы не привлекать внимания так же медленно, слез с велосипеда и прислонил его к фонарному столбу. Рука сама полезла во внутренний карман, нащупала рукоять. Холодную, родную. Непривычная прогулка пешком, отклонение от маршрута «работа-дом», и создала ту самую редкую возможность для выстрела.
Он сделал несколько шагов вперёд. Пятнадцать метров. Десять. Пять. Никто не смотрел в его сторону. Фабер жестикулировал, что-то объясняя женщине. Он был живым, реальным. Не газетным демоном, а человеком в шинели, который смеялся.
Три метра. Юлиус выхватил пистолет. Не было ненависти в этот миг. Был только леденящий, абсолютный вакуум в голове и одна команда: сделать. Он прицелился в спину, в область чуть ниже левой лопатки. Пальцы сами нажали на спуск.
Грохот выстрела, гулкий и резкий, разорвал вечерний покой. Фабер дёрнулся, как от сильного толчка в спину. На его шинели мгновенно расползлось тёмное, мокрое пятно. Он не закричал. Лишь издал короткий, удивлённый выдох. Его ноги подкосились, и он тяжело рухнул на мостовую, лицом к холодному камню.
Он не потерял сознание сразу. Лёжа на боку, он увидел мелькающие чёрные сапоги Хельги. Услышал второй выстрел, потом третий, четвёртый – частые, меткие, без пауз. Увидел, как в нескольких метрах от него падает тёмная фигура в пальто рядом с велосипедом.
Потом темнота накрыла его с головой.
Хельга фон Штайн стояла, расставив ноги, двумя руками сжимая свой служебный «Вальтер». Дым струйкой вился из дула. Её лицо было белым, как бумага, но абсолютно спокойным. Она не сводила глаз с тела молодого человека, которое уже не двигалось. Потом, не опуская оружия, она резким движением головы оглядела площадь. На ней уже не было ни души – первые выстрелы разогнали редких прохожих. Только вдалеке, у начала бульвара, показались бегущие фигуры в полицейской форме.
Она наклонилась к Фаберу. Его глаза были закрыты, дыхание поверхностное и хриплое. Кровь продолжала растекаться по камню. Она расстегнула его шинель и китель, нащупала место ранения, с силой прижала к нему сложенный платок из собственного кармана.
– Живи, – произнесла она тихо, но чётко, в самое его ухо. – Ты должен жить. Это приказ.
Полиция прибыла через две минуты. Всё было ясно как день: попытка покушения на офицера СС, офицер тяжело ранен, его сопровождающая ликвидировала нападавшего. На месте стреляли только двое: убитый еврей-дантист и обершарфюрер СС фон Штайн. Велосипед, пистолет «Вальтер РР» с одной стреляной гильзой в патроннике, документы на имя Юлиуса Айзенберга. Обычное дело.
Но вот место покушения… Бранденбургские ворота. Символ. Йозеф Геббельс, когда ему доложили, пришёл в неподдельный восторг. Это было лучше любой инсценировки. Еврей стреляет в творца «национального прибора» у самого сердца имперской Германии. Поэтично. Идеально для завтрашних газет. «Последний выпад отступающего врага», «молния возмездия истинных патриотов». Он уже видел заголовки. Состояние Фабера его не волновало: выживет – ну что ж, повезло, не выживет – ещё лучше, будет мучеником. Символом.
Фабер очнулся через сутки. Сперва было только белое – потолок, стены, запах карболки и эфира. Потом пришла боль – тупая, разлитая по всей левой половине груди и спины. Он попытался пошевельнуться и услышал свой собственный стон.
В дверном проёме появилась фигура в полицейской форме. Увидев открытые глаза Фабера, полицейский молча развернулся и исчез.
Минут через двадцать в палату вошёл Генрих Мюллер. Он был в гражданском – тёмном костюме и пальто, но его осанка и взгляд выдавали в нём военного. Он подошёл к кровати, бегло оглядел Фабера и сел на единственный стул.
– Ну и делаете вы нам работу, гауптштурмфюрер, – произнёс он без предисловий, голосом ровным, без упрёка, но и без сочувствия. – Легко отделались. Пуля прошла навылет, чуть ниже лёгкого, не задев ничего жизненно важного. Врачи говорят, через месяц будете как новенький. Если, конечно, не заразитесь чем-нибудь в этой больнице.
Фабер молчал. Ему было тяжело говорить.
– Нападавший – Юлиус Айзенберг, зубной врач. Еврей, разумеется, – Мюллер достал блокнот. – Мотивы очевидны. Вы – символ. Символ новой Германии, которая возвращает своё. Он – представитель старого мира, который теряет всё. Примитивно, но объяснимо. Ваша спутница действовала чётко и правильно. Она уже дала показания.
Мюллер посмотрел на Фабера изучающе.
– Но есть нюансы. Пистолет Айзенберга. Стрелял ли он из него раньше? Нет. Откуда у него данные о ваших маршрутах? Неизвестно. Он действовал в одиночку, это ясно. Но… слишком чисто. Слишком символично. Как будто ему подсказали. Идею. Возможность.
Он сделал паузу, давая Фаберу понять.
– Ваш конфликт с доктором Рюдигером из «Аненербе» известен. Его неделя в Дахау тоже. После этого он стал очень… осторожен. И очень испуган. Слишком испуган. Вы не думали, что страх может принимать странные формы? Например, желание устранить конкурента, даже того, кто уже в опале, руками третьих лиц? Есть такие предположения. Без доказательств.
Фабер закрыл глаза. В голове пронеслись обрывки: Рюдигер в кабинете, его доносы, его ненависть, замаскированная под научный спор.
– Нет… доказательств, – с трудом выговорил он.
– Разумеется, нет, – согласился Мюллер. – Сам дантист мёртв. Его семья уже арестована по подозрению в соучастии, но они ничего не знают. Дело будет закрыто как акт индивидуального политического террора. Геббельс уже поёт дифирамбы вашему героизму и коварству врага. Искать сложные схемы никто не будет. Система не любит лишних вопросов к своим исправным шестерёнкам.
Мюллер встал.
– Но я-то задаюсь вопросами. И вам советую быть осторожнее. Вы нужны системе живым. Пока вы полезны. Но ваши личные враги… они могут быть идиотами. А идиотизм в наше время – самое опасное оружие. Выздоравливайте. Обершарфюрер фон Штайн отстранена от обязанностей вашего сопровождения на время расследования. Её заменят. Думаю, новая нянька будет не такой… приятной глазу.
Он кивнул и вышел, оставив Фабера наедине с белой больничной тишиной и медленно доходящей до сознания мыслью:
Шестерёнка. Рюдигер был шестерёнкой, которую система подточила в Дахау и поставила на его место. Айзенберг был песчинкой, которую Рюдигер мог бросить в механизм, надеясь, что его заклинит. И он, Фабер, был другой шестерёнкой, которую песчинка едва не сломала. А система… система лишь слегка притормозила, перемолола песчинку в пыль и, даже не почистившись, пошла дальше, получив на выходе свежий миф для Геббельса. Ничего личного. Только механика.
Хельгу фон Штайн отстранили от сопровождения Фабера и перевели на канцелярскую работу в архив. Получив приказ, она молча вышла из управления, дошла до пустующего служебного туалета, заперлась в кабинке и прижала кулаки ко рту. Из её горла вырвался сдавленный, бесшумный рёв. Не из-за Фабера. Из-за шанса. Её единственный, цинично выверенный шанс на будущее – ребёнок, пособие, положение – был отобран этой пулей. Её тело, её расчёт, её жертвенная решимость оказались ничем. Теперь она снова была никем. Просто SS-Helferin, чья карьера упёрлась в потолок, девушке выше не прыгнуть, как бы она не старалась, а род – в нищету. Она стиснула зубы до боли, заглушая рёв, и, уткнувшись лбом в холодную кафельную стенку, сделала несколько глубоких, резких вдохов. Потом выпрямилась, поправила причёску и вышла в коридор с каменным, ничего не выражающим лицом.
За окном медленно смеркалось. Где-то в типографиях уже стучали ротационные машины, печатая завтрашние газеты с историей о покушении у Бранденбургских ворот.
Глава 29. Blut und Boden
Ноябрь-декабрь 1935 г., Госпиталь и далее Ванзее.
Больница была белой, тихой и пахла хлоркой. Фабер провёл в ней четыре недели. Первые дни прошли в тумане боли и эфира. Потом боль стала тупой и постоянной, как фоновая музыка. Врачи, учтивые и холодные, приходили дважды в день, меняли повязки, щупали пульс, говорили «заживает хорошо». Ничего лишнего.
Его навещали только по служебной необходимости. Приходил адъютант Зиверса, взял подписанные бумаги. Раз позвонил Мюллер, спросил, не припоминает ли он ещё каких-нибудь деталей о своём стрелке. Фабер сказал, что нет. Мюллер бросил короткое «ясно» и положил трубку. Никто больше не спрашивал.
Его выписали в последних числах ноября. Не домой на Вильмерсдорферштрассе, а обратно в особняк на Ванзее. Оберштурмфюрер Фоглер, встретивший его на ступенях, пояснил ровным голосом: «Приказано обеспечить вам полный покой и надлежащий уход до полного восстановления трудоспособности. Городская среда в вашем состоянии – излишний риск».
Иными словами – ссылка. Та же золотая клетка, но теперь с решёткой из медицинских предписаний.
Баронесса Магдалена фон Штайн встретила его в прихожей. Она была в тёмном шерстяном платье, её волосы убраны в строгый, но изящный узел. На лице – та же вежливая, ничего не выражающая маска.
– Добро пожаловать обратно, гауптштурмфюрер, – сказала она, слегка склонив голову. – Мы рады, что вы идёте на поправку. Для вас приготовлены комнаты на втором этаже, с видом на парк. Там тише.
Она говорила «мы», но в особняке, кроме неё, Фоглера и пары приходящих слуг, никого не было. Ни нового надзирателя, ни новой «няньки». Отсутствие Хельги в роли его тени поначалу резало слух. Её не было за завтраком, она не проверяла его портфель, не сопровождала в вынужденных коротких прогулках по заснеженному парку. Вместо неё появилась пожилая экономка, фрау Хофман, которая приносила еду на подносе и будила его для перевязок.
Сама баронесса теперь держалась иначе. Она не играла по вечерам на пианино. Не вела с ним тех странных, отстранённых бесед о прошлом. Она появлялась только для того, чтобы справиться о его самочувствии или передать пришедшую на его имя почту – официальные открытки от коллег по «Аненербе», бюллетени общества. Её любезность была безупречной, как новая ваза на камине: красивой, холодной и абсолютно пустой. Казалось, она выполняла обязанность, не более того. Её интерес к нему как к «генетическому материалу» испарился вместе с её служебными полномочиями. Теперь он был просто раненым офицером на её попечении – обузой, вписанной в график её дня.
Однажды, когда фрау Хофман меняла ему повязку, он не выдержал и спросил:
– А обершарфюрер фон Штайн… её перевели?
Экономка пожала плечами, не поднимая глаз от бинтов.
– Не в курсе, герр гауптштурмфюрер. Баронесса не обсуждает со мной служебные перемещения.
Фоглер, которого он встретил в библиотеке, ответил суше:
– Обершарфюрер фон Штайн отстранена от обязанностей по сопровождению. Расследование инцидента завершено, её действия признаны правильными, но… решили, что вам требуется иной режим. Пока вы здесь, вашу безопасность обеспечиваю я.
И всё. Ни замены, ни объяснений. Просто вакуум. Фабер ловил себя на мысли, что скучает по её молчаливому присутствию. По её умению быть невидимой и всё видеть. По той чудовищной, но честной сделке, которая хоть как-то структурировала этот абсурд. Теперь был только распорядок: завтрак, перевязка, прогулка под присмотром Фоглера, обед, чтение, ужин, сон. Дни текли медленно и одинаково, как вода по стеклу.
Единственным посетителем за всё время стал в середине декабря Вольфрам Зиверс. Он приехал на час, выпил с баронессой чаю в гостиной, а потом на десять минут поднялся к Фаберу.
– Вы выглядите лучше, – констатировал он, стоя у окна и глядя в парк. – Рейхсфюрер спрашивает о вашем здоровье. Он доволен, как вы держитесь.
Фабер сидел в кресле, укутанный пледом.
– Передайте рейхсфюреру мою благодарность за заботу.
– Передам. Готовьтесь. После Рождества вас ждёт возвращение к работе. Ваши исследования по картам миграций признаны крайне ценными. – Зиверс повернулся, и его взгляд стал цепким. – И ещё. Двадцать четвёртого декабря будет торжественная церемония в Рейхсканцелярии. Награждение отличившихся в этом году. Вы приглашены. Фюрер будет присутствовать лично.
Он сделал паузу, давая словам улечься.
– Это большая честь, Фабер. Не подведите. Ваше присутствие там… важно для имиджа всего «Аненербе». Для имиджа новой науки рейха. Одежда будет доставлена. Фоглер сопроводит вас.
Зиверс уехал. Фабер остался сидеть в кресле, глядя на заснеженные ветви за окном. Большая честь. Он попытался ощутить гордость, волнение, страх. Не вышло. Была только та же усталость и тихий звон в ушах, оставшийся после выстрелов. Он думал о Хельге. Где она сейчас? В каком архиве перекладывает бумаги? Злится ли на него за свой провалившийся шанс? Или уже просто старается забыть?
За день до церемонии привезли новый мундир. Безупречного кроя, с нашитыми знаками отличия гауптштурмфюрера и лентой «Аненербе». Фоглер помог ему примерить. Ткань была жёсткой, швы давили на не до конца зажившие мышцы.
– Сидит отлично, – сказал Фоглер без эмоций. – Завтра в шестнадцать тридцать я буду ждать вас у автомобиля.
Вечером двадцать третьего декабря баронесса зашла в его комнату. Она несла небольшой свёрток в тёмной бумаге.
– На удачу, – сказала она, положив свёрток на прикроватный столик. В её голосе не было ни намёка на старую фамильярность. Только ровная, гостеприимная вежливость хозяйки дома. – Завтра важный день. Желаю вам хорошо себя чувствовать.
Она вышла, не дожидаясь ответа. Фабер развернул бумагу. Внутри лежал простой чёрный галстук из тонкого шёлка. Без записки, без намёка. Просто галстук. Дорогой и абсолютно безликий, как всё в этом доме.
Он положил его обратно. Лёг в постель и долго смотрел в темноту, прислушиваясь к тишине особняка. Завтра он снова выйдет в свет. Не как ссыльный, не как больной, а как герой. И ему предстояло пожать руку человеку, чей портрет висел в каждом учреждении этой страны.
Ему всё ещё не хватало Хельги. Её молчаливого понимания правил этой игры. Теперь он был в ней совсем один.
24 декабря 1935 года. Берлин. Новая Рейхсканцелярия.
Зал для приёмов был полон. Под высокими потолками, украшенными орлами и гирляндами из дубовых листьев, стояли офицеры. Сотни человек. В основном чёрная форма СС, но были и серые мундиры вермахта, и коричневые рубашки СА. Все выстроены в безупречные шеренги. Воздух гудел от приглушённого говора и звяканья шпор.
Йоганн Фабер стоял в третьем ряду. Его новый мундир гауптштурмфюрера СС, сшитый на заказ, всё ещё пахнул сукном, сидел чужо и жестко. Под тканью, на левой стороне спины, ныло. Глупая, тупая боль, которая возвращалась при каждом неловком движении. Врачи говорили, что так и будет. Возможно, всегда.
Он смотрел прямо перед собой, в спину офицера в первом ряду. Дышал ровно и неглубоко, чтобы не побеспокоить шрам. Рядом, чуть сзади, как тень, стоял обершарфюрер Брекер, его новый сопровождающий. Фабер чувствовал на себе его взгляд, пристальный и неотрывный.
Тишина упала внезапно. Словно кто-то выключил звук. Все замерли. Потом в дальнем конце зала распахнулись высокие дубовые двери.
Вошел Адольф Гитлер.
Он шёл не спеша, один, оставляя свиту позади. Его простой френч защитного цвета резко выделялся на фоне чёрного и серого моря мундиров. Рядом с ним шагал Генрих Гиммлер, маленький, в очках, что-то беззвучно шепча.
Они двигались вдоль шеренг. Гитлер останавливался перед каждым вторым или третьим офицером. Гиммлер что-то говорил ему на ухо. Фюрер кивал, иногда задавал короткий вопрос. Его голос был негромким, резким, слова отрывистыми. Потом он вручал небольшую чёрную коробочку, иногда просто пожимал руку, хлопал по плечу. И двигался дальше.
Фабер следил за его приближением. Сердце стучало где-то в горле, ритмично и гулко. Он вспомнил, как стоял в похожем строю на плацу, будучи студентом. Как волновался перед экзаменом. Это было другое волнение. Теперь в его животе лежал тяжёлый, холодный камень.
Гитлер остановился в двух шагах от него. Фабер уставился в пространство над его правым плечом, как того требовал устав. Он видел его периферическим зрением: сосредоточенное лицо, знаменитые усы, пронзительный, блуждающий взгляд.
Гиммлер поспешно шагнул вперёд и склонился к уху фюрера. Фабер расслышал только обрывки: «…гауптштурмфюрер СС… доктор Фабер… „Аненербе“… приборы… покушение у Бранденбургских ворот…»
Взгляд Гитлера остановился на Фабере. Он смотрел на него несколько секунд, изучающе, без выражения.
– А, – наконец произнёс он. Голос был таким же, как в кинохронике, только тише. – Ваш герой, Гиммлер.
Он повернулся к рейхсфюреру СС, но глаза не отвёл от Фабера.
– Снова отличился.
Он сделал шаг вперёд. Теперь они стояли лицом к лицу. Фабер почувствовал слабый запах одеколона и кожи.
– Сначала нашёл нам сокровища, – продолжил Гитлер, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на одобрение. – Потом дал нам инструмент для их поиска. А теперь… – он слегка наклонил голову, – теперь и свою кровь отдал. Еврейская пуля только подтвердила важность вашей работы, герр Фабер. Она придала ей вес.
Он протянул правую руку. Не за наградой, а для рукопожатия.
Фабер действовал на автомате. Чёткий удар каблуками, рука к козырьку фуражки.
– Хайль Гитлер!
Он опустил руку и взял протянутую ладонь.
Рукопожатие было крепким, сухим. Пальцы Гитлера сжали его кисть с неожиданной силой. Это рукопожатие длилось не больше двух секунд. Но за эти две секунды в голове Фабера пронеслась целая жизнь. Он видел экраны своих лекций в будущем. Видел хронику, где эта же рука отдавала приказы. Видел лица людей из того поезда в 1934 году, которые говорили: «Он знает нашу боль». И теперь эта рука сжимала его, живого, стоящего здесь, в самом центре кошмара.
Гитлер отпустил его руку.
– Берегите его, Гиммлер, – сказал он, наконец отводя взгляд и обращаясь к рейхсфюреру. – Такие умы – редкость. Они соединяют прошлое с будущим. Кровь с почвой.
Он кивнул Фаберу, уже полуобернувшись к следующему офицеру.
Шедший за Гитлером адъютант дал Фаберу небольшую чёрную коробочку. В ней на красном бархате лежал Железный крест. Рядом, уже приколотая к небольшой планке, – чёрная лента знака за ранение.
– За вашу преданность и пролитую кровь, герр Фабер, – сказал он, вручая коробку. – Продолжайте. Ваша работа – тоже оружие.
И он пошёл дальше.
Фабер остался стоять по стойке «смирно». Ладонь, которую только что жал Гитлер, горела.
Торжественная часть продолжалась. Говорили речи, вручали награды. Фабер уже ничего не слышал. Слова Гитлера звучали у него внутри, как эхо в пустой пещере.
Он смотрел на спины людей перед собой. Командиры зондеркоманд, те, кто с «Эрнтегератом» обыскивал стариков и женщин. Им аплодировали.
Герман Геринг стоял в свите фюрера. Его массивная фигура в белом парадном мундире выделялась среди чёрных мундиров СС. Он улыбался, кивал, пожимал руки. Но его маленькие, живые глаза под тяжёлыми веками быстро и оценивающе скользили по строю.
Он заметил Фабера ещё до того, как Гиммлер начал что-то шептать фюреру. Узнал сразу – худощавая фигура, бледное лицо, слишком новый мундир на нём сидел, как на манекене. Геринг помнил этого выскочку-археолога. Помнил вечер в Каринхалле, когда тот одним махом обезценил половину его художественной коллекции. А потом, чтобы загладить вину, подарил идею про дипольные отражатели. Полезная идея. Но Герингу не нравилось чувствовать себя обязанным. Особенно – какому-то учёному крысе из «чёрного ордена» Гиммлера.
Он наблюдал, как Гитлер остановился перед Фабером. Слушал, как Гиммлер, подобострастно склонившись, перечислял заслуги: сокровища, приборы, покушение. Видел, как фюрер оживился, узнав «героя». Видел это рукопожатие.
У Геринга на мгновение пропала улыбка с лица. Губы сжались в тонкую, недовольную линию.
Он чувствовал, как его обходят. Всё шло не так. Войска, его люфтваффе, – это сила, это сталь и огонь. А тут – какая-то возня с древними черепками. И из этой возни Гиммлер и этот щуплый доктор делают целое состояние. «Операция Возвращение». Геринг знал цифры. Знал о потоке ценностей, который оседал в закромах СС и утекал в швейцарские банки. Он вклинился в эту схему, потребовав свою долю за транспортировку на «Юнкерсах». Но это было жалкой крохой с барского стола. А главный пирог пожирал Гиммлер.
И теперь этого Фабера, этого ключика к сокровищнице, лично жал за руку фюрер. Публично. При всех. Это был очередной триумф Гиммлера. И Геббельса тоже, чёрта с два. Министр пропаганды уже потирал руки, предвкушая завтрашние заголовки. А он, Геринг, стоял тут как почётный статист.