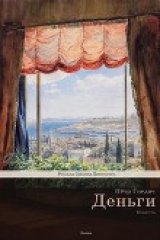
Текст книги "Деньги"
Автор книги: Петр Гнедич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
XXIII
Перед тем, как сесть на пароход, Анатолий зашёл к своей новой невесте, чтоб проститься ещё раз. Но к нему вышла Тотти и сказала, что Лена больна и принять его не может, а никого больше дома нет.
– Ах, вот как! – сказал он. – Ну-с, а я этому не верю. Я полагаю, что это ваша интрига. Я не могу у ехать, не увидев её. Я не верю вам.
– И не верьте, и не верьте! – закричала Лена, появляясь в дверях. – Я здорова. Это она уговорила меня не выходить к вам, и я по глупости, по бесхарактерности согласилась. А теперь я увидела вас в щёлку и поняла, что всё это гадкие интриги… и ничего больше.
Тотти пожала плечами.
– Вы достойны друг друга, – сказала она, уходя из комнаты.
– Я право начинаю думать, что вы здесь не гувернантка, а первое лицо в доме, – сказал ей вслед Анатолий.
– А я начинаю думать, что здесь живут одни сумасшедшие, – сказала она и пошла в сад.
Её глубоко возмущал и Анатолий, и Лена, принявшая его предложение. Она в волнении ходила по дорожке. Перед ней неотступно рисовалась Наташа. Её неудержимо влекло к ней. Она хотела прийти к ней и сказать всё, что случилось здесь, в этом наивно-патриархальном, но строго-коммерческом доме. Но она не знала, как посмотрят на её визит и не истолкуют ли его в дурную сторону: не подумают ли, что она пришла из праздного любопытства, чтобы посмотреть на покинутую невесту, и потом разнести по всему острову сплетни об истории этого разрыва.
Она села на свою любимую скамейку лицом к морю. Её зависимое положение более чем когда-нибудь давило её. Она готова была бы бежать с закрытыми глазами куда угодно, хотя не знала в сущности, на что она могла пожаловаться в семье Петропопуло по отношению лично к себе. К ней были внимательны, даже слишком внимательны: ей сразу заплатила мать за два месяца вперёд жалованье, да кроме того наделала этих платьев. Девочки любили её, Костя безмолвно таял, – сам старик был с ней грубовато-вежлив и считал её за свою. Приискать предлог уйти от них было бы трудно, да и проклятые деньги, забранные вперёд, связывали её. Она не может их возвратить, их у неё нет. А вырваться надо: она просто задыхается здесь.
Или остаться? Этот жених уезжает в Россию. Раньше, чем через месяц он не вернётся. Надо тем временем убедить девочку, открыть ей глаза. Быть может, она должна это сделать? Или пусть всё идёт своим чередом: пусть женятся, выходят замуж, обманывают людей, и самих себя, – не всё ли ей равно.
– Вы одни? – раздался робкий голос возле неё.
Она повернула голову и увидела Костю. Он стоял перед ней, весь переполненный восторгом.
– Вы видите, что одна, – сухо ответила она.
– Ах, как редко я вижу вас глаз на глаз! – с тихим вздохом сказал он.
– А зачем вам видеть меня с глазу на глаз? – спросила она.
– Когда я вас вижу одну, mademoiselle, – запинаясь заговорил он, – мне кажется, что вы… что вы дышите, и говорите, и думаете…
Он запнулся и с трудом закончил:
– Только для меня.
Она с удивлением подняла брови.
– Что? Только для вас дышу?
– Я не так выразился… Я по-русски не могу так тонко сказать, как думаю. Я не в этом смысле. Я хочу сказать: я фантазирую, я обольщаю себя мыслью… Я знаю, что я для вас – мальчик…
– Оставьте, Костя, умоляю вас, оставьте этот разговор. Если вы это знаете, – так и молчите.
– Я просил вас дать мне локон волос, – продолжал он, – а вы мне не дали…
– И не дам никогда.
– А они у меня есть, – с какой-то злобой сказал он. – Я вам покажу сейчас.
Он вытащил золотую цепочку, которую он носил на шее, и показал медальон с крестом сверху.
– Видите, видите, что здесь?
Он открыл крышку, и она увидела комочек втиснутых туда волос.
– И знаете, где я их подобрал? Вы выбросили их за окно, когда причёсывались. Скатали и выбросили. А я ждал и караулил под окном.
Она не выдержала и засмеялась.
– Вы все здесь сумасшедшие, – сказала она.
Он вдруг бросился перед ней на колени.
– Я люблю вас, – залепетал он, – люблю так, как, никогда русские не любят. Я готов ждать…
– Чего?
– Год, два, пять лет. Я буду учиться, я буду первый ученик. Но пусть я знаю, что вы – моя невеста.
– Встаньте, Костя, встаньте. Я приказываю вам встать, или я уйду.
Она встала и сделала шаг в сторону. Он припал лицом к земле и стал целовать следы её каблучков, вдавившихся в песок.
– Да полноте, – продолжала она, – как вам не стыдно!
Он вскочил на ноги и вынул из кармана маленький револьвер.
– Видите вы это? – спросил он. – Клянусь вам, что кто-нибудь из нас будет мёртв, – или вы или я.
Он повернул дуло к себе. Лицо его горело, губы дрожали. Она быстро схватила его за руку.
– Отдайте его мне, отдайте, – сказала она.
Он легко выпустил револьвер и припал губами к её руке.
– Ах, если б вы, вашей рукой убили меня, – какое было бы счастье! – сказал он.
– Я оставлю револьвер у себя, – сказала она.
– Оставьте, оставьте! – залепетал он. – Это будет вам память обо мне. Я вам и футляр дам. У меня есть на него – замшевый.
– Хорошо, вы и футляр мне дадите. Только теперь оставьте меня.
Он схватил её за руку.
– Об одном, об одном умоляю вас, – заговорил он, – поцелуйте меня в лоб. Клянусь вам, – за один этот маленький поцелуй я готов ждать месяцы и годы.
Она колебалась. Мальчик смотрел на неё влюблёнными глазами с каким-то собачьим выражением преданности.
– Наклонитесь, – сказала она.
Он двинулся к ней, схватил её руку и стал покрывать её поцелуями; она приложилась губами к его лбу, высвободила руку и повернулась, чтоб идти. На дорожке стояла Лена и смотрела на них широко раскрытыми, злыми глазами.
– Вот как! – заговорила она. – Вы читаете мораль честным девушкам, а сами завлекаете богатого мальчика. И вы думаете, я не скажу папе всего, как только он вернётся, и вы думаете он не прогонит вас, тотчас же, чтобы спасти брата?
– Довольно! – сказала Тотти. – Я сама у вас не останусь.
Лена захохотала.
– Вот как! А забранное жалованье вы можете вернуть?
– Ленка! – крикнул Костя весь дрожа. – Это – моя невеста, и если ты посмеешь сказать ещё слово…
– Что-о? – воскликнула Лена. – Она – невеста? Да кто ж тебе позволит жениться на нищей, у которой одна пара ботинок, да и то старых?
– Я никогда не была его невестой и не буду, – сказала Тотти. – Я слишком уважаю себя, чтоб ещё хоть час могла здесь остаться. Я здесь всё оставлю: мои вещи, деньги – хотите, оставлю своё последнее платье. Мне ничего вашего не надо. Долг свой я пришлю вам: наймусь в подёнщицы, но отработаю его.
Она вынула из кармана револьвер и бросила его на песок.
– Возьмите – стреляйте, стреляйте друг в друга, в меня, мне всё равно, – сказала она, – но только я ухожу от вас и сейчас же.
XXIV
Каждый нерв её дрожал, когда она вошла в свою комнату, взяла свой паспорт, положила в чемодан белье и книги, надела шляпку и накидку и села к столу написать несколько слов Петропопуло. Но руки не слушали её, и перо прыгало.
– Всё равно, – потом, когда пришлю за чемоданом.
Она вышла за решётку сада на улицу и машинально пошла по дороге, сторонясь от ослов, мерной рысцой бежавших под грузом каких-то жирных англичан. На углу, у маленького переулка, подымавшегося в гору, она остановилась.
«Куда пойти? – подумала она. – К кому?»
Она вспомнила, что Алексей Иванович говорил о «Калипсо». Она пошла к этой гостинице, поместившейся у самого моря на обрыве. Лакей во фраке долго и внимательно слушал её описание и наконец сказал:
– Очень возможно, что есть такой господин, – но почему он русский? Если это он, то он действительно тут, вот в этом номере.
Алексей Иванович радостно изумился при виде Тотти; он даже растерялся в первую минуту и, спросив, «чем обязан», расположился говорить с ней в прихожей. Но потом спохватился и пригласил в свою комнату. Только тут он заметил, как она была взволнована.
– Вас обидели? – спросил он, сжимая маленькие кулачки. – Изложите, пожалуйста, все обстоятельства.
Она стала рассказывать в общих чертах, что случилось сегодня.
– A-а! Вот как! – говорил он, слушая её. – Так и знал, так и ожидал. Конечно! Ха!
Когда она дошла до последней сцены в саду, он вдруг прыснул со смеха.
– Да, помню: юнец, с видом Горгоны прошёл тогда мимо нас. Влюбился? Гм! Что ж мудрёного? Возможно.
Она кончила и спросила его совета.
– Совета? – переспросил он. – Какого же совета? Уезжайте, уезжайте скорей. Хотите в Россию – так в Россию. Кошелёк мой тощ, но на двоих хватит, даже на первый класс. Место найти в Москве можно. Я найду вам.
Он встал и заходил по комнате.
– Ну, конечно, найду, – подтвердил он сам себя. – И вы расплатитесь с ними. Наконец, заплатите сейчас. Настолько-то хватит. Отдайте, отдайте им сейчас всё.
– Но зачем же я буду вам должна? – спросила она смущённо.
– А, Боже мой! Не всё ли равно, кому вы будете должны? Почему же я хуже грека, торгующего маслинами или пшеницей… чем он там торгует? Ну, будете должны… Отдадите, когда можете… Ведь не возьму же я с вас, чёрт возьми, векселя? Только того не доставало. Наконец я дал слово милому и почтенному архитектору, что в случае нужды помогу вам. Я не знаю, почему он там хлопочет о вас, но я дал слово и сдержу его. Хотелось бы мне ещё нарвать уши этому гречонку из одесской гимназии, – ну, да не стоит рук марать.
В конце концов они решили так. Она останется пока здесь в гостинице и возьмёт номер; завтра утром они отправятся в Константинополь и на первом же пароходе тронутся в Россию. Тотти взяла маленькую узкую комнату, в одно окно, и послала посыльного за вещами к Петропопуло. В записке она писала, что более не может возвратиться в их дом, просит прислать её чемодан и доверенное лицо, которому она могла бы вручить должные ею деньги.
Не прошло и четверти часа, как явился сам Петропопуло, переваливаясь и отдуваясь. Постучавшись в дверь и получив разрешение войти, он остановился на пороге, широко расставя ноги.
– Беглая! – заговорил он, радостно простирая к ней руки. – Это что же значит? Да как вам не стыдно?
– Вот ваши деньги, – ответила Тотти, показывая на грудку золота, приготовленную на столе, – я заняла, чтобы отдать вам долг.
Петропопуло вошёл, опустился на стул, так что он крякнул под его тяжестью и, не снимая шляпы, остановил удивлённый взгляд на молодой девушке.
– Слушайте, мадемуазель, – заговорил он, опираясь обеими руками на палку с костяным набалдашником, изображавшим орла, терзающего куропатку, – из-за каких таких скандалов вы изволили покинуть свой пост? Что-то такое вам наговорила девчонка, а мальчишка растаял, да в любви начал признаваться? Да вы – одну в угол, а другого – за вихор. Разве они могут оскорбить вас? Да что бы они ни говорили, – не всё ли одно? Я запру Ленку на три дня без еды в комнату, а Костьку совсем пускать сюда не буду. И оба они пред вами сегодня извиняться будут.
– Я к вам в дом не вернусь, – твёрдо проговорила Тотти.
– Фу, какая упрямая! Вот заладила! Да ведь у меня ещё другая есть дочь. С той-то вы ведь не ссорились? С женой вы не ссорились? Со мной вы не ссорились? Ну и чего же так кидаться на стены? Хотите прибавки жалованья? Хотите я единовременно вам подарок сделаю?
– Я не вернусь к вам, – повторила она.
– Нет, вернётесь. Я не уйду без вас. Костьку я в Константинополь сейчас спущу. А Ленка на колени станет и просить прощенья будет. Ну, мадемуазель, ну, хорошая, пожалуйста, пойдём домой. Ведь мы, ей Богу, хорошие люди. Что мы вам сделали?
– Довольно того, что вы выдаёте за этого господина вашу дочь, – вспыхнув, заговорила Тотти. – Как вы поощряете её на такой ужасный шаг! Ведь вы знаете, что он был женихом другой девушки и отказался от неё только потому, что вы богаче?
– Ну, что же, – спокойно возразил Петропопуло, – а найдёт он кого богаче меня и от меня откажется. Он человек коммерческий, даром что юрист. Я думаю его в долю взять. С его законами, ах как много барышей можно нажить!
– Ну, и поздравляю вас с барышами, а меня оставьте в покое. Я сказала, что не вернусь к вам, и не вернусь.
– Хоть проститься зайдите к жене, – не отставал он. – Ведь старуха-то ничего вам не сделала? За что же вы ей на голову наплевали. Ай, мадемуазель, нехорошо это, – совсем нехорошо!
«Почему, в самом деле, я не простилась с нею? – подумала Тотти. – Ведь она, конечно, во всём этом не виновата».
– Ну, как же? – спросил грек, помолчав.
– Хорошо, я приду проститься, – сказала она.
– Вот и превосходно. Очень рад.
Он встал и поправил шляпу.
– Может и передумаете к тому времени? – лукаво подмигивая, проговорил он. – А я бы вам приготовил браслетик что ли, чтоб глупость детскую загладить…
– Не надо мне браслетов. Я только проститься зайду. Возьмите же деньги ваши.
– А это уж вы сами старухе отдайте. Я вам не платил и получать не мне.
В дверь раздалось громкое постукиванье, и вслед за тем высунулась голова Алексея Ивановича. Он был растерян и взволнован.
– Виноват, – заговорил он, входя в комнату, – я к вам с нежданной вестью. Мареев умер.
– Какой Мареев?
– Да отец этой барышни, присяжный поверенный…
– Так мы ждём вас! – сказал Петропопуло, приподнял шляпу и вышел.
– Что такое? Я ничего не понимаю, – сказала Тотти.
– Ах, Боже мой. Ну, этот Анатолий отказался от невесты, – старик не выдержал. Паралич сердца. Она посылала за вами, вас у Петропопуло не нашли. Она спрашивает, – уехал ли этот юрист? И что ей нужно от него?.. Ну, да не в нем дело. Просят вас, – девушка растерялась.
– Пойдёмте, это ужасно, – сказала Тотти, надевая шляпку.
– Постойте, я сперва схожу к ним, – остановил он её. – Ведь вы почти не знаете их, – также как и я. Я скоро вернусь.
Его высокая шляпа мелькнула за окном и скрылась. Почти вслед за тем как он вышел, в дверь просунулась курчавая голова мальчика-носильщика, которого она часто видела на пристани.
– Madame, – заговорил он на скверном французском языке. – Вот вам велели передать. И велели сказать, что я не знаю, кто это передал.
Он сунул ей тяжёлый толстый пакет и бегом бросился прочь. Она разорвала его… Оттуда посыпалось турецкое золото.
«Неизвестный друг, – прочла она написанное писарским почерком, – просит вас, в день столь сильных неприятностей, принять приложенную ничтожную сумму. Завтра утром приедет к вам комиссионер и вручит гораздо больше. Очень мало. Неизвестный друг».
Внизу было приписано:
«Мужайтесь. Час испытаний пройдёт!»
– Бедный Костя! – сказала она.
Она пересыпала деньги обратно в конверт: тут были и турецкие, и итальянские, и австрийские монеты, была даже русская трехрублевка, – всего рублей на шестьдесят.
– Это надо завтра ему отдать через его комиссионера, – подумала она и подошла к окну. Разрезая изумрудно-бирюзовую поверхность воды, вдали виднелся пароход, выбрасывая из двух труб далёкие полосы дыма. Он шёл в Константинополь и уносил с собою двоих: Анатолия – полного надежд и ожиданий на будущее, и Костю – подавленного и разбитого судьбой. Флаг еле заметно трепетал на корме, у колёс билась пена. Контуры судна с каждой минутой становились всё неопределённее и туманнее, и всё гуще затягивала его фиолетовая дымка влажных морских испарений.
– Если бы в будущем никогда с ними не встретиться, – какое это было бы счастье, – подумала Тотти.
Часть вторая
I
Толя не помнил родителей. Тётки взяли его на воспитание едва ему исполнилось пять лет, тотчас после смерти отца. Мать умерла родами, произведя на свет Божий Толю.
Отец не любил мальчика. Мальчик был, капризный, и, когда ревел, для большей выразительности кидался ничком на пол. Кричал он до того, что изо рта выступала пена. Тётки даже думали, что он припадочный. Отец, высокий тощий инженер, с белым широким шишковатым лбом, иногда говаривал, смотря на сына:
– Не стоило матери умирать для того, чтобы подарить миру такую шельму.
Конечно, четырёхлетний ребёнок «шельмой» не был. Он терпеть не мог отца, и мало любил няньку – глупую круглолицую девицу, щипавшую его без перерыва с утра до ночи. Когда тётки взяли его к себе, припадки прекратились. Мальчик стал меланхоличен и послушен. Он аккуратно целовал ручки обеих тётушек, шаркал ножкой, пил молоко, читал наизусть при гостях Богородицу и «Попрыгунью-стрекозу», складывал остроумно составленные слоги в какой-то «популярной азбуке»: «взы, гзы, дзы», – словом, проделывал всё то, что проделывает всякий добропорядочный мальчик. Он даже похорошел у теток, и волосы его, торчавшие прежде вихрами, вдруг стали завиваться.
Если дом его отца отличался безалаберностью, то дом тёток был образец тишины и спокойствия. Обе тётки были вдовые, и обе овдовели, когда ещё были совсем молоденькими. Мужей их убили в Севастополе, во время восточной войны: вдовы остались верны памяти своих благоверных и замуж не вышли, хотя партии представлялись им не раз. До замужества они были дружны друг с другом, но теперь горе их сблизило: они поселились вместе и стали неразлучны.
Обе тётки безумно любили друг друга и ссорились с утра до ночи. Спали они в одной комнате, и та, которая просыпалась раньше, воркотнёй будила сестру. Они никогда не возвышали голоса, но пилили друг друга систематически, жгли на медленном огне, и весь день подливали в этот огонь масло. Если послушать со стороны, – это было два непримиримых врага… Они ссорились из-за шторы, из-за печки, из-за мопса, из-за кружев, из-за племянника. Ссоры их не выходили никогда за пределы благоприличия, потому что обе сестры говорили друг другу вы.
По наружности они представляли замечательную игру природы: старшая, Варвара, была низенькая и толстая. Вторая, Вероника – худая и высокая. Старшая любила улыбаться и самые неприятные вещи говорила с самой приятной улыбкой; даже ссорясь с сестрой, всегда грустно улыбалась, как бы выражая этим такое сожаление за то, что природа разрешилась созданием такого существа, как Вероника. Вероника не любила улыбаться. Напротив, выражение её лица было настолько кисло, что, казалось, она только что глотнула по ошибке карболового раствора, вместо кофе, и не пришла ещё в себя. Рассказывая о самых приятных вещах, она на лице сохраняла неизменное выражение отвращения и когда говорила:
– Сегодня погода очаровательная; я шла из церкви, – там дивно пел хор чудовских певчих – просто наслаждалась…
Глядя на её лицо можно было подумать, что чудовские певчие – её личные враги, а погода содействовала тому, что она схватила по крайней мере тиф. Знакомые давно привыкли к своеобразному способу сестёр выразить свои ощущения и находили даже некоторое приятное разнообразие в их контрастах.
Несмотря на столь различные внешние оболочки, с внутренней стороны сестры были удивительно схожи друг с другом. В принципиальных вопросах они не расходились. Вкусовые ощущения у них были совершенно одинаковы: если одна любила орехи в сахаре, то любила их другая. Если одна терпеть не могла клюквенный кисель, то и другая выражала к нему отвращение. Обе любили гран-пасианс, но раскладывали его не иначе, как по очереди: одна раскладывала, другая смотрела. Потом та, что раскладывала, уступала своё место на диване другой, а сама пересаживалась смотреть в кресло. Диван, очевидно, был привилегированным местом для раскладки.
Они были очень состоятельны, жили богато, держали своих лошадей, но выезжали не чаще двух раз на неделю. Они выписывали сорок лет подряд «Московские Ведомости», – и совсем не потому, чтоб они им нравились или чтоб они сочувствовали их направлению, а потому что ещё их отец, старый усатый генерал, всегда их читал, и сестры этой подпиской как бы чтили память отца. Когда умер Катков, они перепугались: а вдруг газета больше выходить не будет, – и только выход последующих номеров их успокоил. Книг они почти не читали. Библиотека у них осталась ещё от отца и от матери, – и там были больше поэты тридцатых годов, да маленькие альманахи с гравюрками на стали. Иногда по вечерам они рассматривали эти гравюрки и сообщали в сотый раз друг другу одни и те же впечатления.
– Смотрите, Варенька, какие страшные глаза нарисованы у этой девушки, даже глядеть неприятно!
– А там дальше, Вероня, будет мужчина в армейском мундире с такими же глазами.
От сестёр веяло стародавней эпохой. Они овдовели и вступили в самостоятельную жизнь свободными, ни от кого не зависимыми женщинами как раз в эпоху сильнейшего подъёма общественного духа, после Севастополя. Но эпоха скользнула по ним совершенно бесследно, как вода скатывается с жирных перьев гуся, не приставая к ним. Живи они при Екатерине, при Петре Великом, при царе Фёдоре – они жили бы совершенно так же: так же бы заботились о чистоте двора, о кормлении племянника, так же считали бы деньги, – и разница была бы только в том, что не резали бы купонов, а зарывали сундучки в саду, под деревьями. Они были по-своему образованы: говорили по-французски и по-немецки, но знания свои никогда к жизни не применяли. У нас, в России, очень часто только затем учат французскому языку детей, чтобы, выросши, они отличались этим от прислуги, и чтобы, когда прислуга ходит кругом, господа могли между собою говорить тайны, в которые смерды не должны проникнуть. И обе сестры всегда при горничной говорили по-французски, хотя скрывать им решительно было нечего.
Дом у них был свой собственный, с большим старым садом, на окраине Москвы. При доме были службы, жило много прислуги, был старый глухой дворник, старый кучер, старые лошади, старая цепная собака. Всё это дряхлело, дармоедничало, ссорилось, кусалось, лягалось, хрипло лаяло, – всё напоминало старый помещичий дом. Аккуратное хозяйство и неприхотливые потребности сделали то, что полвека прошло для сестёр при тех же самых экономических условиях, – на зависть всем родственникам и соседям. Иногда, Варвара – старшая из сестёр, стоя на коленях перед старинным киотом, молилась вслух, со слезами на глазах:
– Благодарю Тя, Господи, что допустил мя жизнь прожить болярыней, – в довольстве, в богатстве, и возвеличил мя над людьми. Не возношусь сим, но смиренно кланяюсь Ти.
И она кланялась в землю и долго лежала ничком, приложившись лбом к полу и проливая слезы умиления.
На дачу сестры не ездили. В их саду росли и яблоки, и малина, и вишни. Их было так много, что садовник пудами и сотнями продавал их в лавки, и никто этого не замечал. Сад был тенистый, и в нем был даже фонтан, впрочем, не бивший. На площадке перед террасой летом разбивалась палатка, и обедали обыкновенно «на воздухе». Вокруг благоухали цветы – особенно резеда и душистый горошек. Откуда-то издалека слабо доносился гул городской жизни: то стуком колёс, то гудением на фабрике, то свистком жалкого пароходика, бегавшего по Москве-реке, и напоминал, что всё-таки они обитают в огромном полуазиатским городе, где бьётся пульс, где люди живут, работают, к чему-то стремятся, чего-то хотят. Чего хотят, – это сёстрам было ясно: «есть хотят»; поэтому и снуют, и бегают, и торопятся, и грызут друг друга. А у сестёр есть чем прожить жизнь – и поэтому они отделились от мира высокой каменной оградой и считали всё то, что помещается за ней далёким, ненужным для себя, недостойным внимания.
Впрочем, однажды, они собрались за границу. Толю они сдали временно в один приготовительный пансион, где, по уверению начальника, надзор за мальчиками был несравненно лучше, чем дома, а сами отправились, в сопровождении компаньонки, – опытной дамы, – в Карлсбад, куда посылали Варвару врачи, – а до Карлсбада – в Париж. Поездку они постарались устроить так, чтобы как можно меньше было встреч с людьми. Вперед они записали отдельные помещения в вагонах и торопливо проходили по вокзалу, стараясь не глядеть по сторонам. Они голодали, но не выходили из вагонов, довольствуясь взятой из Москвы провизией. Тогда ещё вагонов-ресторанов не было, и приходилось обедать на станциях. Компаньонка, что можно, приносила в вагон, но до Берлина сестры так ни разу и не вышли. В Берлине они, подъехав в карете к отелю, не выходя из неё, договорились о цене комнат, закрывши лицо добрались до подъёмной машины, а оттуда по тёмному коридору – до своих комнат. Там они безвыходно прожили два дня, отдыхая от перенесённых волнений. Потом взяли карету, спустили с одной стороны окно и поехали по Unter den Linden смотреть Бранденбургские ворота. Тихая, ровная езда очень им понравилась, и вообще обе сестры решили в голос:
– Чисто, чрезвычайно чисто!
При этом одна расплывалась в радостную улыбку, точно встретила давно желанных родственников, а другая смотрела мрачно и, казалось, ненавидела и Германию и германцев.
Отдохнув ещё день от этой прогулки, путешественницы тронулись дальше. До Парижа они доехали благополучно и на другой же день решились, ехать смотреть гробницу Наполеона. Почему их так тянуло к Наполеону – неизвестно, но старшая всё время твердила:
– Непременно надо поклониться праху.
Они поклонились. Затем поехали смотреть Булонский лес и нашли в нем сходство с Петровским парком. Сходство это тем более было полное, что в открытом ландо им попались навстречу два московских фабриканта, из которых один всё порывался спеть: «Не белы снеги», а другой его удерживал. Далее осмотр перешёл на модные магазины, и через неделю они были уже в Карлсбаде, где обе стали лечиться и негодовать на кухню, которая была несравненно лучше в их Хамовниках.
Поездка эта успокоила сестёр окончательно. Прежде они говорили:
– Умрёшь – ничего не увидишь.
А теперь спокойно объясняли:
– Знаете, ничего интересного. Правда, в Берлине очень чисто. Но в Париже толпа совсем буржуа, и такая развязная. А в Карлсбаде кормят совсем неприятно, – особенно после нашей кухни.








