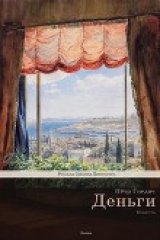
Текст книги "Деньги"
Автор книги: Петр Гнедич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
XIV
Петропопуло и Тотти пошли в дверь, выходившую прямо, без подъезда, на улицу, и очутились в полутёмной прихожей, с мохнатым, толстым половиком, на котором было написано: «salve». Они поднялись во второй этаж и вошли в большую гостиную, с зелёными, закрывающимися изнутри ставнями, с белыми обоями и старой люстрой, дребезжавшей постоянно, даже от пролёта мухи. Но стенам висели картины, изображавшие синие горы, белые дома и мутную, необычайно спокойную воду, по которой плыли лодки с людьми, обладавшими головами совершенно неестественной величины. Штор и портьер на окнах не было; мебель была золочёная с обивкой, тщательно обвёрнутой газетными листами с мелкой греческой печатью. Из этой комнаты они перешли в столовую, имевшую вид самой общеупотребительной столовой. С потолка спускалась лампа с гигантским колпаком. Под ней стоял стол на толстейших дубовых ножках. У стены приютился буфет, на котором по очевидному недоразумению были изображены Гуттенберг и Данте, бережно охранявшие вместилище водок и пряностей. Рядом висели неизбежные часы с длиннейшим маятником, отбивавшим такт с удивительным достоинством. Рядом с часами красовалась большая картина, изображавшая пристреленных зайцев, уток с лазурными головками и огромные куски сырого мяса. В pendant[8]8
Pendant (фр., предмет, парный с другим) – вещи или понятия, дополняющие друг друга и создающие симметричное или гармоничное целое. В панда́н – под стать, в пару.
[Закрыть] этому изображению, на другой стене была представлена группа плодов, из которых особенное внимание обращал арбуз, до того красный, точно внутри его пламенел пожар. Что хозяева имели связь с Россией, видно было по тому, что на чайном столе блестел самовар красной меди, несомненно тульского производства, а над ним – карта русских железных дорог, вся посеревшая от мух, толпами бродивших по всем стенам и потолку.
– А где же моя комната? – спросила Тотти.
Вопрос этот показался Петропопуло очень смешным. Он расхохотался во всё горло, так что девушка даже вздрогнула.
– Ваша комната рядом с комнатой моих дочерей, – пояснил он, хотя это ей решительно ничего не объясняло.
Его голос разносился перекатами по пустым покоям. Двери были открыты настежь, и длинная анфилада была освещена боковыми лучами утреннего солнца.
В квартире, очевидно, никого не было.
– А где же ваши? – несмело спросила девушка.
Петропопуло опять покатился со смеху.
– Разве летом кто-нибудь живёт в Константинополе? – спросил он.
Она даже потерялась.
– Так где же они?
– Они на Принкипо. На Мраморном море. Там у нас вилла своя. Знаете Принкипо? Рядом с Халки.
Но она не знала ни Принкипо, ни Халки и испуганно-удивлённым взглядом смотрела на грека.
– Как же я туда попаду? – спросила она.
– Вы на пароходе туда поедете. Вот напьёмся кофе, и вы поедете. Вас проводят. А в Константинополе теперь никто не живёт. Я сам каждый день, как закрою контору, еду домой. Вас ждут там очень нетерпеливо. Вы к самому завтраку поспеете.
Старый грек в сером пиджаке и переднике внёс самовар, яйца и ветчину.
– А ну-ка, заварите чай, – скомандовал Петропопуло. – Ну, ну, живо. Вы совсем как дома будьте и слугам приказывайте всё, что хотите. Совсем, пожалуйста, не стесняйтесь. А то, ей-Богу, назад вас отправлю.
Он проглотил два яйца, несколько кусков ветчины, выпил стакан чаю со сливками, похлопал себя по чреву, так что медальоны зазвенели, как бубенчики на пристяжной, и сказал:
– Теперь в контору пора. Вы, барышня, оставайтесь здесь, пойдите по всем комнатам, всё посмотрите. А я пришлю за вами сына.
Он подал ей потную, жирную волосатую руку, предварительно накрыв себе голову шляпой, взял толстую палку и пошёл к двери.
– Я вам пришлю сына Костю, – сказал он. – Так, пожалуйста, то, что я вас просил. Не позволяйте ухаживать ему, очень прошу.
– Вы меня оскорбляете, – подняв голову, сказала она.
Петропопуло снова залился смехом. Он даже сел на стул у самой входной двери, чтоб удобнее было смеяться: уж очень ему показалось смешным замечание гувернантки. Потом утёр глаза платком, высморкался, махнул рукой и вышел.
Тотти видела в окно, как он показался, из двери и пошёл, не оглядываясь, по самой середине улицы. Все прохожие тоже шли по середине, очевидно, так было принято. Напротив помещался оптический магазин, и огромное пенсне, вместо вывески, торчало над входом, такой величины, как делают золотые крендели над немецкими булочными.
Она повернулась и пошла из комнаты в комнату. Пыль везде лежала густыми слоями. Видно было, что прислуга, пользуясь отсутствием господ, убирала комнаты не чаще раза в неделю. Убранство дома было с претензиями на моду. Попадались ширмы с наивно-глупыми цветами, огромные зеркала; было два рояля и пианино, да ещё на угловом столе стоял аристон. Книг мало было заметно: на всю квартиру приходился один книжный шкаф, да и то в нем на верхней полке стояли севрские пастушки и маркизы, а на нижней полке лежали разбросанные тома Пушкина и два романа с специфическими заглавиями: «С брачной постели на эшафот» и «Руки, полные золота и крови».
В доме была полнейшая тишина. Только на одном окне сидел чахлый котёнок и с голода ловил на стекле мух, пережёвывая их с несомненным аппетитом; он иногда стукал лапками о стёкла, и они слабо звенели. Тотти спустилась вниз. Внизу комнаты были совсем пустые, и только в одной стояла прислонённая к углу старая швабра, и рядом с ней на полу лежала сломанная дверная медная ручка.
Под окном раздавались крики. Нагруженные мулы тащили какую-то кладь. Кричали погонщики, извозчики, продавцы. Наискось строился дом. Он был обнесён забором, и густые белые облака пыли поднимались клубами, как пар из машины. Она поняла, откуда этот белый известковый слой на всех вещах второго этажа.
Дышалось здесь тяжело. Пахло краской, затхлостью. Ей захотелось на воздух. В это время послышались шаги, звонко раздававшиеся в пустых комнатах. Она повернулась к двери. Вошёл молодой человек, одетый так, как одеваются англичане для лаун-тенниса. Он поклонился почтительно, густо покраснел и сказал по-русски:
– Mademoiselle для моих сестёр, не правда ли?
Она сказала, что правда.
– Меня прислал отец, – продолжал он, всё гуще наливаясь кровью, – и приказал взять вас… То есть не взять, а пригласить поехать со мной на Принкипо, чтоб поспеть к завтраку.
Он опять поклонился. Хотел ещё что-то сказать, но запнулся и ничего не сказал.
– Когда же мы едем? – спросила она.
Он вытащил из кармана панталон чёрные часы.
– Через одиннадцать минут, – проговорил он. – За вашими вещами уж пришли… извините – ждут.
Он потупился, искоса глянул в зеркало, потрогал верхнюю губу, как бы желая удостовериться, растут ли у него усы, осмелился вдруг прямо глянуть на девушку и спросил:
– Вы переодеваться будете?
– Зачем? Я в этом поеду.
Он мучительно замолчал, потирая большие красные руки с обкусанными ногтями.
– В таком случае, – сказал он, – быть может, вы… наденете сейчас шляпку? Нам придётся идти пешком. Лошади уехали.
– Мы куда же пойдём пешком?
– Извините, на вокзал.
– Мы поедем разве по железной дороге?
Он переконфузился совсем.
– По подземной, – едва выговорил он.
– Как по подземной?
– У нас есть такая… Соединяет Перу с Галатой. Это будет два шага: сейчас за кладбищем.
Пока она надевала шляпку, Костя дожидался её внизу, упорно смотрясь в зеркало. Она очень мало понимала – куда едет: Принкипо против Халки, по подземной дороге, – на Мраморное море; лошадей нет, до вокзала пешком. Но мальчик был, по-видимому, удивительно скромен, и будущая семья её принципалов начинала вырисовываться перед ней в благоприятном свете.
Когда она спустилась вниз, под вуалью, с зонтиком и в перчатках, Костя всё ещё вглядывался в зеркало, то откидывая голову назад, то приближая её к самому стеклу. Виски его были вздуты и пульсировали усиленно, весь он был в нервной ажитации.
– Я готова, – послышалось сзади его.
Он быстро повернулся.
– Ах, простите, такое невежество!
Он сорвал с головы шляпу, опять надел, поклонился два раза в стену, повертел палочкой и сказал:
– Если позволите, то, пожалуйста, пойдёмте.
Они вышли на улицу. Она заметила, что он сразу вышел на середину.
– Mademoiselle! Пожалуйста, здесь идите, – предупредительно сказал он. – По самой середине, здесь очень хорошо.
– А отчего же никто не ходит у вас по бокам? – спросила она.
Он стыдливо потупился.
– Невозможно, mademoiselle! Как же можно идти сбоку.
Ей стало весело, она старалась заглянуть ему в лицо.
– Разве это тайна?
Он вдруг остановился.
– Видите, – сказал он, показав на какое-то окно.
Она посмотрела.
– Вижу, окно.
– А под ним?
– Стена, грязная, с потёками.
Он хихикнул.
– Ну, вот, как же можно идти возле стены?.. Здесь, mademoiselle – ещё Пера, а в Галате и Стамбуле… Там из каждого окна выливают на улицу… всё, что не нужно.
Она не продолжала больше расспросов, и они пошли молча. За решёткой, под тенью задумчивых кипарисов, тихо дремало в утренней прохладе небольшое кладбище. Две турчанки в белых покрывалах сидели склонившись у мраморных тумбочек. Покрывала золотились на солнце; внизу на них лежала лиловая сеть листвы. Тотти с любопытством взглянула в сад. Её спутник опять хихикнул.
– Жёны, – сказал он.
– Чьи жёны?
– Турецкие.
Сын очень напоминал отца и лицом, и манерами, только не хохотал громко, считая для этого себя слишком молодым, а смеялся так тихо, точно у него на лице была подушка. Ноги у него были длинные, шея длинная, но в будущем можно было ожидать такой же толщины, как у его отца.
– Вы, mademoiselle, туннеля не боитесь? – спросил он.
– Не знаю, – сказала она.
– Там огонь горит.
– Какой огонь?
– Лампы, чтоб темно не было. Там не страшно. Много народу. Я люблю в туннеле ездить. Так скоро. Сядешь, – и сейчас у Нового моста.
Он заплатил несколько грошей за вход, и они поместились на скамейке вагона. Он осторожно отодвинул свою ногу, чтоб не коснуться её платья, и спросил:
– Вам не страшно?
Она сказала, что нет.
– Сёстры не любят здесь ездить, – неожиданно припомнил он.
Вагон загрохотал в темноте. Турок, седой, с втянутыми щеками, сидел против неё, держа в охапке какой-то мешок с чем-то живым, шевелившимся. Ей этот турок, с живым товаром, показался страшнее туннеля. Она хотела спросить у своего спутника, что у него в мешке, но не решалась.
Они опять вышли на яркое солнце. Синие волны Босфора катились перед ними. На Новом мосту было движение, точно была вербная суббота: ехали в каретах, верхами, на ослах, в колясках, – и все под белыми зонтиками, закрываясь ими от палящих солнечных лучей.
– Здесь пристань, здесь, mademoiselle, – сказал Костя, и они спустились с моста вниз, к дымящемуся пароходу.
XV
Молодой человек, вероятно, был приучен отцом к точности и аккуратности, потому что они пришли как раз к отходу парохода. Она невольно смотрела на сказочную панораму Стамбула, плывшую мимо неё. Глаза её расширялись, ноздри раздулись. Она смотрела на тёмную зелень садов, на киоски и мавзолеи, на стройные минареты, на мягкие линии плоских куполов. А Костя исподтишка смотрел на неё, изучая её головку и думал:
«Отец любит большой нос, и мать любит, и сестры любят. Они потому так любят, что у них у самих носы, как башня Леандра. А я не люблю. То ли дело, как у этой гувернантки. Ах, красавица! И брови как червячки тоненькие, – а у мамы – с банан толщиною. Фу, нехорошо!»
– Нравится, mademoiselle? – спросил он её.
– Ах, ещё бы! – откликнулась она.
– Вот мы с вами как-нибудь поедем, – заговорил внезапно он, – поедем Святую Софию смотреть, Ахмедис, базар…
Он вдруг осёкся.
– А только нас с вами не пустят… – прибавил он.
– Отчего?
– Разве сёстры попросят.
– А вы любите сестёр?
– Ничего. Сёстры хорошие. Они глупые ещё.
– Отчего же глупые?
Он потупился.
– Ещё не понимают ничего. А только они хорошие. Гувернантка, что жила до вас, любила очень их.
– Она замуж вышла?
Он нахмурил брови.
– Да, за табачного фабриканта. Она – пустая женщина.
– Отчего пустая?
– Оттого, что за богатого пошла. Первый богатый, кто подвернулся, за того и пошла. Отец хотел, чтоб он на сестре женился. А сестра совсем не хотела: ему сорок пять лет, и он в оспе.
– Как в оспе?
– В рябинах. А Марья Петровна пошла. Как он сделал предложение, так и пошла. Деньги показали, она обрадовалась.
– А вы денег не любите?
– Нет. Я идеалист. Да и что мне деньги любить? У отца денег много. Он всегда даст сколько надо. А самому наживать – не надо. Я бы женился на девушке, которую люблю, и всё бы ухаживал.
Ей хотелось спросить: «Вы влюблены?» Но она нашла неудобным поддерживать этот разговор и потому сразу перевела его на другую тему.
– А это что за башенка? – спросила она, показывая на белое здание.
Он радостно усмехнулся.
– Это Башня Девушки.
– Какой девушки?
– Она принцесса была и жила здесь. Ей предсказано было, что её насмерть змея укусит. Она, mademoiselle, испугалась и в башне заперлась. И ей всё-таки злодеи змею дали, змея её ужалила. И вдруг пришёл её жених, молодой принц, и стал сосать рану, и высосал яд, и она стала здорова, и они женились, и стали счастливы.
Она взглянула на него и подумала:
«В самом деле, он не сегодня-завтра женится».
– Вы учитесь где-нибудь? – спросила она.
Он вздрогнул.
– Я зимою в одесской гимназии. В седьмом классе. Только я не вернусь больше туда.
– Отчего?
– Не тому учат, чему надо. Мне бухгалтерию надо знать, а не алгебру. И отец согласен: говорит, пусть сёстры учатся, приятно, когда барышня образована. А мужчине такое образование не нужно. Я вот по своему делу специально занимаюсь, и отец, mademoiselle, очень мною доволен. Он мне говорит: как я до двадцати одного года доживу, так он на вывеске сына прибавит. Знаете, будет «Петропопуло и сын». Это очень приятно. Тогда я одинаково с ним вексель могу выдавать и штемпеля прикладывать. Ведь мы очень богаты. За каждой сестрой отец миллион даёт, mademoiselle, и пай в деле, а после смерти – по миллиону каждой. А мне три миллиона.
– А вы говорите, денег не любите, – засмеялась она.
Он воспалёнными глазами посмотрел на неё.
– Я деньги, все свои миллионы, положу к ногам той, которая мне будет женою, – торжественно сказал он.
«Пожалуй, с ним нелегко будет ладить», – подумала Тотти и стала смотреть на тонувший в опаловом тумане Стамбул, как кружево сиявший куполами и минаретами на солнце. Она перевела глаза на флаг, шумевший над ними, и увидела белый полумесяц в красном кругу. «Я под охраной Турции, – продолжала она свою мысль, – с этим молодым греком, одна, несусь по волнам Мраморного моря. Как это странно!»
Когда глаза её встречались с Костиными, он опускал веки вниз и чертил палочкой по палубе какие-то зигзаги. Пассажиров на пароходе было мало: в эту пору дня больше едут в город, нем из города, ехавшие читали утренние газеты. Иные совмещали приятное с полезным и, занимаясь политикой, предоставляли свои ноги во власть чистильщикам, которые ваксили сапоги с удивительным рвением. Армянская и греческая речь преобладала; турецкой совсем не было слышно. Два молодых англичанина, с крохотными бачками и огромными биноклями, ехали в сопровождении грека-гида, который что-то безбожно врал о каких-то каменоломнях эпохи римских цезарей. Между собой они перекидывались по-английски, а с гидом – по-французски. И гид и они говорили прескверно, но это их не смущало.
Вдруг будущий миллионер заметил кого-то на палубе и, извинившись перед своей спутницей, исчез. Через минуту он вернулся, неся огромную палку рахат-лукума.
– Не желаете ли, mademoiselle, – сказал он. – Самый свежий – сегодня ночью делали.
– Нет, спасибо, я по утрам не люблю сладкого, – ответила она.
Он с изумлением посмотрел на неё, подумал, и вдруг швырнул рахат-лукум за борт.
– Вот тебе раз! – засмеялась она. – Вы, кажется, обиделись на меня?
– Чего ж мне обижаться! А только если вы не хотите, так чего ж я повезу его?
– А знаете, это нехорошо, что вы сделали, – проговорила она.
Он вздрогнул и насторожился.
– Почему нехорошо?
– Потому что это напоминает бесшабашность купца: я, мол, капиталист – пусть добро тонет; не желаю, только бы характер показать.
– Да ведь это стоит пустяки!
– Всё равно. Важно то, что вы это сделали, а стоит ли это сто тысяч, или сто копеек, – безразлично. Если я не могу есть так рано ваши сласти, всё-таки не следует швырять их в воду: отдали бы вон мальчику, что сапоги чистит, – он был бы счастлив.
Костя вскочил, хотел что-то сказать, опять сел, переложив ногу на ногу, потом виновато посмотрел на Тотти и вдруг сказал:
– Не сердитесь, пожалуйста.
Ей стало его жалко. В глазах его только-только не стояли слезы. Он был в таком настроении, что, скажи она слово, он бы нырнул в воду за этим рахат-лукумом.
Она протянула ему руку. Он схватил её и крепко пожал.
– Простите, простите, – повторил он.
Она отдёрнула её.
– Вы сумасшедший, – зачем вы мне так стиснули пальцы?
Он хотел что-то сказать, но ничего не сказал, поглядел по сторонам, и потупился.
XVI
Принцевы острова, куда направлялся их пароход, представляли из себя ряд пологих гор, выставивших свои лесистые вершины из голубых вод Мраморного моря. По берегам ютились белые, жёлтые и пёстрые домики. Купы деревьев то взбегали на гору, то скатывались вниз и жались к самой воде. В иных местах отвесные берега кручами обрывались в море. От всего пейзажа веяло довольством, спокойствием, мирной тихой усладой. Казалось, сюда собрались люди, любившие и природу и друг друга и согласившиеся уйти из городов и жить здесь, под шёпот ласковой волны, – в виду этих далёких лиловых гор, что амфитеатром громоздились на малоазийском берегу и убегали куда-то вдаль к югу, искрясь в горячем воздухе полудня.
Пароход подошёл к пристани. Опять подскочат носильщик, но уже не турок, а грек. Он униженно поклонился молодому Петропопуло, и Тотти по этому поклону поняла, что почтённая фирма и здесь пользуется большим уважением.
Молодой человек объявил, что здесь они тоже пойдут пешком, и они пошли по гладкой, утрамбованной дороге, между пирамидальных тополей, кипарисов и олив. Тут был целый городок чистеньких беленьких дач с зелёными ставнями, с башенками, киосками и густолиственными садами.
– Это всё богатые греки, очень богатые греки, – сообщал Костя. – В Константинополе очень много богатых греков. Все в Галате торгуют, и в Пере, и в Одессе. Очень хорошо, очень хорошо.
Он даже причмокнул, по греческому обыкновению, что обозначало высшую степень похвалы.
У белого двухэтажного дома с башенкой они остановились и вошли в ворота с чугунной решёткой. В одном из окон колыхалась кружевная занавеска, и слышались молодые звонкие голоса. Костя ввёл гувернантку в залу – светленькую, с будуарной мебелью – и, постучав в соседнюю дверь, сказал:
– Лена, Фанни, я mademoiselle привёл.
Из двери показалась золотистая голова в папильотках, мелькнули весёлые глазки, кто-то пискнул, и всё скрылось.
– Это Фанни младшая, – пояснил Костя. – Они ещё не одеты.
– До сих пор? – удивилась Тотти. – Они так поздно встают?
– Нет, они встают рано: но с восьми до двенадцати пьют кофе и не могут одеться.
Дверь опять приотворилась, и выглянула другая голова, потемнее, но тоже в папильотках.
– Mademoiselle, идите сюда, – заговорила она, – вы извините, что мы в таком виде. Мы не ждали вас так рано. Ах, Фани, какая она хорошенькая!
Тотти очутилась в светлой голубенькой комнате с двумя смятыми постелями, двумя туалетами и с портретами греческого короля и королевы над диваном. У дивана стоял большой круглый стол, вокруг несколько кресел. Всё это было завалено чулками, юбками, полотенцами, кофточками, перчатками, шляпками, словно тут шла опись имущества. Между всем этим хламом кипел спиртовой кофейник, и пламя его метнулось в сторону, когда отворили для Тотти дверь. Пахло цветами – они стояли тут же в вазе – кофе, духами, и тою свежестью, которая даёт неуловимый аромат в комнате, где живут молодые, здоровые девушки. Лена была в розовенькой кружевной кофточке, накинутой прямо на шёлковую рубашку, – а Фанни была даже без кофточки, и её смуглые обнажённые руки были закинуты назад: она расплетала себе косу.
– Вы не сердитесь, mademoiselle, что мы неряхи, – заговорила Лена, – видите какая гадость. Но если вы будете кричать на нас, мы исправимся. А теперь можно вас поцеловать?
Она по-детски положила руки ей на плечи и звонко поцеловала её в самые губы.
– И меня, – сказала Фанни, показывая крохотные беленькие зубки. – Вы – прелесть какая. Вы сейчас здесь выйдете замуж, как наша прежняя гувернантка.
– Садитесь, садитесь, – говорила Лена, сбрасывая со стула на пол чулки, корсеты и длинные тесьмы пояса с подвязками.
– Зачем же вы всё это валите на пол? – остановила её Тотти.
– Чёрт с ними! Потом подымем.
Она отбросила ногой под диван всю упавшую груду и схватилась за кофейник.
– Наливать вам кофе? Наливать, а?
– Стойте, стойте, – заговорила Тотти. – Вытаскивайте сейчас из-под дивана, что вы туда засунули. Что за беспорядок… Ну!
Лена взглянула на сдвинутые брови новой гувернантки, гибким, детским движением стала на четвереньки и полезла под диван.
– Мы всегда ведь так, – подтвердила Фани. – У нас ужас что такое! Это от мамы. Мама такая же. Она пьёт чай, а в руках башмак держит вместо сухаря…
Она вдруг ринулась к окну и, припав к щёлке, сбоку занавески, заговорила шёпотом:
– Лена, Лена! Иди скорей! Опять он здесь!..
Лена одним прыжком выскочила из-под дивана и кинулась к окну.
– Где? Где? – спрашивала она, тоже заглядывая в щёлку. – Mademoiselle, идите сюда скорей, идите, – смотрите, какой хорошенький итальянчик.
Тотти увидела сидящего у окна, черноволосого, смуглого брюнета в пунцовом галстуке и фланелевом пиджаке.
– Mademoiselle, – правда, душка? Он вам нравится? А? Нравится?
Тотти взяла их за руки и оттащила от окна.
– Как вам не стыдно, – заговорила она, – молоденькие девушки и переглядываетесь с какими-то итальянцами. Уж вы, пожалуйста, при мне этого не делайте.
– Отчего же? – наивно спросила Фанни. – Он пассия Лены, и она хочет за него выйти замуж. Только он совсем бедный. Он чем-то где-то служит и ничем не торгует. А папа иначе, как за хорошего купца не отдаёт.
За дверью послышался стук.
– Mademoiselle, – раздался голос Кости. – Вас мама к себе просит.
– Ну, я с вами ещё поговорю, – сказала девицам Тотти и вышла, к молодому человеку.
– Мама ждёт вас, – повторил он и повёл её чрез несколько комнат в угловую, у которой не было четвёртого угла: он был закруглён. Там, в больших креслах, сидела необыкновенно толстая женщина, с тройным подбородком и добренькими глазками. Кроме глазок всё у неё было чрезвычайно внушительных размеров. Из её бровей можно было выкроить пять пар обыкновенных; носа тоже хватило бы штуки на три. Грудь, живот, шея, – всё это было необыкновенно жирно, и вся она представлялась огромным мешком, прислонённым к креслу.
Когда Тотти подошла к ней, она внимательно на неё, посмотрела, потом показала пальцем на щеку и проговорила:
– Поцелуйте меня сюда, душенька.
Та поцеловала.
– Очень рада, душенька.
Лицо её не выражало радости и смотрело на неё, как плохо сделанная кукла.
– Что же вы стоите? Сядьте, душенька. Вы кофе заваривать умеете?
– Я приехала на должность гувернантки, – сказала Тотти хмурясь.
– Я знаю и очень рада. А я спрашиваю, умеете ли вы кофе варить?
– Нет не умею, – почти со злостью ответила она.
– Скажите, как жалко! У нас прескверно варят кофе. Я турецкого не люблю, а люблю по-русски, – не только со сливками, но и с пенками. Вы любите пенки, душенька? Что же вы молчите?
– Я право не знаю, что вам ответить, – возразила Тотти. – Я думала, что вы поинтересуетесь тем, что я буду делать с вашими дочерьми?
– С дочерьми вы ничего не поделаете. Они и без вас по-французски говорят лучше, чем по-гречески. А вот смотрите, чтоб в окне не торчали. Торчат, да на всех глаза таращат.
Тотти, присевшая было, встала. Она хотела сказать: «Я не могу взяться за такую должность, извините, я не останусь у вас», – но вспомнила, что у неё в кошельке всего три рубля с копейками, и снова бессильно опустилась на диванчик.
– А мужу не позволяйте за собой ухаживать, – продолжала старуха. – Он такой прыткий, даром, что дочери невесты.
– За кого вы меня принимаете? – спросила она.
– Я душенька говорю с вами откровенно, а вы обижаетесь. Это совсем лишнее. Я принимаю вас за хорошенькую девочку и потому знаю, что за вами ухаживать начнут. А вы сейчас ко мне. Я даром что сижу целые дни в креслах, – я ведь рассердиться могу. А когда я рассержусь, очень нехорошо бывает. Поцелуйте меня, душенька, ещё раз и идите к девочкам, да пугните их хорошенько.








